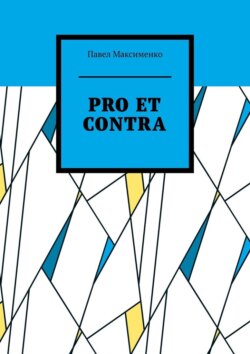Читать книгу PRO ET CONTRA. Вольные рассуждения о русском радикализме - Павел Максименко - Страница 8
I
ВЗГЛЯД СВЕРХУ
b) Церковь
ОглавлениеНи одна картина консервативной России не была бы полной без очертания роли Церкви. Более того, тема станет понятной, если учесть, что многие из ведущих членов радикальной интеллигенции шестидесятых были сыновьями священнослужителей, которые провели свои ранние годы в среде, в которой православие было таким же фактом, как климат и история.
Отношения, которые преобладали между Церковью и государством в России известны. Их характер не был особенным в России, ибо в той или иной форме она поставила в неловкое положение все Церкви на протяжении всей своей истории: «это старая история, которая всегда остаётся новой». В девятнадцатом веке в России эти отношения быстро свели Церковь с реакцией и ее официальной троицей «православие, самодержавие, народность». Таков был неоспоримый факт, более прискорбный на самом деле как исторический комментарий к природе Церкви или природе человека, чем неверующие заставили бы нас поверить. Однако моя задача обсудить, какая «внутренняя истина» Церкви может означать, что на фоне такого положения вещей есть обеспокоенность главным образом причинами, которые заставили людей реагировать на Церковь в том виде, как они это делали, а не с какими-то попытками замаскировать признанную или непризнанную слабость Церкви в тайне своей трансцендентной непогрешимости.
Историк русской мысли, Василий Зеньковский, показал интеллектуальное развитие России после Петра I как постепенную поляризацию в сторону либо религиозного, либо церковно-традиционного православия, с одной стороны, или, с другой стороны, радикализма различных толков. Радикалы, по словам Зенковского, сохраняя утопическую привязанность к «Царствию Божьему на земле», оставили Церкви опасные и катастрофически провалившиеся заклятия светского характера или материалистических и «имманентных» отклонений.
Эта интерпретация, разработанная другими учеными, а также Зеньковским, основана на своеобразном заблуждении. Осмыслен факт, что именно Церковь сдалась секуляризму, полагаясь на то, как это все чаще бывает с материальной мощью и с существующим социальным порядком, и определяется, как оно есть, тяжелым весом внешних обстоятельств. Быть членом Церкви для сильного изменения тех самых качеств, которые делают для секуляризация, для подчинения человека обществу с его делом, иллюзиями и притворством, в то время как разногласия и отступление от Церкви выражало отношение духовной независимости и верность правде. Секуляризация была не столько отступлением от Церкви, как процессом внутри Церкви. «Меня так тошнит от плоских Панегирик, доставляемых мне в каждом городе», – Александр I писал Прокурору Священного Синода в 1817 году, – «что я решил запретить эту практику указом Священного Синода». Но практика, с ее неисчислимыми возможностями, была возобновлена к концу царствования Александра I и продолжала неослабевающую деятельность до революции. Это был даже не случай просто добровольного отречения от морального авторитета, и не просто переход к замкнутой церковной деятельности – отношения, которые могут быть законно приняты в рамках светской не-религиозности или антирелигиозным обществом, где Церковь передает свое послание своим существованием, а не попытками принудить к признанию.
Русская Церковь жила в исповедуемом христианском обществе, в котором оно занимало важное и общепризнанное место. Она, по общему признанию, не стремилась к самостоятельному правлению, поскольку римская церковь утверждала и считала временной власть, но она стремилась править с помощью силы существующего порядка, и проповедовала особое социальное и политическое Евангелие, на котором прочно запечатлен существующий порядок.
Это Евангелие состояло, грубо говоря, в публичной защите социального неравенства, на том основании, что наш Господь сказал, что бедные всегда будут с нами, что Бог создал некоторых людей высокими и других низкими и наказал, и что чем больше страданий или несчастий, тем меньше вероятность впасть в проклятую ошибку гордости, тем самым утрачивая спасение. Одновременно не жалели усилий, поддерживая политический порядок и отбивая у всех охоту в мире, который заставил сомневаться, бороться или отступать в поисках правды. Большинство главных вопросов шестидесятых годов были освещены Церковью в таком свете.
При этом Церковь не показывала никакого понимания событий, происходящих в быстро меняющемся обществое, за исключением того, что оно может представлять собой возможную угрозу для своего собственного статуса и всего установленного порядка. Жестокое обращение не было выявлено, и никто не склонен был ставить под сомнение принципы этого порядка, не говоря уже о том, чтобы побудить к этому других. Полагаясь на мифы, привычки и слепое согласие, Церковь, хоть и не была статичной, но двигалась как медленный, неповоротливый динозавр. Только в своей невероятно богатой литургической жизни она приносила облегчение.
Отношение Филарета, митрополита Московского, к крепостному праву уже упоминалось. Этот уважаемый прелат, который, как сказал Герцен, «соединил митру епископа с погонами жандарма», защищал «справедливость крепостного состояния» с помощью библейских текстов. Когда отмена крепостного права стала делом срочной обеспокоенности, то Церковь неизменно поддерживала в крайних случаях крыло аболиционистов. Возражения Филарета против освобождения крестьян с землей выражались в следующем риторическом вопросе: «Не будут ли землевладельцы ограничены в их праве собственности и экономических возможностях, если земля будет выделена крестьянам? И не повлияет ли это неблагоприятно на их поддержку правительства?» Он также защищал сохранение порки для крестьян: в меморандуме («Христианское отношение к телесным наказаниям»), обращаясь к Дмитрию Толстому, он настаивал на том, что «христианство ни в коей мере не осуждает эту меру жестокости к крестьянам».
Аналогичные взгляды высказали знаменитый богослов и церковный историк, митрополит Макарий Булгаков (1816—82), епископ Феофан Говоров (1815—94) и архиепископ Иоанн Сергиев (1829—1908), два ведущих христианских моралиста, и многие другие, в том числе знаменитые старцы или молодые монахи-отшельники, чьё благочестие и духовность были в любом случае безукоризненны. Они все разделяли важность человеческих отношений и освобождение человека от его тягот, от рабства, невежества, от подчинения женщин, экономической эксплуатации и интеллектуального обскурантизма. Эти вещи, как правило, одобрялись публично и в частном порядке, именно теми, кто, предположительно, получил духовное освещение, которое должно было раскрыть природу зла. Часть объяснения, без сомнения, заключалось в некоторой степени парадоксально для церкви, которая утверждала неравноправие и наслаждалась им, сбрасывая со счетов политический и социальный престиж, чтобы не принимать во внимание важность мирских дел и стресс любви и бескорыстия как личностных качеств. Но не было такого же внимания к справедливости в человеческой жизни, или хотя бы какое-нибудь четкое осознание того, что такое зло, и какую роль оно играет в истории и в обществе.
Накануне освобождения Церковь, поддержанная полицией, была приведена в состояние «боевой готовности», и Филарет, а за ним епархиальные епископы всей России, издавал «наставления» в преддверии крестьянского недовольства. Каждый приходской священник был проинструктирован, под угрозой суровых наказаний, как объяснить «библейское понятие свободы», т.е. «истинная свобода заключается в полном подчинении божественной и гражданской власти». Скрупулезное соблюдение этих наставлений разоблачало несчастных священников по случаю дикости репрессии со стороны крестьян, которые обвиняли их в сокрытии «настоящей свободы». Синод был ошарашен срочными просьбами от епархиальных епископов «для защиты деревенского духовенства от тяжёлого конфликта с крестьянами».
Отношение крестьян было тем более удивительным, потому что, в целом, у Церкви были глубокие корни в сельской местности, которую нелегко разбередить провокациями. Но власти ни в коем случае не могли на это рассчитывать: помимо проявлений бунтарства, о котором упоминалось ранее, постоянно происходила интенсивная утрата религиозных элементов крестьянства, переход от церкви к инакомыслию. Согласно более поздним оценкам, количество религиозных инакомыслящих в середине девятнадцатого века приблизился к десяти миллионам. Некоторых из них привлекало видение лучшей и более свободной жизни или по учениям мессианских пророков, или по дикой природе, или эмоциональные индульгенции хлыстов и маниакальных скопцов; другие были трезвыми евангелистами (штундисты, молокане, духоборы), чьё моральное поведение было совершенно неоспоримым; иные же сохранили разрозненные связи с православной церковью, но шли своими путями и преследовали свои собственные духовные идеалы. Жизнь многочисленных инакомыслящих имеют неоценимое значение для изучения Россия. Они были воплощением России в поисках Бога, правды и справедливости, самоотверженного, мужественного, неукротимого, и иногда очень упрямого. Все сектанты (включая старообрядцев) подвергались постоянным гонениям и дискриминациям со стороны Церкви и государства, хотя и антисектантские меры не всегда могли быть полностью осуществлены, потому что движения эти были в значительной степени подпольными. Попытки Церкви разобраться и конструктивно справиться с ситуацией, посылая специально обученных миссионеров, где борьба с инакомыслием (само собой разумеется, отвергаемая всеми миссионерами деятельность) была известна как наиболее болезненная история грубого и неэффективного духовного и физического запугивания – история, в которой плохие средства предотвращали достижение плохих целей.
В то время как при Александре I, а точнее, до окончания его правления, толерантный дух одержал победу над инакомыслящими и неправославными христианами в целом, энергичная кампания против свободы совести характеризовала всё последующее царствование, с коротким перерывом в ранние годы правления Александра I. Кампания приобретала все более политический оттенок и завершилась при Александре III систематическим уничтожением всего самовыражения, религиозного, культурного, и даже языкового, со стороны национальных меньшинств в составе Империи. Основополагающим принципом было то, что все русские, включая украинцев, должны принадлежать Православной Церкви, и что все служащие правительства, включая школу и преподаватели вузов, должны практиковать, общаться в этой церкви. В то же время, разрешение, которое до сих пор давалось нерусским, в частности полякам, исповедовать свою религию было отозвано, и любая попытка обратить православного в неправославные верования и обычаи стали преследоваться наказанием, вплоть до тюремного заключения или ссылки в Сибирь. Рядом с Дмитрием Толстым и Победоносцев – éminences grises14 последних трёх Романовых – ведущая роль в этом расширяющемся движении религиозной и национальной нетерпимости принадлежала Церкви, которая, таким образом, похоже, окончательно отменила все нравы и авторитет, и утратила свое духовное и интеллектуальное влияние. «Свобода совести» была объявлена выдающимся иерархом (Антонием Храповицким) как «бессмысленное понятие».
Было бы неправильно заключить, что Церковь была полностью бесплодной в своей интеллектуальной деятельности. Она имела тенденцию к созданию атмосферы, в которой любой, кто был в сознании, начинал задыхаться; это едва ли ни единственная в России человеческая группа, которая была столь юмористичной и столь тяжёлой, каковыми были семинаристы и большинство их репетиторов. Учебная программа в семинарии была плохая в интеллектуальном содержании, или то, что было заложено в основном его вороватой, догматическая, невоображаемой природой. Тем не менее, она обеспечила определенную умственную подготовку, особенно в классических языках, и любой, кто был наделен природой и выжил в вынужденном умственном запоре, мог перейти в любую из четырёх духовных Академий в Киеве, Москве, Санкт-Петербурге или Казани. Здесь академические стандарты были несравнимо выше, в некоторых отношениях, даже чем в университетах. В самом деле, Академии внесли заметный вклад в обучение в некоторых областях и подготовили России некоторых из величайших российских ученых, впоследствии в этих Академиях и преподававших. Области, в которых больше всего они отличались, были история, светская и церковная (имена Ключевского, Болотова, Голубинского известны даже за пределами России), археология, литургия, и, чуть с меньшей оригинальностью, метафизика. Но церковная цензура оказалась еще большим препятствием, чем политическая. Выдающийся историк Сергей Соловьев жаловался, что «более талантливые преподаватели Московской духовной академии были мучениками. Филарет позаботился о том, чтобы из их лекций и их записей были вычеркнуты все живые мысли, чтобы люди превратились в мумий».
Каждая из четырех академий издавала свой собственный журнал, и они отличались трудолюбивыми исследованиями, представленными, как правило, в компетентной, но тяжелой и неприметной форме, которая до сих пор представляет ценный материал для специалистов. Но критические библейские исследования были обескуражены, так как Церковь традиционно считала постыдным всё, за исключением Библии. Изобразительное искусство утомительно игнорировалось, не принималась светская литература, эстетика была задушена, что приводило к обывательской хорошей обученности, но слабой в плане психологии и проницательности. Эти тенденции, характерные для канцелярской среды в целом, в некоторых случаях разделяла та часть новой интеллигенции. которая имела канцелярское происхождение.
Основные обвинения против русского богословия были выдвинуты следующими лицами. Георгий Флоровский, автор важнейшего произведения об история русской богословской мысли, писал о том, что она не смогла вернуть изначальный дух православия, что он страдал либо от схоластических интеллектуальных привычек, либо был неоправданной тягой к соглашательству, полученными из туманных тевтонских источников. Данный законная критика может также объяснить некоторую неуклюжесть, плоскостопие, даже несмотря на редкие материалы, характеризующие большую часть спекулятивной работы, производимой выпускниками духовных Академий. Работы Фроловского не упоминают об их полном бесплодии в морали и социальных науках. Отчасти из-за церковной и политической цензуры, но в основном от естественного торможения, академическая теологическая и философская мысль полностью провалилась везде, где исследовался реальный мир и человек. Малое, что было сделано в этой области, может быть утешительным для экспертов – прежде всего тех, кто хотел увидеть, что делает вера с верующими, но это было глубоко неприменимо к настоящему человеческому положению и непригодно для сомнений и сложностей девятнадцатого века. Признаемся, к шестидесятым годам уже существовала некая христианская апологетика, литература (например, обзор «Вера и разум», опубликованный в Харькове), хотя она была полна банальности, грубости, сомнительного использования научных терминов, часто непонятых и заимствованные из теорий, уже устаревших и вытесненных. Была попытка Юркевича, завидующего успеху Чернышевского (о котором будет больше сказано позже), описать то, в чем нуждалась Церковь, однако, это не стало апологетикой или даже религиозной философией для проведения стычек, но сострадательным умом, который мог бы ответить и обдумать реальное состояние человека и общества. Некоторые делали это, но их судьба действительно была грустной.
Поразительный и трагический случай был с Александром (архимандритом Федором) Бухаревым (1824—71). После обычной церковно-приходской школы, семинарии и духовной Академии Бухарев стал монахом и профессором христианской доктрины духовной Академии Казани. Человек большой чувствительности, он оказался в противоречии со своим окружением, и это привело к его досрочной отставке, а вскоре после этого (в 1860 году) он опубликовал сборник эссе под названием «О православии в отношении к современности», в котором пытался бесхитростно и искренне обсудить проблемы, которые были незнакомы и сложны для традиционного национального отношения Русской Православной Церкви. Это привело к длинной серии испытаний: его работы были запрещены, он был обвинен в вероотступничестве, ибо, говоря словами его главного недоброжелателя, «каждый, кто действует от имени ортодоксии и протягивает руку к современной цивилизации – это трус, ренегат и предатель». В конце концов, Бухарев был вынужден был отказаться от своего монашеского обета и священства, но оставался верным членом Церкви. Ему было запрещено проживание в обеих столицах, как и в любом другом городе, где он был известен как монах; он был лишен ученой степени, гражданских прав и всех средств к существованию. Он умер, обездоленный, в возрасте 47 лет. Его дело раскрывает агонию непримиримости и пыток, которыми Церковь пыталась нанести вред духу и необыкновенной нравственной целостности. В большинстве подобных случаев люди так сильно чувствовали себя за пределами Церкви, так как у них не осталось выбора, кроме полного отказа от обязательств Церкви и всего, что она отстаивала.
14
теневая власть, серые кардиналы (фр.)