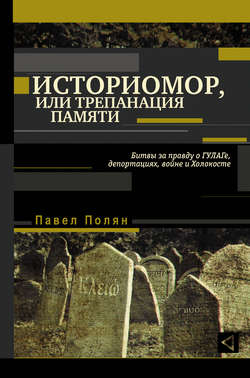Читать книгу Историмор, или Трепанация памяти. Битвы за правду о ГУЛАГе, депортациях, войне и Холокосте - Павел Полян - Страница 11
Память о войне
1950–2015 || «Как закалялась ложь»: историография Второй мировой в кривых зеркалах главпуровской идеологии
ОглавлениеУже разрешаем или еще рано?..
Из обрывка разговора в Главлите
Преступление без покаяния: Россия в поисках примирения со своей историей
Прежде чем попробовать разобраться с тем, что я так рискованно вынес в заглавие, необходимо сделать несколько важных оговорок.
Оговорка первая: что такое, применительно к государству, преступление? Это те элементы его внутренней или международной государственной политики, которые противоречат, идут вразрез с международным правом и другими общепринятыми «правилами игры», зафиксированными в фундаментальных хартиях, как, например, «Декларация прав человека» или Устав ООН. При этом, разумеется, мы отдаем себе отчет в том, что в одном и том же государстве в одно и то же время может быть не один, а несколько центров принятия властных решений и, соответственно, несколько нетождественных политик.
Мировая история наполнена и переполнена чудовищными преступлениями одних государств против других, а также их преступлениями против своих или чужих граждан. Достаточно упомянуть массовую работорговлю, оттоманский геноцид армян и греков, гитлеровский геноцид евреев и цыган или советскую насильственную коллективизацию.
Оговорка вторая: что такое, применительно к государству, покаяние? Это, полагаем, процесс осознания государством той или иной собственной прошлой политики как неправедной и преступной, нуждающейся в переосмыслении, произнесении вслух, покаянии, а в ряде случаев и в материальной компенсации жертвам этой политики. То есть возвращение (чаще всего запоздалое) к историзму как критерию истины и выработке соответствующей ответственной политики.
Оговорка третья: что такое Россия? Под ней я понимаю государственное тело, обладающее отчетливой внутренней преемственностью – несмотря на всю изменчивость, территориальную или институциональную, будь то монархия, советская республика, партократическая диктатура или межрегиональная федерация, каковой она номинально является сейчас. Не политические партии, не главенствующие этнические или конфессиональные группы, не выдающиеся мыслители, поэты или политики, – а именно российская государственность как субъект российской государственной политики.
По своему историко-географическому генезису Россия – ярко выраженная сухопутная империя, устроенная (в терминологии В.П. Семенова-Тян-Шанского[134]) по принципу континентальной «империи от моря до моря» – самого прочного, как он полагал, типа империи. Но вот что интересно: дореволюционная история модернизации российского ядра и колонизации ее окраин – довольно-таки жесткая, заметим, история – фактически сошла России с рук и не породила сколь-либо серьезных исторических обвинений в ее адрес.
Едва ли не единственное исключение – аналитическая критика (впрочем, тоже весьма умеренная и точечная) российского государственного антисемитизма с такими его прелестями, как черта осёдлости, процентные нормы и погромы, отрицать которые никому в Российской империи в голову не приходило.
А вот в Турецкой Республике, в точности так же, как и в самой Османской империи, никому и в голову не приходило признать этноцид армян и греков. И сейчас, спустя целое столетие, не приходит! «Праведный гнев» турецких начальников в адрес организаций и государств, склоняющихся к штучному признанию этого факта, – политическая константа.
Что-то похожее можно встретить и в Японии, крайне неохотно соглашающейся обсуждать аналогичные проблемы собственной истории (депортации корейцев и китайцев, принудительный труд и принудительная проституция).
А вот история становления куда более демократической империи США породила целое море исторических упреков (а в последние десятилетия и исков) со стороны двух системообразующих групп населения США. Первая – это потомки тех автохтонных племен индейцев, чьи естественные права в процессе колонизации оказались грубо попранными, а вторая – потомки тех чернокожих негров-рабов, которых миллионами вывозили сюда из Африки на протяжении XVIII–XIX вв. Впрочем, претензии были и есть и у американских японцев, отчасти депортированных с Тихоокеанского побережья в глубь страны в 1941 году.
В то же время о советском периоде истории России, добавившем к ее историческому образу так много новых красок и, особенно, категорий жертв, уже не скажешь, что он ей «сошел с рук». Практически весь он насыщен тем, что я выше обозначил как преступления государства (не преступления против государства, а преступления самого государства – против своих граждан, против международного права и т. д.). Революция, Гражданская война, военный коммунизм, диктатура пролетариата – все это зиждилось на попрании внутренних конституционных норм и прав личности.
Все это, конечно, имело свои корни в историческом прошлом царской России, но нельзя тут не отметить своеобразной российской «умеренности». Излюбленными и самыми крайними репрессивными мерами российского государства против своих нелояльных граждан были принудительные миграции – по суду (ссылки) или же без оного (депортации), благо пространство, климат и экономические потребности очень уж к этому располагали.
Крайней степенью того же антисемитизма в России, – причем антисемитизма не чисто государственного, а приватизированного энтузиастами-черносотенцами, – стал все-таки Кишинев, а не Бабий Яр.
Среди уничтоженных советской властью в годы Большого Террора – сотни тысяч «врагов народа», но сколь бы то ни было единого социального или иного контингента они все же не составляли. Для того, чтобы убедиться в этом, достаточно заглянуть в расстрельные или эшелонные списки: репрессиям подвергалась фактически вся страна, все слои населения, и именно в этом заключалась их систематичность и, если хотите, их системность.
Такой меры, как геноцид части населения, тотальное физическое уничтожение тех или иных его категорий, советская Россия почти не знала.
Почему почти? На мой взгляд, было всего лишь два отчетливых контингента физических лиц, применительно к которым со всей строгостью можно говорить о геноциде со стороны советской России. Более корректно, по-видимому, было бы говорить о стратоциде, под которым понимается систематическое уничтожение тех или иных страт (четко отграниченных контингентов) силами государственных органов – военных или полицейских.
Первый контингент – это царская семья Романовых – император с семьей, убиенные в 1918 году как в Ипатьевском доме в Екатеринбурге, так и в других местах. Второй – около 15 тысяч польских офицеров, расстрелянных в марте-апреле 1940 года в Катыни Смоленской области, в Медном Тверской и в Старобельске Харьковской[135].
Охотников отрицать или хотя бы оправдывать эти убийства сегодня уже не просто найти (хотя в случае поляков они иногда и находятся), но палачи известны, и суд истории над ними, считай, состоялся.
Оба преступления, кстати, объединяет то, что они были совершены во время войн (Гражданской и Второй мировой), в видах или накануне боевых действий и оба – на территориях, со временем и неожиданно для палачей завоеванных неприятелем, что неминуемо способствовало скорейшему их разоблачению.
Трудные пути правды: архивы и публикации
Лучше всего, как оказалось, государственную тайну о государственном прошлом хранят режимные государственные архивы, но и им когда-то неминуемо приходится раскрывать свои тайники, изображая при этом подчас деланое удивление: ну надо же – пакт Молотова-Риббентропа!? И Катынский расстрел – ну кто бы мог подумать?
Рассмотрим в этой связи некоторые историографические процессы послевоенной поры, сосредоточившись, главным образом, на событиях, связанных с научным изучением или художественным преломлением в СССР и постсоветской России событий Второй мировой войны.
В 1995 году, в контексте празднования 50-летия Победы, в Москве состоялась выставка под названием «Трудные пути правды. Великая Отечественная война в книгах и документах 1950—1980-х гг.», инициаторами которой выступили Государственная публичная историческая библиотека России (ГПИБ) и Российский государственный архив новейшей истории (РГАНИ). Она была посвящена процессу научного изучения и художественного осмысления войны в первые послевоенные десятилетия. Ценно в нашем контексте, что она охватила все этапы советско-российской историографии.
Да, только очень наивный мог бы полагать, что это был сугубо академический процесс с вежливым выслушиванием друг друга и с соревновательностью аргументации. Дискуссии, впрочем, отчасти велись, но на цензурной или предцензурной стадии, то есть еще до выхода тех или иных произведений в свет. Если же произведения все же «проскочили» или «просочились» в печать (излюбленные выражения их будущих «критиков»), то соответствующая дискуссия после чаще всего превращалась в разнузданную травлю, в погром.
Примечательно, что большинство экспонированных на выставке документов было выявлено и рассекречено непосредственно в связи с ее подготовкой, то есть в середине 1990-х гг. Как примечательно и то, что аннотированный каталог выставки был опубликован только в 2000 году и тиражом всего в 200 экземпляров[136].
Интересен жанрово-тематический расклад «окрасок» представленных в каталоге выставки групп документов. Оказывается, что больше всего проблем возникало не с литературой и искусством, как можно было бы ожидать, а с историей. Так, историческим трудам и публикациям архивных документов посвящено 39 случаев из 94, еще 13 пришлось на мемуары и дневники и 4 на архивное дело. В то время как на художественные произведения и органы печати пришлось18 таких случаев[137], на вопросы киноискусства – 10, а монументальной пропаганды, музыки и живописи – 7.
Выставка – и каталог – полностью оправдывали свое название: путь к правде был, как правило, усеян такими преградами и препонами, что преодолеть их мало кому было по силам.
Надо сказать, что проблематика ВОВ является отличным полигоном как общего направления идеологического курса страны, так и его нюансов колебаний. Для советских публикаций о войне характерен своеобразный пуризм (или, точнее, главпуризм). Сюда относятся догматизм, безапелляционность и бездискуссионность, приверженность к круглым юбилейным датам и толпо- образным коллективам, узость источниковой базы (в условиях недоступности архивов), отсутствие научного аппарата и, нередко, научная недобросовестность, вплоть до фальсификации данных во имя получения желательного результата или хотя бы впечатления.
Анализ соответствующей историографии, выполненный учеными из Института научной информации по общественным наукам АН СССР (ИНИОН), позволил им не столько выделять основные этапы исторического освоения этой темы, сколько раскрыть их подлинное содержание[138].
Сами по себе эти этапы практически полностью соответствуют периодам генерального секретарства (а начиная с 1990 года – президентства) разных советских и постсоветских вождей. «Сталинский» период сменился «хрущевским», «хрущевский» – «брежневским» (он, правда, вобрал в себя и недолгие месяцы правления Черненко и Андропова), «брежневский» – «горбачевским», «горбачевский» – «ельцинским», а «ельцинский» – «путинским» (или, точнее, «путинско-медведевским»).
Этапы сталинский, хрущевский и брежневский
Первый – от 1945 до 1956 г. – «сталинский» этап был отмечен печатью служения культу Сталина как военного гения и стратега. Созданные еще во время войны коллективы – Комиссия АН СССР по составлению хроники войны, военно-исторический сектор при Институте истории СССР, аналогичные исторические подразделения при Генштабе, Главпуре (см. ниже), при штабах видов вооруженных сил и родов войск. Их усилиями были подготовлены сотни сборников документов по оперативному искусству, выпускавшихся Воениздатом, но даже они выпускались с грифом «секретно». Тематика советских военнопленных при этом не ставилась и не изучалась.
Второй этап – «хрущевский» (1956–1964): место большого и разоблаченного культа Сталина заняли выпячивание роли партии в войне и маленький культ Хрущева. Именно в эти годы работала Комиссия маршала Жукова, многое сделавшая для реабилитации советских военнопленных (1955–1956), был основан «Военно-исторический журнал» (1959), готовилась и вышла в свет 6-томная «История Великой Отечественной войны» (1960–1965), а также капитальный труд по истории обороны Ленинграда[139].
Историков, как и сейчас, занимала тогда ситуация с архивными документами и доступом к ним. Так, 3 января 1956 года докторант Высшей военной академии им. К.Е. Ворошилова капитан I ранга Н.Н. Мильграм обратился к 1-му секретарю ЦК КПСС Н.С. Хрущеву с письмом о необходимости рассекречивания архивных документов о начальном этапе ВОВ. Судя по всему, письмо попало в точку, так как вскоре, уже 7 февраля, было принято Решение ЦК КПСС «О мерах по упорядочения режима хранения и лучшему использованию архивных материалов министерств и ведомств» как отвечающее на поставленный Н.Н. Мильграмом вопрос[140].
Пример капитана Мильграма оказался заразительным, и в апреле 1959 года в связи с подготовкой шеститомной «Истории Великой Отечественной войны Советского Союза: 1941–1945» в ЦК с проектом директивы о снятии с секретного хранения и разрешении публикации в открытой печати документов по истории ВОВ обратились уже маршалы СССР – военный министр Р.Я. Малиновский и В.Д. Соколовский. Для работы по этому письму была создана специальная комиссия, результатом деятельности которой стало Постановление Секретариата ЦК КПСС № Ст-115/5с от 11 августа 1959 года, в котором одобрялась постановка вопроса(!), но само его решение переносилось до выхода 6-томника в свет. При этом секретный режим оперативных материалов уровня Ставки Верховного Главнокомандования, фронтов, флотов, групп фронтов и видов вооруженных сил оставлен без изменения, а «право первой ночи» в пользовании документами, которые, может быть, потом рассекретят, предоставлялось только «своим» – членам редколлегии издания, а также сотрудникам Отдела истории ВОВ при Институте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС и Военно-научного управления Генерального штаба[141]. Позднее предметом особого рассмотрения становились данные о потерях советских войск в ходе отдельных операций, а собственно испрошенное маршалами решение было принято, как и обещано, несколько позже, – спустя пять с небольшим лет[142].
Сюда же можно отнести вопрос о публикации «Партизанское движение на Кубани (1942–1943 гг.)» в журнале «Исторический архив» (1957, № 3. С. 3—47) и последовавших за этим мерах по изъятию номера журнала, постановлении Секретариата ЦК КПСС от 2 августа 1957 года и административных мерах по отношению к руководству журнала[143].
Основной инстанцией, о которую разбивались любые лбы, – и высшей инстанцией, в которую направлялись служебные записки, а то и просто доносы, и которая принимала решения по конкретным вопросам «допустимости» чего бы то ни было в каждый конкретный момент, являлся ЦК КПСС и, в частности, такие его подразделения, как отдел пропаганды и агитации, отдел культуры. Иногда к вопросу подключались и другие аппаратные звенья, как то: отдел науки и техники, отдел административных органов или даже международный отдел. Входящие записки и докладные делились на, так сказать, негативные, предлагавшие что-нибудь запретить или не разрешить, и позитивные, предлагавшие что-либо, наоборот, разрешить. Интересно, что во втором случае тенденция не разрешить была еще сильнее, чем в первом. Формой представления при этом служила записка (чаще всего безо всяких пояснений) о нецелесообразности внесенного предложения. Так, 14 июля 1959 года Отдел культуры ЦК КПСС сообщил главному редактору «Литературной газеты» С.С. Смирнову о нецелесообразности его предложения об открытии специального счета и сборе пожертвований населения на поддержание памятников воинской славы в Севастополе, а 2 марта 1960 года Отдел административных органов сообщил председателю Госкомитета по радиовещанию и телевидению при СМ СССР С.В. Кафтанову о нецелесообразности популяризации деятельности во Франции Первого советского партизанского полка[144].
Но из каталога отчетливо проступает образ еще одной организации, чью роль и активность на идеологическом фронте и на цензурно-запретительном поле невозможно переоценить. Эта организация – Главное Политическое Управление Советской Армии и Военно-Морского Флота (сокращенно ГЛАВПУ, или, по старинке, ГЛАВПУР). 15 января 1941 года приказом НКО было объявлено, что никакая книжная продукция в Красной армии не может быть издана без предварительного согласования с ГЛАВПУРом[145].
Организационно ГЛАВПУ состоял из управлений (например, пропаганды и агитации, организационно-партийной работы, кадров) и отделов (комсомольской работы, военно-социологических исследований и др.). Но самое, быть может, интересное в его организации – это то, что начиная еще с 1924 года и до сентября 1990 года этот военный, как кажется, орган действовал на правах… Отдела ЦК ВКП(б) или КПСС![146]
Такой расклад, впрочем, был вовсе не в пользу армии: ГЛАВПУ являлся в первую очередь инструментом контроля партии над армией, не раз и не два пытавшейся ослабить этот контроль. Все это ставило Начальника ГЛАВПУ в совершенно особое, фактически независимое и во многом даже конкурентное положение по отношению к министру обороны. В вопросах истории и идеологии запретительная позиция ГЛАВПУ, как правило, была заметно жестче и радикальней позиции военного министра и даже позиции «профильных» отделов ЦК КПСС[147].
Во главе общеармейских (без учета отдельных военно-морских) политорганов в разное время стояли такие известные лица, как Владимир Александрович Антонов-Овсеенко (28.08.1923 – 17.01.1924), Андрей Сергеевич Бубнов (17.01.1924 – 01.10.1929), командарм 1 ранга Ян Борисович Гамарник (01.10.1929 – 31.05.1937), Петр Александрович Смирнов (06.1937 – 30.12.1937), генерал-полковник Лев Захарович Мехлис (30.12.1937 – 09.1940), Александр Иванович Запорожец (09(?).1940 – 21.06.1941), затем снова Мехлис (21.06.1941 – 12.06.1942), генерал-полковник Александр Сергеевич Щербаков (12.06.1942 – 10.05.1945), Иосиф Васильевич Шикин (08.09.1945 – 02(?).1949), Федор Федотович Кузнецов (02(?).1949 – 03(?).1950), Константин Васильевич Крайнюков (03(?).1950 – 07(?).1950), снова Кузнецов (07(?).1950 – 04(?).1953), генерал-полковник Алексей Сергеевич Желтов (04(?).1953 – 01(?).1958), маршал Филипп Иванович Голиков (01(?).1958 – 31.04.1962), генерал армии Алексей Алексеевич Епишев (31.04.1962 – 17.07.1985), Алексей Алексеевич Лизичев (17.07.1985 – 07(?).1990), а также Николай Иванович Шляга (07(?).1990 – 29.08.1991). Абсолютным рекордсменом по пребыванию в этой должности, вобравшем в себя всю брежневскую эпоху, был Епишев[148].
Именно ГЛАВПУ мы обязаны канителью 1956 года с выходом на экраны фильма по сценарию В.П.Некра- сова «В окопах Сталинграда», против которого ополчился начальник ГЛАВПУ генерал-полковник Желтов, горячо поддержанный маршалами А.Е.Еременко и И.С.Коневым.[149]
После выхода в мае 1970 года в «Неделе» статьи Д.Д. Лелюшенко «Освобождение» (в ней, в частности, говорилось о том, что на Прагу наступали и американцы) два отдела ЦК – пропаганды и административных органов – признали публикацию ошибочной и рекомендовали всем печатным органам впредь согласовывать публикации по военной тематике с ГЛАВПУ.[150]
Впрочем, запрет даже на полуправду, как в эпизоде со статьей Лелюшенко, имел место уже на третьем этапе – на «брежневском» (1964–1985 гг.). Отмеченный частичной реабилитацией Сталина, он до известной степени явился шагом назад, к первому этапу.
Его фактическим началом можно считать кампанию против А.М. Некрича и его книги «1941: 22 июня», выпущенной в 1965 году издательством «Наука» самым что ни на есть рутинным порядком, то есть через Главлит. В книге честно раскрывались многие просчеты главнокомандования на начальном этапе ВОВ, что в это время уже не прошло бы согласования в ЦК или в ГЛАВПУ. Дополнительное раздражение вызвали и положительная рецензия в «Новом мире», подчеркивавшая объективность книги[151], и результаты обсуждения книги в Институте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, в ходе которой многие историки, вопреки ожиданиям, поддержали А.М. Некрича[152]. В разгромной рецензии, опубликованной в «Вопросах истории КПСС»[153], автор обвинялся в очернительской тенденциозности и в измене принципам марксистской историографии (последнее, впрочем, справедливо).
Среди журнальных публикаций этих лет, увидевших свет и заслуживших за это высочайшее «пропесочивание» на уровне ЦК, – повести Василя Быкова «Мертвым не больно» (Новый мир. 1966. № 1) и Анатолия Кузнецова «Бабий Яр» (Юность. 1966. № 8). Заведующие отделами пропаганды и агитации ЦК КПСС (В. Степанов) и культуры (В. Шауро) сочли клеветническими быковские описания жестокости, беззаконий и преступлений, творящихся среди отступающих частей Красной армии «особистами»: «Забвение т. Быковым классовых критериев, грубое искажение исторической правды привело к тому, что из-под его пера вышло произведение, наносящее серьезный вред делу воспитания советских людей, особенно молодежи»[154].
Повести Быкова и Кузнецова были, тем не менее, напечатаны. Но некоторым текстам повезло меньше, и, даже будучи однажды одобренными в Главлите, они были вынуты из номеров, как, например, дневник К.М. Симонова «Сто суток войны» – из «Нового мира» или очерк С.С. Смирнова «По следам войны» – из «Дружбы народов»[155].
Еще одной «жертвой» тенденций этого этапа едва не стала англоязычная книга «Россия в войне 1941–1945» французского историка русского происхождения Александра Верта, в годы войны работавшего корреспондентов Би-би-си и «Санди Таймс» в Москве. Книга получила большой резонанс во всем мире, и А. Верт предложил издательству «Прогресс» выпустить ее перевод. Два журнала – «Юность» и «Иностранная литература» – ухватились за идею напечатать главы из книги, но само издательство возражало против издания. Вопрос решился поистине по-соломоновски: Отдел пропаганды ЦК постановил – книгу печатать, но в закрытом порядке и для рассылки по специальному списку[156]. В результате книга А. Верта выходила дважды: в 1965 году в закрытом порядке (тремя выпусками по 300–350 стр. каждый[157]) и в 1967 году в открытом – однотомником в 774 страницы[158].
В 1968–1969 гг. даже такой мемуарист, как Г.К. Жуков, едва не угодил в диссиденты, а рукопись его «Воспоминаний и размышлений» (вызывавших возражения Минобороны) – в «Тамиздат»! Мало того, за рубежом она оказалось не где-нибудь (КГБ еще пришлось перепроверять каналы такой утечки), а в самом скандальном лондонском издательстве «Флегон пресс», тут же начавшем шантажировать советское посольство предложением отказаться от издания в обмен на лицензию «Международной книги» на право продажи советских книг за рубежом![159]
В собственно научной сфере программным достижением «брежневского» этапа стал выход в 1973–1982 гг. фундаментального труда – 12-томной «Истории Второй мировой войны 1939–1945 гг.», авторский коллектив которой рекрутировался в Институте военной истории МО СССР, а также в Институте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС и двух академических институтах (Институт истории СССР и Институт всеобщей истории). Его можно было бы назвать фундаментальным, когда бы не вяжущееся с фундаментальной научностью подхалимство, выпячивание исторической роли полковника Л.И. Брежнева и 18-й армии, имевшей честь иметь его в своих рядах.
Надо заметить, что подхалимство, более или менее развитое на всех этапах, в эпоху брежневского застоя достигло не виданных ранее высот. Высшие военные и партийные руководители включались в авторские коллективы трудов, к написанию (а возможно и к чтению) которых не имели не малейшего отношения. Своего рода кульминацией этой тенденции стал выход в 1967–1976 гг. трех томов мемуаров маршала А.А. Гречко[160] – брежневского министра обороны, командовавшего во время войны той самой 18-й армией, где начальником политотдела служил Брежнев. При этом сам Гречко своих мемуаров не писал, их изготовляла специальная группа историков и журналистов. Таким же способом были сляпаны «воспоминания» и самого Л.И. Брежнева, в том числе и брошюра 1978 года «Малая земля» – о неудачном, в сущности, десанте под Новороссийском. В 1980 году за «свои» произведения «Малая земля», «Возрождение» и «Целина» Брежнев был удостоен Ленинской премии в области литературы, которой Леонид Ильич искренне и по-детски радовался, как и любой другой награде, будь то орден Победы или маршальская форма. (Впрочем, «малый культ» полковника Л.И. Брежнева с самого начала ничего кроме понимающей улыбки ни у кого не вызывал. За улыбкой этой была различима смешанная со стыдом грусть и досада за страну).
В то же время партия и правительство очень уважали и высоко ценили взрывоопасную силу подлинного исторического документа и мемуаров и делали все от них зависящее, чтобы таковым ходу не давать. Весной 1977 года КГБ и Главлит поставили перед Секретариатом ЦК КПСС вопрос о порядке подготовки и издания мемуаров политического и военного характера. 28 июня 1977 года вышло соответствующее постановление, обязывающее издательства предварительно согласовывать свои сводные планы по мемуаристике с ЦК КПСС, с ИМЛ при ЦК КПСС и с ГЛАВПУ[161].
Практически одновременно – летом 1977 года – Отдел пропаганды и Главлит зарубили и отправили на доработку верстку глав из «Блокадной книги» А. Адамовича и Д. Гранина, шедших в №№ 7 и 8 «Нового мира»[162]. Вразрез с генеральной линией партии шло и предложение К.М. Симонова от 18 января 1979 года о проведении кампании по сбору неопубликованных воспоминаний участников ВОВ и о создании в Центральном архиве Министерства обороны в Подольске специального отдела для их хранения. Идея рассматривалась в военных и партийных структурах, мнение которых дружно совпало: предложение сочли нецелесообразным, ибо невозможно обеспечить контроль за использованием и за достоверностью (sic!) изложенных в воспоминаниях фактов[163].
Этапы горбачевский и ельцинский
Четвертый этап – «горбачевский». В издании ИНИОН он, едва успев начаться, завершается уже в 1990 году. И это, по сути, правильно, поскольку смешивать его с «ельцинским», несмотря на кажущееся их сходство, нет оснований. Механизмы инициирования публикаций и принятия решений об их судьбе при Горбачеве не претерпели ни малейших изменений – просто инстанции, принимающие решения, стали, действительно, гораздо либеральнее. Хочешь удивить мир собственной смелостью – обратись в соответствующий отдел ЦК с прочувствованной и политкорректной просьбой о разрешении того-то и того-то, и тебя, скорее всего, поддержат, в крайнем случае, дадут какой-нибудь незначительный совет о другой формулировке какой-нибудь фразы.
Так, при Горбачеве было снято табу с целого ряда одиозных приказов военного времени, в частности, с приказа Ставки № 270 от 28 августа 1941 года и приказа НКО № 227 («Ни шагу назад!») от 28 июля 1942 года[164]. Оба упомянутых приказа были напечатаны в «Военно-историческом журнале» в 1988 году – соответственно, в №№ 9 и 8[165].
Согласие на публикацию Приказа № 270 было получено 21 июля 1988 года; его дали сразу два отдела ЦК – отдел административных органов (И. Ларин) и отдел науки и учебных заведений (В. Григорьев). При этом они ссылались на публикации в центральной печати академика А.М. Самсонова и другие, ставящие вопрос о публикации полного текста этого приказа[166]. Уже 27 июля их ходатайство было поддержано и на Секретариате ЦК. Но самое пикантное при этом то, что так громко стучаться пришлось в совершенно открытые ворота, ибо сам по себе приказ никогда не был секретным; отпечатанный в типографии, он рассылался в войска в количестве около 45 тысяч экземпляров[167]!
Необычайно симптоматичной для горбачевского периода (как, впрочем, и для других – она пронизала собой всю послевоенную историю) была история с Катынью. В апреле-мае 1940 года, когда войной с немцами и близко не пахло, расстрельные команды НКВД спокойно убили в Катыни, Медном и Старобельске около 22 тысяч польских военнопленных и гражданских лиц – практически всех, находившихся в их лагерях. Но война пришла, и все три расстрельных места попали под оккупацию, а до одного из них – катынского – в апреле 1943 года добрались немецкие и международные комиссии, установившие правду.
Но собственное «расследование» 1944 года («Комиссия Бурденко») установило, что это дело «немецких» рук[168]. И мало того: не постеснялись выставить Катынь в ряду тягчайших «немецких» преступлений на Нюрнбергский трибунал! Чем это кончилось – хорошо известно: судьи отказались признать аргументацию СССР по Катыни убедительной, но и судить де-факто СССР – страну-победительницу и страну-обвинительницу – тоже не стали, благо мандат трибунала и союзнические чувства этого от них и не требовали.
Фактическая развязка этой трагической и неприглядной истории произошла при Горбачеве. Весной 1987 года была создана двусторонняя Комиссия историков СССР и Польши по вопросам истории взаимоотношений СССР и Польши, при этом у советской части комиссии не было ни полномочий пересматривать каноническую советскую точку зрения, ни новых материалов. Уже в июне 1987 года в ЦК поняли всю непривычную серьезность вопроса – еще раз «отговориться» не получится! «Другое дело, как использовать то, что станет нам известно после специального изучения этого дела с позиций исторической правды (выделено мной. – П.П.)»[169].
В 1988 году, после обнародования в Польше результатов доклада Польского Красного Креста, принимавшего участие в эксгумации в Катыни в 1943 году, а также польских критических замечаний относительно выводов комиссии Н.Н. Бурденко, стало ясно, что пересмотр катынского дела неизбежен. Поэтому заведующий международным отделом ЦК КПСС В.М. Фалин предложил 6 марта 1989 года не препятствовать, а оказать содействие желанию польской стороны перенести в Варшаву символический прах из Катыни[170]. Политбюро в заседании от 31 марта согласилось с этим предложением, а заодно распорядилось в месячный срок выработать предложения о дальнейшей советской линии по катынскому делу[171]. Реагируя на очередные польские предложения, – на этот раз о создании в Катыни мемориала, – Э. Шевард- надзе, В. Чебриков, А. Яковлев и В. Медведев внесли на Политбюро ЦК КПСС от 5 мая 1988 года предложение включить в этот мемориал и памятник 500 советским военнопленным, участвовавших в эксгумации поляков и уничтоженных гитлеровцами после окончания работ[172].
Поиск новых подтверждений советской позиции так ничего и не дал, а вот поиск истины, – несмотря на откровенный и насмешливый саботаж со стороны заведующего Общим отделом ЦК КПСС Валерия Болдина, – привел-таки к информационному прорыву: в двух, в то время самостоятельных, архивохранилищах – в фонде конвойных войск в Центральном Государственном архиве Советской армии (ныне РГВА)[173] и в материалах ГУПВИ в Центральном Государственном Особом архиве (ныне тоже РГВА) были найдены документы, безоговорочно поставившие все точки над i. Тут надо особо отметить заслугу как российских архивистов (и прежде всего тогдашнего директора Особого архива А.С. Прокопенко), так и в особенности историков, в частности и прежде всего Натальи Сергеевны Лебедевой и ее коллег Николая Юрьевича Зори и Валентины Сергеевны Парсадановой[174].
22 февраля 1990 года Фалин, сообщая Горбачеву о находках историков, был вынужден признать, что готовящиеся ими публикации создадут принципиально новую ситуацию, в которой последний и единственный советский аргумент – мол, в архивах СССР ничего по этой теме не обнаружено – лишался бы, как и незадолго за этого в случае с пактом Молотова – Риббентропа[175], своей казуистической силы.[176] Высшая партийная инстанция поступила так, как единственно умела и как привыкла: запретила ставшие ей известными публикации!
Но правду было уже не удержать: историки и журналисты нашли выход из ситуации и нанесли асимметричный удар. Место научной публикации в малотиражном журнале заняли два разворота обстоятельного интервью Н.С. Лебедевой в массовом издании, а именно в «Московских новостях» времен Егора Яковлева, в номере от 25 марта 1990 года. Правда о катынской трагедии – вопреки сопротивлению и, увы, спустя целых полвека! – была наконец предана гласности, после чего аппаратное сопротивление архитекторов гласности из ЦК КПСС потеряло всякий смысл[177].
13 апреля 1990 года последовало официальное заявление ТАСС с признанием ответственности органов НКВД за расстрел польских военнопленных, а в декабре 1990 года, по инициативе Горбачева Главная военная прокуратура возбудила уголовное дело по фактам массовых расстрелов, причем не только в Катыни, о которой и только о которой шла речь до этого, но и в Медном и Старобельске[178].
Впрочем, последняя попытка «отыграть ситуацию» научными средствами все же была предпринята, а именно «Военно-историческим журналом». После того как в июньском номере за 1990 год под названием «Нюрнбергский бумеранг» была напечатана сенсационная публикация А.С. Прокопенко и Ю.Н. Зори[179], другие авторы журнала еще раз попытались выдать за чистую монету хотя бы некоторые из материалов Комиссии Н.Н. Бурденко[180].
Пятый – «ельцинский» — этап в целом представлял собой довольно крутой перелом. Демократизация общества, идеологический плюрализм, либерализация доступа в архивы привели к некоторой растерянности цеха официальных и официозных военных историков и к выходу на авансцену большого количества новых лиц – как профессионалов, так и любителей, в особенности – журналистов. Возникла совершенно новая историографическая ситуация, которую правильнее всего было бы назвать просто нормальной или почти нормальной. Связка «историк» – «архив» – «публикация» – «дискуссия» впервые заработала!
В контексте же ВОВ основными темами, где скрестились копья, стали, пожалуй, превентивная война (дискуссия, поднятая книгой В. Суворова «Ледокол») и многочисленные – и в целом неудачные – попытки переосмыслить роль генерала Власова и ведомого им коллаборантского движения, кадровой базой которого во многом стали советские военнопленные.
Участниками этого процесса анализа впервые стали и иностранные ученые, в том числе и российские эмигранты. Среди них и Владимир Константинович Буковский, сыгравший ключевую роль в одном из главнейших сражений этой революции, а именно во взятии на абордаж архивов аппаратов ЦК КПСС и ЦК КП РСФСР. На их основе уже в 1991 году был создан Центр хранения современной документации Комитета по делам архивов при правительстве РФ (нынешний РГАНИ), вобравший в себя около 30 млн единиц хранения, охватывающих период с 1952 по август 1991 г.
Она началась и без, и до Буковского (очень многие, хотя и не все, архивы и сами воспользовались новой ситуацией), но то, что Буковский и несколько коллег из «Мемориала» сделали как эксперты, заслуживает похвалы. Закрепиться же на достигнутых ими плацдармах, расширить их и пойти дальше широким фронтом, увы, не удалось.
Отметим: для ельцинского этапа характерна и определенная честность и даже мужественность в извлечении тех уроков, что, безусловно, содержатся в неотвратимо приоткрывающемся – страница за страницей – историческом прошлом.
Вот пример: материалы особых папок Политбюро ЦК КПСС по Катыни, впервые преданные гласности при Горбачеве, так и не были задействованы или введены в научный оборот. Передавая в декабре 1991 года дела Б.Н. Ельцину, Горбачев передал ему и конверт с катынскими материалами, предупредив о необходимости осторожного к ним отношения. Через год, как известно, материалы этого конверта фигурировали на процессе по делу КПСС, а 14 октября 1992 года копии этих документов были переданы российской стороной в Варшаве президенту Польши Леху Валенсе. И хотя Ельцин сделал это не лично, а через специального представителя, – это серьезный и ответственный поступок. Он был воспринят в Польше и во всем мире как знак исторического раскаяния новой России – правопреемницы СССР – за одно из тяжелых государственных преступлений своей правопредшественницы.
После чего начался совершенно иной этап российско-польских отношений – этап исторической реконструкции событий и политического примирения, поиска и нахождения морального консенсуса на тезисе типа: «Это не Россия виновата, это все НКВД, это Берия да Меркулов». Не в последнюю очередь – и этап строительства мемориалов и произнесения речей на их открытиях[181].
Этапы путинский и медведевский
Серьезные перемены произошли в историографии шестого – «путинского» – этапа. Внешне – особенно поначалу – он напоминал «ельцинский»: поток публикаций на историческую тему – как монографий, так и сборников документов – не иссякает до сих пор. Но книги эти готовились по нескольку лет, и их корень, как правило, еще в той демократичной и плюралистичной общественной атмосфере, а также в либеральной архивной ситуации, что были свойственны именно для эпохи Ельцина.
Поинтересуемся: что стало с «катынским делом» в новом столетии? В 2004 году Главная военная прокуратура подтвердила вынесение «тройкой НКВД» 14 542 смертных приговоров польским военнопленным, после чего объявила дело закрытым, а личные дела – засекреченными и отказала родственникам в реабилитации (под предлогом, что непосредственно именные приказы о расстрелах отстутствуют). После трагической гибели в 2010 году близ Смоленска президента Польши Леха Качинского, летевшего в Катынь на 60-летие катынского расстрела, и принятия Госдумой резолюции «О Катынской трагедии и ее жертвах», не поддержанной только коммунистами, к вопросу о реабилитации вернулись в 2011 году, но прокуратура так до сих пор и не рассекретила свои материалы. В 2013 году в Варшаве по-польски, а в 2015 году в России по-русски вышла составленная А. Гурьяновым 865-страничная книга «Убиты в Катыни. Книга памяти польских военнопленных – узников Козельского лагеря НКВД, рассстрелянных по решению Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 марта 1940 года», изданная Международным обществом «Мемориал» (Москва), Центром «Карта» (Варшава) и издательством «Звенья», содержащая 4415 биограмм расстрелянных поляков, каждая из которых состоит из юридически релевантных данных.
В 2000-е и 2010-е гг. работа в российских архивах ощутимо усложнилась. Даже если отвлечься от таких конфузно-казусных ситуаций, когда для исследователей фактически «закрываются» фонды, с которыми они работали десятилетие назад и которые уже в значительной мере опубликованы, архивы постепенно снова становятся по другую сторону незримых «баррикад», за которыми продолжают свой нелегкий труд явно вошедшие во вкус историки.
Казалось бы, давно пора как можно шире раскрыть ведомственные военные архивы. В одном только ЦАМО хранится около 10 млн документов, из которых только 2 млн на открытом хранении.
8 мая 2007 года, то есть за день до 62-летней годовщины Победы, министр обороны РФ А.Э. Сердюков издал приказ № 181 «О рассекречивании архивных документов Красной Армии и Военно-Морского Флота за период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов», отменяющий предыдущий аналогичный приказ[182] и предусматривающий снятие грифов секретности с архивных документов Красной армии и Военно-Морского Флота за период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, находящихся на хранении в ЦАМО, в Центральном военно-морском архиве и архиве военно-медицинских документов ВММ[183].
Казалось бы, объявлено о начале массового рассекречивания, под которое подпадает несколько миллионов дел – ура, о чем еще мечтать историку! Ура!!!
Но… перед тем, как уйти, министр обороны Сергей Иванов подписал приказы, которыми в разы расширил перечень категорий сведений, которые не подлежат рассекречиванию в документах о ВОВ: «Если в приказе Минобороны 1997 года подобных категорий сведений было восемь, то благодаря Иванову их количество увеличилось до двадцати. Таким образом министр обороны Иванов на многие годы вперед ограничил круг источников, с которыми смогут работать исследователи. <…> Архивная служба Вооруженных Сил в своем письме № 350/292 от 01.03.2007 отказалась перечислять все категории сведений военного времени, отнесенные Ивановым к не подлежащим рассекречиванию…»[184]
Фацит: «В ЦАМО, по официальным данным, хранится 10 миллионов дел военного времени, из них лишь 2 миллиона было официально рассекречено, поэтому поштучное рассекречивание архивных фондов растянется на столетия, если не будет принято волевое политическое решение, позволяющее снять все эти документы с секретного хранения скопом, оговорившись, что поштучного рассекречивания не требуется за давностью лет и в связи с особой общественной значимостью изучения военной истории»[185].
Назначение В.В. Путина премьер-министром, а потом и переизбрание его президентом было воспринято многими архивными функционерами как сигнал к замораживанию работ по рассекречиванию и к сворачиванию «вседоступности» архивов и «вседозволенности» анализа, ставшими в ельцинское десятилетие нормой. И даже неважно, посылал ли президент этот сигнал или нет, важно, что он был так услышан и понят. Важнейшая новость на этом фронте – так называемое «архангельское дело»: следствие, в сентябре 2009 года открытое против историка М. Супруна и архивиста полковника А. Дударева, на тот момент директора Информационно-аналитического центра УВД по Архангельской области и входившего в его состав архива, обвиненных в якобы незаконной передаче Германии архивных данных о немцах, репрессированных в СССР (Дударева уволили в результате следствия)[186].
Но как можно считать «личной тайной» банальные установочные данные о нескольких тысячах репрессированных, ничем не отличающиеся от сведений, миллионы раз использовавшихся в сотнях российских региональных Книг Памяти?
Тем не менее слушания в Архангельском суде, к большому сожалению, так и не были выиграны. Само это дело создало опаснейший для истории прецедент: с того момента архивы в аналогичных случаях будут перестраховываться и не станут выполнять свою миссию посредников между исторической наукой и государственным хранением эмпирики. Подтверждений этому более чем достаточно.
К сожалению, в России еще не выработалась практика в спорных случаях идти в суды. Такие случаи единичны, но даже поражения в судах оборачиваются изменениями в архивах к лучшему. Так, после встречи в суде Георгия Рамазашвили и ЦАМО (чем не битва Давида и Голиафа?) этому ведомственному архиву пришлось сбросить шкуру мастодонта и взять равнение на государственные. А до суда ты не мог пользоваться ноутбуком и должен был показывать уполномоченным девушкам, тетушками и бабушкам свою заветную тетрадку, чтобы они проверяли, что это ты там записал и нет ли там чего-то такого, чего тебе не то что знать, а и читать не надо. И еще много прочих вещей, которые делали работу там унизительной и малопродуктивной.
Может быть, это наивно, но мне кажется, что многие элементарные вещи могли бы легко и цивилизованно решаться именно судами. При всем скепсисе, которого заслуживает басманное судоговорение, вертикаль российских судов восходит к Кремлю все же не повсеместно, и правовое поле местами скорее существует, чем отсутствует, то есть оно имеет форму архипелага, а не материка.
Суды не будут делать под козырек Комитету «Победа» и прочим эманациям и ипостасям коллективного ГлавПУРа. Имеет значение и статус истца: существенно, если туда будут обращаться не индивидуальные читатели архивов или историки, хотя бы и с именем, а их группы. «Идеальный», с точки зрения защиты интересов, истец – это некая условная Ассоциация читателей архивов (организация крайне целесообразная, но, увы, не существующая). В таком случае это будет игра почти на равных, а самое главное – на нейтральной территории. В противном же случае, то есть на своем поле, ГлавПУРовская линия легко побеждает. И то: если надо, ворота передвинут, и если захотят, будут одиннадцатиметровый бить с семи метров. Но, перенесись этот спор в суд, им было бы уже не так легко.
Конец ознакомительного фрагмента. Купить книгу
134
Семенов-Тян-Шанский В.П. О могущественном территориальном владении применительно к России. // Изв. Русского Географического Общества. Спб., 1915. Т. 51. Вып. 1. С. 425–458.
135
Кроме военнопленных было расстреляно еще около 7 тыс. гражданских поляков различного социального статуса.
136
Трудные пути правды…,2000.
137
Интересно, что излюбленной критической мишенью армейских консерваторов оказался все же не А.Т. Твардовский, а К.М. Симонов: где бы он ни работал – в «Литературной газете» ли или в «Новом мире» – на него как на главного редактора этих изданий всегда находились охотники написать более или менее разнузданный донос.
138
Великая Отечественная война (Историография). Сборник обзоров. / Ред.: Месяцев Н.Н., Шевырин В.М. // М.: ИНИОН, 1995. 200 с. (400 экз.).
139
Барбашин И.П., Кузнецов А.И. и др. Битва за Ленинград. 1941–1944. М., 1964.
140
Трудные пути правды… 2000. С. 23–24. Со ссылкой на: РГАНИ. Ф. 5. Оп. 47. Д. 112. Л. 1–8. К этому времени Мильграм являлся автором таких (совместных с Д.И.Корниенко) трудов, как «День военно-морского флота – всенародный праздник трудящихся» (М., Воениздат, 1947), «Военно-морской флот Советской социалистической державы» (М., 1949; М., 1951). Искомую степень кандидата исторических наук он получил, но из его публикаций, представленных в каталоге Российской государственной библиотеки, претензией на научность обладает разве что одна: Один против двух (бой эскадр миноносца «Новый» с двумя германскими эсминцами 17 августа 1915 г.). М.,[б.д.].
141
Трудные пути правды… 2000. С. 38–47. Соответствующее разрешительное постановление Секретариата ЦК КПСС за № Ст-83/11 было принято только 11.10.1963 (Там же. С. 60. Со ссылкой на: РГАНИ. Ф. 4. Оп. 17. Д. 117. Л. 39–41).
142
Постановление Секретариата ЦК КПСС № Ст83/11 от 11.10.1963 «О снятии с секретного хранения и публикации в открытой печати архивных документов периода ВОВ» (Трудные пути правды… 2000. С. 60. Со ссылкой на: РГАНИ. Ф. 4. Оп. 17. Д. 117. Л. 39–41).
143
Трудные пути правды… 2000. С. 30–31. Со ссылкой на: РГАНИ. Ф. 4. Оп. 16. Д. 341. Л. 176–178; Оп. 15. Д. 87. Л. 39. См. также: Исторический архив. 1992. № 1. С. 199–200.
144
Трудные пути правды…, 2000. С. 35–37.
145
См. приказ начальника Главпура армейского комиссара 2 ранга Запорожца от 31.01.1941 о реализации этого при- каза (ЦАМО. Ф. 32. Оп. 920265. Д. 1. Л. 8—10).
146
Подробнее см.: Борисов В.А. Высшие органы военного руководства СССР (1923–1991 гг.) // http://pravoved.jurfak.spb.ru/old/default.asp?cnt=172.
147
Примерами могут послужить майское 1956 года разногласие между Г.К. Жуковым и «Красной звездой» (органом, направлявшимся ГЛАВПУ) по вопросам освещения начальных этапов войны. См.: Трудные пути правды… 2000. С. 25–26. Со ссылкой на: РГАНИ. Ф. 5. Оп. 37. Д. 12. Л. 40–58.
148
См.: Сулла А. Генерал Епишев: на партийно-политическом Олимпе. / Предисл. и пер. с англ. А.В. Фролова. // ВИЖ. 1993. № 3. С. 62–70; № 4. С. 63–71.
149
Трудные пути правды… 2000. С. 23–24. Со ссылкой на: РГАНИ. Ф.5. Оп.30. Д.184. Л.22–29. Забавно, что тому же В. Некрасову в 1962 году пришлось отстаивать перед инстанциями так же и право сохранить в «Окопах Сталинграда» упоминания Сталина! (См. там же. С. 55–56 и 132–133, по: РГАНИ. Ф. 5. Оп. 36. Д. 141. Л. 21–22).
150
Трудные пути правды…, 2000. С. 88. Со ссылкой на: РГАНИ. Ф. 5. Оп. 62. Д. 35. Л. 63.
151
Федоров Г. Мера ответственности. // Новый мир. 1966.№ 1.
152
Один из них, военный историк В.А. Анфилов, старший преподаватель Военной академии Генштаба и автор первого открытого труда о начале войны (Анфилов В.А. Начало Великой Отечественной войны (22 июня – середина июля 1941 г.). Военно-исторический очерк. М., 1962) был уволен из Академии и отстранен от научной работы. Кроме того, в 1967 г. компетентными органами была пресечена попытка передать материалы этого обсуждения в зарубежную печать (Трудные пути правды…, 2000. С. 61–62. Со ссылкой на: РГАНИ. Ф. 4.Оп. 21. Д. 10. Л. 1–8).
153
Деборин Г.А., Тельпуховский Г.С. В идейном плену у фальсификаторов истории. // Вопросы истории КПСС. 1967. № 19. С. 127–140.
154
Трудные пути правды…, 2000. С. 72–77, 135–140.
155
Трудные пути правды…, 2000. С. 84–87.
156
Трудные пути правды…, 2000. С. 63–66. Со ссылкой на: РГАНИ. Ф. 5. Оп. 55. Д. 130. Л. 68—167.
157
Вып. 1. Прелюдия войны… (350 с.); Вып. 2. Черное лето 1942… (303 с.); Вып. 3. 1944…. (322 с.).
158
Диалектика закрытого и открытого изданий – довольно распространенный прием: так, Идеологический отдел ЦК КПСС отказал даже маршалу Ф.И.Голикову в его желании издать книгу по истории советской военной разведки, мотивируя это тем, что массовый читатель почерпнет достаточные сведения из «Истории ВОВ», а для специалистов можно выпустить закрытое издание (Трудные пути правды…, 2000. С. 66–67. Со ссылкой на: РГАНИ. Ф. 5. Оп. 55. Д. 130. Л. 187).
159
Трудные пути правды…, 2000. С. 81–84.
160
«Битва за Кавказ» (1967), «Через Карпаты» (1970) и «Годы войны. 1941–1943» (1976).
161
Трудные пути правды…, 2000. С. 99—101. В вышедшей на следующий день (1 июля) совместной Записке Отдела пропаганды ЦК КПСС (В. Тяжельников) и Госиздата СССР (Б. Стукалин) устанавливалось, какого уровня и рода мемуары надлежит публиковать и в каких издательствах (Там же. С.147–149).
162
Трудные пути правды…, 2000. С. 98–99. Со ссылкой на: РГАНИ, Ф. 5. Оп. 73. Д. 294. Л. 1–7.
163
Трудные пути правды…, 2000. С. 107–109. Со ссылкой на: РГАНИ, Ф. 5. Оп. 76. Д. 12. Л. 1—19.
164
Именно этот приказ стал «юридической пружиной» событий в не одобренной ЦК повести В. Быкова «Мертвым не больно».
165
Ни в той, ни в другой публикации не приведены сведения об источнике (архивный шифр).
166
См., в частности, статью А.М. Самсонова «Сталинград: ни шагу назад!» (Московское новости. 1988, 7 февр. № 6) и его интервью «Сталин дал приказ…» (Известия. 1988, 14 авг.). См. также письмо ветерана войны А.Е. Хопина «Напечатайте приказ № 227» в кн.: Самсонов А.М. Знать и помнить. Диалог историка с читателем. М.: Изд-во политической литературы, 1988. С. 57.
167
История советской политической цензуры: Документы и комментарии. М., 1997. С. 221–222. Со ссылкой на: РГАНИ. Ф. 4. Оп. 35. Д. 110. Л. 79–86.
168
Симптоматично, что в аргументации «Комиссии Бурденко» даже не фигурировала деталь, к которой так приклеятся со временем все постсоветские «отрицатели Катыни»: немецкие пистолеты «вальтер» и немецкие пули к нему как орудие убийства. Знаменитый хирург, вероятно, знал (или слышал), что «вальтер» – это любимый инструмент Василия Блохина и других професссиональных палачей НКВД: он не перегревается при учащенной стрельбе и не дает осечки.
169
См. в записке А.С. Черняева и В.С. Гусенкова М.С. Горбачеву от 16 июня 1987 г.: «Кое-кто в Польше спекулирует на «катынском» деле, использует его как раздражитель для подогревания антисоветских настроений. // В ходе совместной работы по закрытию «белых пятен» нам не удается отговориться от этой проблемы. // Во всяком случае для самих себя надо бы внести ясность. // В отделе ЦК говорят, что даже что-то сохранилось в архивах Смоленска. Очевидно, что-то должно быть в архивах КГБ, Центрального Комитета. // Другое дело, как использовать то, что станет нам известно после специального изучения этого дела с позиций исторической правды. // Нельзя ли поручить тт. Чебрикову, Лукьянову, Болдину заняться этим вопросом?» (Реабилитация: как это было, 2004. С. 14, со ссылкой на: Архив Фонда М.С. Горбачева. Ф. 2. Д. 80. Л. 1–2).
170
Реабилитация: как это было…, 2004. С. 190–191, со ссылкой на: РГАНИ. Ф. 89. Оп. 14. Д. 1. Л. 41–43.
171
Пункт 152/15 «К вопросу о Катыни». См.: Реабилитация: как это было…, 2004. С. 193, со ссылкой на: РГАНИ. Ф. 3.Оп. 103. Д. 168. Л. 11.
172
Реабилитация: как это было…, 2004. С. 75–76, со ссылкой на: РГАНИ. Ф. 3. Оп. 103. Д. 132. Л. 79–80.
173
РГВА. Ф. 40.
174
См. историю вопроса в: Лебедева Н.С. (Отв. сост.). Катынь. Март 1940 г. – сентябрь 2000 г.: Расстрел. Судьбы живых. Эхо Катыни. Документы. М.: Весь мир, 2001. С.421–446.
175
Тексты пакта вместе с секретными протоколами были опубликованы в США еще в 1948 г. Однако их подлинники были «обнаружены» в Архиве Президента РФ (АПРФ) только в 1989 г. специальной комиссией ЦК КПСС под началом А.Н. Яковлева. С этими «утраченными», по утверждению советской стороны, документами в 1975 г. знакомился А.А. Громыко, в 1979-м – И.Н. Земсков, а в 1984–1987 гг. – зав. Общим отделом ЦК В. Болдин.
176
Реабилитация: как это было…, 2004. С. 323–325, со ссылкой на: РГАНИ. Ф. 89. Оп. 14. Д. 1. Л. 49–52.
177
В то время газеты еще читались, в том числе и представителями высшей власти.
178
О работе этой комиссии см. в информации Генерального прокурора СССР Н.С.Трубина в аппарат президента СССР М.С.Горбачева от 22.01.1991 (Реабилитация: как это было…, 2004. С. 536–537, со ссылкой на: РГАНИ. Ф. 89. Оп. 14. Д. 1. Л. 57–58).
179
Нюрнбергский бумеранг / Публ. и преамбула А.С. Прокопенко. Предисловие Н.Ю. Зори // Военно-исторический журнал. 1990. № 6. С. 47–57.
180
Галицкий В.П. Вражеские военнопленные в СССР (1941–1945) // Военно-исторический журнал. 1990. № 9.
181
Впрочем, отметим еще раз, что президент РФ Ельцин – в отличие от своих украинского и, разумеется, польского коллег – ни на одном из этих мероприятий замечен не был.
182
Приказ Минобороны РФ № 137 от 14 апреля 2005 г. «О рассекречивании архивных документов Красной Армии и ВМФ за период Великой Отечественной войны». Его отмены Г. Рамазашвили добился через Минюст РФ.
183
А именно: «а) управлений и учреждений Генерального штаба Красной Армии, Народного Комиссариата Военно-Морского Флота, видов и родов войск, специальных войск, Тыла Красной Армии, управлений по вооружению и военной технике; б) фронтов, военных округов, флотов, армий, флотилий, соединений, воинских частей и учебных заведений, а также управлений и учреждений, входящих в состав фронта, военного округа, флота; в) политических органов, партийных и комсомольских организаций фронтов, военных округов, флотов, армий, флотилий, соединений, воинских частей, управлений, учебных заведений и учреждений; г) кадровых органов Красной Армии и Военно-Морского Флота; д) военных госпиталей, медико-санитарных частей и учреждений, военно-медицинских и военно-врачебных комиссий».
184
Рамазашвили Г. Войны за просвещение – доступ к истории в наших руках // Индекс. 2007. № 26. В Сети: http://index.org.ru/journal/26/ram26.html
185
Там же.
186
Оно было просто прекращено «за истечением срока давности». Дудареву же (у него было отдельное дело) все же присудили один год, но условно. См., например: Рамазашвили Г. Дело Дударева – Супруна: истоки, судебные перспективы и последствия // Индeкс. 2009. Вып.30 (В Сети: http://index.org.ru/journal/30/13-ramazashvili.html); Косинова Т. Архангельское дело // Полит. ру. 2010. 16 декабря (в Сети: http://www.polit.ru/analytics/2010/12/16/arhangelsk.html); Рамазашвили Г. Кто и зачем ограничивает доступ к архивным фондам? (К итогам одного судебного дела) // НЛО. 2012. № 6. С. 429–440 (в Сети: http://www.nlobooks.ru/node/2922); Рамазашвили Г. Опасный прецедент. О роди адвокатов в исходе одного историко-архивного дела // Свободная мысль. 2012. № 3–4. С. 81–93 (в сети: http://svom.info/entry/225-opasnyjprecedent-o-roli-advokatov-v-ishode-odnogo/) и др.