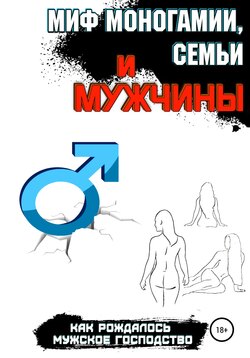Читать книгу Миф моногамии, семьи и мужчины: как рождалось мужское господство - Павел Соболев - Страница 10
Часть I. Вводная теория
Глава 1. Рождение норм
8. Как часто мыслит человек?
ОглавлениеДо тех пор, пока люди изъявляют ровно те же устремления и ценности, что и все прочие представители культуры, актуальным остаётся вопрос о наличии у них общественного сознания, а никак не индивидуального (Александров, Александрова, 2009; Панов, 2017, с. 207). Люди мыслят общими категориями, выработанными задолго до них, используют их как инструменты познания действительности и в итоге получают тот единственный продукт, который и мог быть этими инструментами получен: свой неуникальный взгляд на мир с его неуникальными переживаниями и неуникальными устремлениями. Сознание, выкроенное по общим лекалам и сшитое из общего материала, может называться только общественным (общим).
Сознание какого бы человека мы ни взяли заполнено "множеством коллективных представлений, воспринятых этим сознанием по традиции, так что их происхождение теряется во мраке времени" (Леви-Брюль, 1994, с. 18).
Образно говоря, культура, влитая в голову конкретного человека и будто обособленная в ней, порождает иллюзию собственного «Я» – как если бы каждая по́ра большой губки, источая впитанную влагу, считала эту влагу «своей». Пока мы формулируем все наши мысли и переживания общепринятыми терминами, мы остаёмся органами этого общественного начала, отделить себя от которого очень и очень сложно. Поэтому когда носитель общественного сознания заявляет о каком-либо своём взгляде или желании, то так видит и этого желает сама культура (Александров, Александрова, 2009, с. 22).
Слово «Я» имеет чисто «грамматическую» природу, то есть "не называет никакую объективную сущность, а всего лишь помогает выстроить коммуникационную ситуацию" (Михайлов, 2015, с. 71), позицию, с которой культура вещает о себе самой. Носитель общественного сознания (или коллективный субъект – Лекторский, 2010, с. 660) – это орган своей культуры, её выразитель, одна из миллиардов её конечностей. Это очень напоминает фильм «Матрица», где одноимённая компьютерная программа активно действовала в виде сонма своих "агентов".
Когда очередная старушка узнаёт, что я убеждённый холостяк и чайлдфри, и непременно разражается тирадой об «эгоизме», о том, что "так нельзя", иначе "человечество вымрет", я не могу смотреть на неё без улыбки. Я думаю о том, что вижу перед собой агента культуры, представляю её в чёрном костюме и в солнцезащитных очках, и не могу не улыбаться. Увещевания подобных старушек – и есть трансляция культуры. Через них культура тянет руки, чтобы затащить в свои древние подземелья ещё одну жертву. Не зря процесс формирования личности под действием общественного сознания Маркс и Энгельс называли "обработкой людей людьми" (Маркс, Энгельс, 1955, с. 35) – учитывая всех этих старушек-агентов, очень метко сказано.
Каждый раз, сталкиваясь с такой бабулькой, понимаешь, что в её лице с тобой говорит толпа ушедших эпох. Её устами говорят её деды и прадеды, мамы и бабушки, друзья и соседи, Белинский и Пушкин, и древний шаман у капища. И отвечать ей нет нужды, потому что ответы твои никто не услышит – ибо все они давно мертвы.
В философии и в когнитивных науках личность описывается то как «узелок», завязывающийся в сети взаимных отношений между людьми (Ильенков, 1984, с. 329), то как "заворачивание линий культурно-исторического движения" вокруг человека (Давлетова, Шабельников, 2015, с. 102) – то есть процесс рождения личности главным образом «пляшет» вокруг метафоры сгущения, уплотнения чего-то изначально разреженного, конденсирования его в нечто плотное и осязаемое, как грозовое облако, выпадающее градом, или же как шерсть, наматываемая на веретено. Смыслы из безграничного пространства культурных текстов словно сжимаются в один конспект, стоит им только зацепиться за тело родившегося ребёнка, который тут же превращается в их читателя – в человека "без истории, без биографии, без психологии" (Барт, 1994, с. 390). Иначе говоря, субъект не создаёт себя, как не создаёт и свой текст, он просто «читает» то, что вокруг него, «прочитанным» заполняя пустоту внутри себя. Так рождается «Я» – оно приходит извне.
Более радикально выразился Андрей Курпатов в ставшей культовой среди молодёжи книге "Красная таблетка": "Нам кажется, что мы – результат собственного сознательного выбора, а мы – лишь случайная производная. Нас создала социальная машина, которая сама запуталась в собственных предрассудках, лжи и откровенном невежестве" (с. 4). "Мы пришли в этот мир, ничего толком не соображая, не имея никакой собственной позиции, и на нас надели то мировоззрение, которое на тот момент и на данной территории было в моде" (2018, с. 132).
Что важно, с точки зрения самой личности, её формирование выступает как развёртывание собственных идеалов её деятельности (Давлетова, Шабельников, с. 102), будто всё идёт изнутри, а не снаружи, что и порождает иллюзию собственного «Я». Культура, передаваемая из рук в руки, через отношения с другими проникает в мозг человека и делает его своим органом, "послушным, легко управляемым орудием" (Ильенков, 1984, с. 328). Историк Юваль Харари выражается совсем радикально, сравнивая культуру с инфекцией, вирусом или паразитом, который завладевает человеком и требует от него её распространения дальше, другим представителям вида (2016, с. 295) – порой даже ценой собственной жизни.
В случае с культурой пример с "проникновением в мозг" всё меньше оказывается метафорой: в момент копирования действий мозговая активность людей синхронизируется (Naeem et al., 2012), и ровно это же происходит, когда два человека просто вступают в разговор (Perez et al., 2017). Взаимодействуя, люди словно становятся "раздельным целым". Индивидом каждого называют только потому, что его можно посчитать вместе с другими или положить отдельно от других. Это обособление чисто пространственное, но не функциональное, на деле же он, как и все, суть одно целое – орган культуры.
"Хотя общество ничто без индивидов, каждый из них скорее продукт общества, чем его создатель" (Дюркгейм, 1991, с. 327).
Важный момент заключается в том, что поскольку носитель общественного сознания получает его в уже готовом виде извне, то для него оказывается почти невозможным объяснить причины многих своих действий, обосновать свои устремления и эмоции; для него они выступают как самоочевидные внеисторические данности, как нечто, существующее всегда, независимое от условий и не требующее объяснений, потому что "это же и так понятно".
Массы не задумываются над своими повседневными практиками, составляющими основную часть их жизни: почему они носят одежду, почему пожимают руку при встрече, вступают в брак, рожают детей и многое другое. Для масс это настолько незыблемые абсолюты, что даже не возникает мысли вскрыть природу этих действий, их смысл. Именно тот факт, что целые пласты действий и деятельностей носителями общественного сознания осуществляются некритично и безотчётно (просто потому, что "так принято"), наводит на мысль, что эти носители ведут в целом неосознаваемый образ жизни, что позволяет считать феномен общественного сознания идентичным феномену бессознательного (Улыбина, 2003, с. 27; Александров, Александрова, 2009, с. 38). Парадокса здесь нет: общественное сознание тем и характерно, что носитель не знает его истоков, так как оно (как совокупность культурных текстов) возникло задолго до самого носителя. Общественное сознание оказывается в положении своеобразной аксиомы, лежащей в основе бытия, являющейся его центром и потому не подлежащей рефлексии и критическому осмыслению, и даже исключающей их и требующей чистой веры (Абульханова-Славская, 1991, с. 194). Задуматься над истоками собственного поведения для носителя общественного сознания равносильно попытке развернуть глаза внутрь и рассмотреть заднюю стенку своего черепа.
Для понимания принципов работы собственного сознания и для понимания его общественных истоков человеку необходимы большие объёмы дополнительных знаний, которые оказываются доступными лишь целенаправленно ищущим, и, что важно, во многом это будут оказываться знания доминируемые, то есть всё то, что аккуратно вытеснено основным массивом культурных текстов в связи с несоответствием основным культурным векторам. Иными словами, индивидуальное сознание вырастает из пространства доминируемых текстов.
К примеру, когда узнаёшь, что женское сексуальное влечение, вопреки мифу доминирующего знания, ничуть не уступает мужскому, а может, и превосходит его, то начинаешь видеть ситуацию иначе, чем большинство, начинаешь и вести себя иначе, не как все. Когда узнаёшь нечто малоизвестное, что описывает реальность адекватнее общепринятых концепций, то это меняет твоё восприятие реальности, делает его непохожим на восприятие большинства, и в этот момент ты будто чуть отдаляешься от общественного сознания или же отхаркиваешь какую-то его часть за непригодностью. В этом плане индивидуальное сознание хоть и развивается из сознания общественного, вырастает на его базе, но непременно вступает с ним же в борьбу за право смотреть на мир иначе, чем тому учит господствующая культура.
Индивидуальное сознание рождается в ходе переосмысления мира, переименования его явлений и вытеснения голосов предков из собственной головы. И это уже напрямую связано с категорией свободы, которая, в понимании Фуко, состоит не в том, чтобы понять или определить, кто мы такие, а в том, чтобы восстать против уже существующих определений, категорий и классификаций (цит. по Rajchman, 1984, p. 15) и тем самым получить возможность выбрать собственный путь.
Даже самые образованные люди нашего века оказываются лишь органами своей культуры, бессознательными носителями общественного сознания. Опыт и ценности своих предков они полагают своими, пребывая в искренней убеждённости, что говорят от своего лица. Но пока они желают и делают всё то же самое, что и все вокруг, они остаются носителями общественного сознания, а никак не своего, индивидуального, – потому что для его формирования надо провести поистине титаническую работу. Все колоссальные запасы знаний в головах эрудитов оказываются лишь простым нагромождением фактов, если не способны сколь-нибудь ощутимо влиять на их поведение. Не зря в философии различают знание и понимание (Розанов, 1996). Они – как ингредиенты к салату и сам салат: ящик с огурцами мы салатом не назовём, прежде их надо порезать, перемешать, залить маслом и присыпать укропом. Так и понять – значит успешно внедрить новое знание в систему собственных представлений о мире, что непременно ведёт к изменению этих самых представлений (Аветисян, 2006), а, следовательно, ценностей и поведения.
Кто-то в интернет-пространстве хорошо выразился: "Понимание – это обнаружение логических, метафорических, ассоциативных, эмоциональных взаимоотношений между новым знанием и остальной моделью реальности, построенной на предыдущих знаниях. Чтобы знания стали пониманием, их нужно годами втирать себе в мозг". Каждое новое понимание ведёт к некоторому смещению взгляда на мир. Или, как считал радикальный поэт Илья Кормильцев, если ты сегодня что-то новое понял, то не позднее чем завтра ты должен начать что-то новое делать.
Мои старые друзья, с которыми ещё в школе зачитывались "Происхождением семьи, частной собственности и государства" Энгельса и понимали, что брак и семья – лишь формы эксплуатации человеческого ресурса в угоду сложившейся экономической обстановке, годы спустя женились и рожали детей. Когда мой самый близкий друг и ярый приверженец этих прогрессивных взглядов в свои 30 лет заявил, что женится, я удивлённо спросил:
– Зачем?!
– Потому что она хорошая, – смущённо ответил он. Он смутился моему вопросу, потому что такие вопросы не принято задавать. А я задал. Поставил доминирующее знание под сомнение.
– Но ты ведь как никто другой понимаешь, что всё это к браку не имеет никакого отношения? Тогда зачем?!
– Потому что мы любим друг друга, – ещё более растерянно ответил он, по сути, просто повторив прежний тезис.
Прекрасно понимая, что одно никак не связано с другим, он всё равно делал, что принято, и говорил, как принято. Так положено, так заложено, и он ничего не мог с этим поделать – этот механизм с его шаблонами был с самого детства глубоко вшит в его подкорку. Несмотря на все свои прогрессивные взгляды, парень оставался самым что ни на есть обычным органом культуры – он делал "как все".
"Мощные социальные процессы обладают удивительной силой, подавляющей более слабый процесс вроде кратковременной рефлексии" (Коллинз, 1994, с. 82).
И конечно, уже через год он начал ей изменять. Так делают все, и он не был исключением, потому что был носителем общественного сознания, то есть, по сути, был бессознательным. Не зря подмечено, что подавляющее большинство вчерашних гениальных младенцев с лёгкостью меняют многотрудную привилегию создания новых форм и канонов на уют рутинного функционирования (Михайлов, 2015, с. 40).
Ещё через год он даже думал покончить собой, так невыносима стала его жизнь в браке. Но он переборол себя, так как все перебарывают, и несчастливый брак остаётся молчаливой нормой, тем, о чём принято не говорить. Из пятерых моих ближайших друзей четверо думали о разводе и двое из них – о самоубийстве; и в обоих случаях по причине брака. Так выглядят носители общественного сознания.
Как бы ни был ты прогрессивен во взглядах, а на действиях ты остаёшься ровно тем же, что и все. Все мы герои в потенции, но актуально же мы – обыденность и статистика. Марксисты женятся, а феминистки выходят замуж – такова правда жизни. Думаешь одно, делаешь другое – в этом и состоит очарование общественного сознания: оно позволяет не ломать голову над выбором. Мышление активно используется лишь в незначительных бытовых ситуациях (для расчётов 2×2, куда вставить штекер, оценка сдачи на кассе и т. д.), масштабные же явления не осмысляются – для них применяются давно заготовленные культурные сценарии. Эти сценарии настолько глубоко вшиты в психику, что даже не осознаются – как воздух, которым дышим, становится незаметным. Потому-то одним из главных открытий социологии оказалось то, что рациональность ограниченна и появляется лишь при определённых условиях (Коллинз, 2004, с. 403).
В "Бегстве от свободы" Эрих Фромм описывал, как люди вступают в брак чисто по традиции, не задумываясь, что это и зачем, ошибочно принимая данный ход обстоятельств за своё собственное желание. Философ писал о типичном женихе: "В течение месяцев, ведущих к свадьбе, он твердо убеждён, что он хочет жениться, и первый – несколько запоздалый – намёк на то, что это, быть может, не совсем так, появляется только в день свадьбы: на него вдруг нападает паническое желание удрать. Если он человек «здравомыслящий», то это чувство длится лишь считанные минуты; на вопрос, на самом ли деле он хочет жениться, он с неколебимой уверенностью ответит "да".
Мы могли бы привести массу примеров из повседневной жизни, в которых людям кажется, будто они принимают решение, будто хотят чего-то, но на самом деле поддаются внутреннему или внешнему давлению «необходимости» и «хотят» именно того, что им приходится делать. Наблюдая, как люди принимают решения, приходится поражаться тому, насколько они ошибаются, принимая за своё собственное решение результат подчинения обычаям, условностям, чувству долга или неприкрытому давлению. Начинает казаться, что собственное решение – это явление достаточно редкое, хотя индивидуальное решение и считается краеугольным камнем нашего общества" (Фромм, 2006, с. 207).
Мозг нужен людям, чтобы отгадывать кроссворды и участвовать в викторинах по эрудиции, теша распухшее Эго правильными ответами. В жизни, вдоль и поперёк прошитой культурными шаблонами, для интеллекта почти не остаётся места. Насколько уместно говорить о мышлении и свободной воле, когда всё наше поведение оказывается действованием по заранее написанным сценариям? Можно, но ровно так же, как можно считать свободным движение канатоходца на большой высоте. Мозг необходим человеку ровно до тех пор, пока он не освоит культуру, а дальше его можно выкидывать – автоматизмы прекрасно всё сделают сами. Психологам хорошо известно, что мышление начинается там, где "цель не может быть достигнута с помощью готовых средств" (Лурия, 1962, с. 379), а если для всех значимых решений давно заготовлены культурные шаблоны, то интеллект остаётся лишь для незначительных бытовых дел.
Пока привычные действия воспроизводятся слепо, автоматически, они являются мощнейшей силой воспроизводства ценностей, правил и практики (Адоньева, 2011, с. 18). Всякое действие, совершаемое по причине "так принято", оказывается транслятором непонятой культуры и свидетельствует о господстве общественного сознания. Если принять позицию Фуко, что опыт – это "то, из чего ты сам выходишь изменённым" (Фуко, 1996, с. 410), то у людей с общественным сознанием нет и опыта. События их жизни никак их не меняют, как только они окультурились, оказались слитыми с культурой. Инкультурация – единственный их опыт, у них есть лишь общественный опыт, запечатанный в культурных императивах, а индивидуальный опыт не осмысляется и потому ничего не стоит.
Все эти механизмы передачи опыта путём простого заимствования у Других прекрасно работали в древности, когда повседневность казалась застывшей на месте, и жизнь разделённых тысячелетиями поколений ничем не отличалась; но в условиях же "текучей современности", когда научный прогресс и изменения экономических и социальных отношений набрали свой нереальный темп, вся эта конструкция передачи древнего опыта посыпалась, оказавшись слишком громоздкой. Принуждая в новых условиях жить по старым канонам, культура стала приносить людям страдания. Внезапно девальвированные древние ценности оказались так же полезны, как карта плоской Земли для орбитальных полётов. Этим в частности и обусловлена утрата родительского авторитета в глазах молодёжи, усилившаяся в XX веке (Поливанова и др., 2013) – дети видят, что их родители ведут себя неадекватно новым социальным условиям, и потому больше не могут выступать образцами для подражания, что и привело к ориентации молодёжи на самих себя как более адекватных носителей современных взглядов и навыков. Нынешней молодёжи оказалось куда логичнее ориентироваться на отдалённых, но современных им Других, нежели на собственных родителей, носителей ценностей уже устаревших.
Ортега-и-Гассет считал, что массы – "это те, кто плывёт по течению и лишён ориентиров" (2008, с. 48). Но это не так. Массы как раз перегружены ориентирами, без ориентиров они и шага ступить не могут, поскольку рождать собственные смыслы и прокладывать свои пути они не способны, как паркинсоник, замерший на месте. Ходить по струнке и в указанном направлении – вот призвание масс, почему они старательно и выискивают ориентиры всюду, где только можно – в священных писаниях, в кино, в Instagram популярных звёзд. В этом плане точнее высказывание Бодрийяра, считавшего массы теми, "кто ослеплён игрой символов и порабощён стереотипами" (2007, с. 192).
Логично, что одним из трансляторов смыслов и ценностей выступает история – совокупное знание о жизни наших предков: как они поступали, чем дорожили, к чему стремились и чего избегали. Знания об этом выступают значимыми ориентирами для нашего собственного поведения здесь и сейчас, в условиях современности. Потому традиции так важны обычному человеку. Именно история и традиции стали фундаментом, на котором строилась и строится идентичность всех народов.
В свете этого нужно задуматься: а насколько адекватны наши представления о прошлом? Что если прошлое, которое нами мыслится, в действительности было не таким? Как изменятся наши ценностные ориентиры и поведение, если мы вдруг узнаем, что так знакомая нам социальная реальность не такая и древняя и возникла буквально вчера? Или как изменится всё это, если мы узнаем, что какие-то привычные нам аспекты общества действительно очень древние, но вот возникли они совсем не по какой-то "объективной необходимости", а чисто из-за древней жестокой и несправедливой идеологии? Это будет способно изменить наш взгляд на мир и собственное поведение?
Чтобы понять настоящее, необходимо разобраться в прошлом.