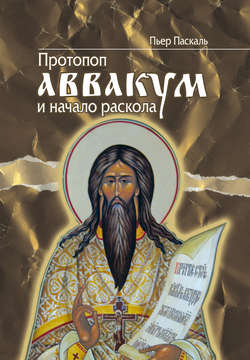Читать книгу Протопоп Аввакум и начало Раскола - Пьер Паскаль - Страница 11
Глава I
Русская церковь после Смутного времени. Стремление к реформе
Первый период (1616–1633): Филарет и Дионисий
II
Филарет отвергает латинство, подавляет свободомыслие, опровергает протестантское учение, критикует «литовские» книги, но терпит влияние протестантов
ОглавлениеФиларет не был ученым; он был боярином, которого сделали церковным деятелем помимо его воли. Он был не очень заинтересован в перестановке запятых или в выявлении той или другой ереси, что многие вычитывали в плохо составленных фразах; перед ним стояло иное, были вместе со всей массой верующих две общие задачи: защитить православие от внешних нападок и восстановить порядок в церкви.
Выстрадав в Польше восемь долгих лет, Филарет вынес из плена острую ненависть к католичеству и глубокое недоверие ко всему тому, что могло бы перенестись в Москву из области латинства. Благодаря ему чувство озлобления, порожденное или оживленное эпохой Смутного времени, перерождается уже в определенные действия, которые потом становится трудно ввести в определенные берега без острого столкновения с общественным мнением.
Раньше для католиков, желающих принять православие, существовало правило: они должны были быть миропомазаны. В начале XVII века, из-за ненависти жителей России ко всему польскому, они вынуждены были, подобно язычникам и мусульманам и вопреки всем церковным канонам, заново креститься. Однако в 1620 году митрополит Иона разрешил присоединить к православной церкви двух поляков без нового крещения. Филарет упрекнул его за то, что он это сделал в отношении людей, «сущих, аки псов, и ведомых врагов Божиих». Иона напрасно ссылался на 95-е правило 6-го Вселенского собора и на Ответы Нифонта Кириаку[91] – основные руководящие правила церковного устава: невзирая на это, он был запрещен как еретик и 16 октября предстал перед Собором, который и ввел новый порядок крещения латинян. Было указано, что латиняне заимствовали все свои ереси у евреев, монтанистов, манихеев, евномиан, ариан, василиан. К этому они прибавили и ряд своих собственных ересей, как, например, учение о чистилище и новый календарь. Были приведены также 26 пунктов, перечисленные в трактате «О фрязех и прочих латинах»[92]. В результате католиков объявили злейшими и свирепейшими из всех еретиков, существовавших в поднебесной; их крещение было признано не таинством, а осквернением. «Деяния» Собора, составленные в таких выражениях, утвержденные потом Ионой (раскаявшимся 4 декабря 1620 года) и позднее частично вставленные в Требник 1639 года, действовали вплоть до 1667 года[93].
Даже у православных, подданных Польско-Литовского государства, Филарет заметил ужаснейшие непорядки: в одной и той же семье один придерживается православной христианской веры, другой католической, третий лютеранской, другие – кальвинисты, анабаптисты, ариане и все они вместе едят и пьют за одним столом, соединяются браком, а некоторые из них даже молятся вместе… Многие из них во время службы в ектениях молятся за папу и называют себя униатами. Такова была та картина, которую патриарх нарисовал перед новым собором, собравшимся 16 декабря 1620 года для того, чтобы доказать необходимость принятия особых мер по отношению к так называемым православным белорусам. Было решено опросить их об их вероисповедании и крещении и крестить заново тех, которых не крестили троекратным погружением в купели согласно преданию апостолов, заставить отречься от латинской ереси тех, которых крестил униатский священник, а всех остальных заставить после недельного поста подтвердить свою правую веру во время исповеди[94].
Чтобы уничтожить всякое подозрение относительно влияния латинян, было упразднено положение Требников 1602 и 1616 годов, согласно которому разрешалось, в случае болезни, погружать ребенка в купель до шеи и затем правой рукой обливать его голову водой три раза. Те, которые получили такое ложное крещение, должны были снова быть крещены полным погружением в купель[95].
Но безбожие Запада угрожало православию и со многих других сторон. Страны, граничившие с Московским государством, переходя от XVI к XVII веку, являлись поистине центром всех ересей: к лютеранству добавился кальвинизм, затем появились «моравские братья», потом «польские братья», и на этой истерзанной почве зародились учения, уводящие от должного поклонения святыне, и даже учения, доходящие до чистого деизма. Одни отвергали иконы и посты, другие Святое Причастие, третьи Божественность Христа, первородный грех и крещение. Социн и его ученики презирали Ветхий Завет и считали Христа лишь человеком необыкновенной мудрости, правда, достойным определенного поклонения. Будный, не отвергая полностью откровения, отвергал Новый Завет. Иоанн Зоммер доходил до отрицания бессмертия души[96]. Все были охвачены прозелитизмом и обращали свои взоры на Восток. Еще в 1562 году в Несвиже Симон Будный опубликовал свой Катехизис «для простых людей языка русского». Далее возникает уже целая типография, созданная в 1625 году в Стокгольме Густавом-Адольфом, который издает на русском языке краткий лютеранский катехизис с молитвами (1628)[97]. Социниане были не менее активны: был снова найден русский перевод Нового Завета, сделанный в 1581 году в Хорошеве на Волыни, составленный всецело в их духе, согласно польскому варианту[98]. Позднее у них в Радове создался свой «арианский Рим», синод, гимназия, в которой училась тысяча учащихся, типография, в то же время их польский Катехизис (1605), тщательно составленный богословом В. Шмальцем, не нуждался в переводе для того, чтобы его поняли русские молодые дворяне юго-западной Руси. Был такой момент, когда в лице Лжедмитрия Первого они на Руси надеялись иметь своего человека: последний имел в качестве воспитателя, а потом близкого советника Матвея Твердохлеба, который был одним из их проповедников. Новое арианство, очевидно, пустило в нем глубокие корни. 7 ноября 1605 года к нему в Москву направили, в глубокой тайне, целую миссию из ариан, которая оставалась в Москве в течение нескольких месяцев[99]. Нам неизвестно, насколько эта миссия была успешна, но это был еще один удобный случай, по крайней мере для некоторых москвитян, познакомиться с новыми учениями.
Иностранцев-протестантов, обосновавшихся в Москве, было много. В столице они занимали целый квартал на юго-востоке, называвшийся Немецкой слободой. В 1601 году, с разрешения Бориса Годунова, они воздвигли там лютеранскую кирху[100]. У них были там свои пасторы и свои школы. В 1610 году и слобода, и церковь были разграблены и сожжены. Но вскоре после того, как был восстановлен порядок, иностранные колонии образовались снова, на этот раз в самом центре Белого города: в переписи 1621 года там зарегистрировано жилище «немецкого попа» и его помощника. В 1624 году появился и английский пастор. В 1626 году церковь сгорела, но она была снова построена за городской чертой, а в Белом городе образовалась вторая община, на Покровке; она охватывала тех, кого называли новыми немцами, главным образом, военных, взятых на царскую службу царем Михаилом. В 1629 году проживающие в Москве англичане и голландцы приобретают свою церковь, также в Белом городе. Немного позднее путешественник Олеарий насчитает в Москве около тысячи лютеран и кальвинистов[101]. Среди этих иностранцев некоторые пользовались влиянием: то были придворные врачи, офицеры, толмачи в Посольском приказе, купцы, нередко выполнявшие официальные миссии. У многих из них была русская прислуга, которая понемногу отвыкала от православных обычаев.
Кроме того, во время войн многие москвитяне различных сословий сталкивались с неправославными, друзьями и недругами, в образе мышления и жизни которых было мало общего со старым русским благочестием. И в результате не один москвитянин попал под влияние этой проповеди свободы мышления и поведения. Самые выдающиеся умы того времени чувствовали почти неотразимое влечение к иноземной культуре. В 1602 и 1603 годах восемнадцать молодых людей были направлены Борисом Годуновым в Англию, Францию и в Любек; они поехали туда для изучения языков; однако с 1613 по 1622 год непрерывно предпринимались энергичные шаги для их возвращения на родину, но, несмотря на неоднократные требования царских послов и обещания о помиловании, ни один из них не возвратился. Иные из них быстро забывали и свою страну, и цель своей миссии, и свою религию[102].
В то время даже в Москве имелась группа людей, которых больше не удовлетворяли ни обычаи, ни вера их предков. В их души вкрались сомнения и беспокойства эпохи. Ими ставились под сомнение установленные истины, они начали увлекаться богословскими дискуссиями, допускать большую свободу мысли. Они стыдились простоты своего языка, выдумывали по-ученому мудреные слова, без конца удлиняли малоосмысленные фразы, составляли рифмы, силлабические стихи в польском духе. С друзьями начинали уже переписываться в изысканном стиле, состязаясь в вежливости, расточая разные похвалы и уснащая речь эпитетами. В то же самое время возникает и свободное отношение к прежним православным устоям: Москва приобретает своих вольнодумцев и распутников.
Князь Семен Шаховской, в молодости военный, держался довольно неустойчивых политических убеждений: он служит царю Василию Шуйскому, потом переходит на сторону тушинцев, затем к шведам, после этого к Сигизмунду и, наконец, присоединяется к царю Михаилу, получая от всех этих правителей почести или владения.
Из этой жизни, полной приключений, он выносит знание латинских виршей, вкус к спорам, страсть к перу и антипатию к сдерживающим началам старины. Вопреки церковным уставам, в 1619 году он уже в четвертый раз сочетается браком. Тем не менее он выступает против Хворостинина, своего двоюродного брата, скептика в отношении 6-го Вселенского собора, осудившего монофелитов. Он составляет историю убийства царевича Димитрия, пишет письмо шаху Аббасу, убеждая его принять крещение, далее сочиняет речь о московском пожаре 1626 года, службу в честь святой Софии, службу московским и всея Руси святителям, пишет послания своим друзьям, даже автобиографию. В течение всей своей долгой жизни он писал и спорил и был вынужден постоянно страдать из-за своей неосторожности, отсутствия конформизма, отхода от общепринятых мнений[103].
Шаховской всегда считал себя православным в полном смысле слова. Но не таков был князь Хворостинин, который выступал против него скорее с оскорблениями, чем с аргументами, защищая слишком смелые убеждения. Этот надменный и темпераментный молодой человек, очутившийся в восемнадцать дет при блестящем и развращенном дворе Лжедмитрия Первого, не смог устоять перед соблазном. Пошатнувшись в своей вере, он высмеивал православие и презрительно относился к соблюдению постов и христианских обычаев. Отправленный впоследствии на покаяние в Иосифо-Волоколамский монастырь, он старался – неизвестно, искренне или нет – показать себя приверженцем старых нравов; он храбро и усердно, как верноподданный, участвовал в войне с поляками. Но когда-то пробудившиеся в его сознании сомнения никогда его не покидали; у него были латинские книги; в частных беседах он позволял себе критиковать Соборы, он уверял, что «нечего молиться, что не будет воскресения мертвых», он отрицал необходимость поста и почитание святых. Он даже не разрешал своим слугам ходить в церковь. Сам он провел Страстную неделю 1622 года в попойках и кутежах; в Пасхальную ночь он все еще пил и не явился ни к заутрене, ни к обедне. Жизнь в Москве казалась ему пошлой и неинтересной: «Люди глупы, не с кем слова сказать – на полях у них много ржи, а живут они во лжи!» – добавлял он в рифму, так как, по примеру польских литераторов, любил рифмованные стихи. Он презирал своих соотечественников и почти уже продал свои имения, чтобы бежать в Литву с дипломатической миссией, как вдруг один из его крепостных донес на него. На сей раз его сослали на Север, в Кирилло-Белозерский монастырь, где его заставили соблюдать все правила. Выпустили его оттуда только после того, как он дал подписку, что отрекается от своих заблуждений. У нас осталось от него, кроме достопримечательной хроники Смутного времени, много богословских статей, из которых можно отметить трактат против еретиков[104], написанный и в стихах, и в прозе.
После знатных вельмож мы перейдем к более мелким дворянам; упомянем об Андрее Палицыне, двоюродном брате благочестивого келаря Троицкого монастыря. Он, в свою очередь, тоже во время Смуты служил и изменял многим господам; это продолжалось вплоть до того, как царь Михаил назначил его в 1629 году воеводой Мангазеи, очень важного в то время центра в Сибири. В этой отдаленной местности, соприкасаясь с ссыльными черкесами и поляками, он сбросил с себя всякую маску приличий: он курил – большой позор в то время! – и заставлял курить других; у него не было духовника, он сам кадил свои иконы, приобщался святых таин не постившись. Не лишенный изобретательности и литераторского таланта, нахватавшись западных наук, умея разговаривать по-польски, интересуясь географией, он вместе с тем занимался колдовством, верил колдунам, систематически напивался и без стыда предавался противоестественным порокам. Такое поведение он сочетал и с соответствующим «богословием»: Иисус Христос окончательно освободил человечество от греха; с момента Воскресения в аду никого больше не осталось; еретикам и святотатцам не угрожают никакие муки; духовенство вовсе не является необходимым посредником между Богом и людьми[105].
В Иван-городе богатый русский купец Филипп «не придает никакого значения иконам и считает постом лишь полный отказ даже от хлеба и воды, что, конечно, позволяет ему вовсе не соблюдать пост»[106].
Несколько таких характерных примеров показывают, какое влияние оказало на москвитян различных кругов неожиданное открытие, что на Западе господствует не одно католичество, а также и протестантство или социнианизм[107]. Об этой опасности было донесено патриарху. Среди иноверцев, говорилось в послании, корыстно перешедших в нашу православную веру, имеются такие, которые потом, подобно псам, возвращаются к своей блевотине; среди наших единоверцев и соотечественников имеются такие, которые от нашей веры перешли к лютерству и кальвинскому учению и, без малейшего стыда перед Христом Богом, едят мясо во время поста, не крестясь смотрят в наших домах на иконы и даже проклинают их[108].
При всяком проявлении ереси Филарет подавлял ее. Но, в то время как он систематически преследовал влияние католиков вплоть до их религиозных истоков[109], он никогда не принимал радикальных мер против влияния протестантов. Проведение антипольской политики вынуждало Россию увеличить уступки Швеции; под эту категорию подходили: создание торговых предприятий в Пскове, возникших там, несмотря на увещания архиепископа, которого в дальнейшем отстранили; открытие Шведской миссии в Москве и открытие шведской церкви в Москве. Дошло даже до того, что Швеции выдавали карельских крестьян, которые убегали со шведских земель, дабы спасти для себя свою православную веру[110]. Позже целые полки и военные инструкторы набирались в Швеции и в Северной Германии. Для того, чтобы побороть протестантскую ересь, казалось достаточным использовать старые сочинения, направленные против иконоборцев. Когда-то Максим Грек написал об этом трактат[111], «Книгу о единой истинной православной вере», напечатанную в 1588 году в Остроге, которая была направлена преимущественно против латинян, но в ее последней части опровергались и точки зрения лютеран, кальвинистов и ариан в отношении церкви, икон и святых мощей[112]; наконец, в 1602 году в Вильно появился трактат из двенадцати глав «О образах, кресте, почитании святых, о посте, исповеди и святом причастии, а также и о молитве за усопших». Помимо Ария и Юлиана Отступника там были указаны по именам Виклиф, Гус, Лютер, Кальвин, Сервет, Бландрата, Лелий Социн, Франсуа Давиди, Будный и Чехович[113]. Этим двум работам, хорошо составленным и опирающимся на Священное Писание и святых отцов, суждено было иметь необыкновенный успех в Московском государстве.
Трактат «Об образех» был, несомненно, использован автором работы «На иконоборцы и на вся злыя ереси»[114]. Он был переведен с югозападно-русского языка на московский язык неким священником Стефаном из Новгорода и использован Иваном Наседкой, бывшим сотрудником архимандрита Дионисия. Этот эрудированный священник, а также энергичный и плодовитый писатель очень скоро вышел из немилости и был выделен патриархом Филаретом, вслед за чем призван в Кремль в качестве члена клира Благовещенского собора. К концу 1621 года его приставили к миссии, направлявшейся в Данию от имени царя просить руки племянницы короля Христиана IV. Четырехмесячное пребывание в протестантской стране дало ему возможность сделать много очень любопытных наблюдений над их отношением к лютеранской религии, над их церковными установлениями, поведением в церкви, над семейной и общественной жизнью. Возможно, именно там он достал «Катехизис» Будного, изучил его и исписал его поля критическими замечаниями. Вооружившись таким образом, к двенадцати главам старого трактата «Об образех» он добавил тридцать пять глав; одни были, по крайней мере частично, заимствованы из уже существующих текстов: его собственного трактата из тридцати пяти глав против Антония Подольского, «Книги о вере» 1588 года, постановления Собора 1620 года; другие были его собственного сочинения. Вероятно, в 1623 году им было закончено и новое полемическое сочинение «Изложение известно от Божественных Писаний Старого Закона и Новыя Благодати на окаянные и злоименные люторы». Здесь Наседка использовал свои огромные знания греческих писателей, литературы, появившейся в Московском государстве (в том числе и «Просветителя» Иосифа Волоцкого и славянского перевода «Иудейской войны» Иосифа Флавия), а также большое количество русских изданий, появившихся на Западе. Не удовлетворяясь защитой православия, он нападал на протестантов, которые не уважают свои собственные церкви, на их священников, которые женятся по два и три раза и продолжают после этого служить. Сам Лютер был гордец, исправлял творения древних святых, как будто бы в течение тысячи пятисот лет все они были либо слепы, либо безумны[115].
«Изложение на люторы» имело огромный успех. До нас дошли пятнадцать списков книги, появившихся в XVII веке[116]; эта работа послужила основой для известной «Кирилловой книги». Наседка, несомненно в награду за эту «умную и полезную книгу», как называл ее рецензент Савва, был назначен ключарем Успенского собора, иными словами, он был сделан помощником настоятеля первой церкви столицы[117]. Вскоре снова прибегли к его способностям.
Если религиозные москвитяне питали подозрения в отношении православия русских, подчиненных Польше, то они, тем не менее, не могли противостоять всему блеску литературного и научного расцвета братств Запада и Юга. Первые, проводя борьбу с униатами, воссоздали православное богословие, открыли школы, организовали типографии, опубликовали более или менее оригинальные труды. Во всем этом, конечно, можно было угадать влияние латинян, но в эпоху, когда лишь слишком заметно было, чего не хватало великорусской Церкви, нельзя было не преклониться перед таким превосходством. Поэтому охотно принимали ученых мужей Запада, а также и их книги. Их принимали, не подвергая особой критике.
В 1623 и 1624 годах большое впечатление произвели появившиеся в эти годы «Беседы святого Иоанна Златоуста на Послания святого апостола Павла и Деяния Апостолов»[118] – два огромных тома, переведенных и напечатанных благодаря трудам Киево-Печерской лавры. В следующем году в Москве приняли с уважением их главного редактора – Памву Берынду. В июне 1625 года в Москву прибыл его сотрудник, протоиерей Зизаний, привезший с собой «Толковый Апокалипсис». Он написал на своем родном языке «Катехизис», и этот большой труд в 395 листов был встречен восторженно; он был переведен на русский язык меньше чем за месяц. Некоторые выражения в этой книге были, однако, вымараны. Автор, очевидно, протестовал, так как были организованы особые беседы между ним и московскими богословами. Последние обнаружили в «Катехизисе» новые ошибки и ереси латинян, причем в таком большом количестве и настолько значительные, что «Катехизис» не был допущен к обращению. Но он, тем не менее, продолжал распространяться в широких кругах, так как в настоящее время известно около ста его рукописных экземпляров[119]. Это было первое в Москве систематическое изложение московской православной веры. Он удовлетворял насущным нуждам того времени.
Бывший учитель школы братств во Львове и Вильно, Кирилл Транквиллион Ставровецкий, составил «Учительное Евангелие», напечатанное в Рахманове в 1619 году. То был сборник проповедей для воскресных дней и праздников, из которого можно было почерпнуть еще и материал для чтения дома. Эта книга, написанная в новом для того времени стиле, была только что осуждена епископами Западной Руси, а автор только что перешел в униатство. В этот момент в Москву прибыло большое количество экземпляров этой книги. Ее представили на обсуждение сведущим людям, среди которых был также и Наседка. Последние насчитали в книге около ста проявлений ереси, и 1 декабря 1627 года царь и патриарх издали приказ о повсеместном изъятии и сожжении всех книг Транквиллиона. С тех пор началось преследование так называемых «литовских книг»: многочисленными указами запрещалось ввозить эти книги, покупать их, держать у себя дома и хранить их в церквах, кроме тех случаев, когда они были абсолютно необходимы для богослужения. И все же «Учительное Евангелие» не переставали переписывать и распространять: в отдаленной Вологде в июле 1625 года архиепископ Маркел донес на целую группу почитателей еретика Кирилла. Эти «литовские» книги продолжали проникать в Московское государство различными нелегальными путями; вслед за чем, через некоторое время, их официально перепечатывали[120].
С одной стороны, защищали православие от всех внешних опасностей: от протестантов и рационалистов; теперь же имелось исчерпывающее опровержение, отвечавшее почти всем потребностям, с солидными доводами, притом очень убедительно написанное; ненавистному католичеству доступ на русскую землю был окончательно закрыт. С другой стороны, интересы политики требовали широкого представительства и свободного обращения протестантства на всей территории несмотря на полицейские меры, в силу потребности в образовании, неизбежно через иностранные книги просачивались и различные католические учения.
91
РИБ. VI. Стб. 26.
92
Текст византийского происхождения XI – ХII века, введенный в славянские канонические сборники (напечатан А. Поповым: Попов А. Историко-литературный обзор. С. 58–69).
93
Макарий. История русской церкви. XI. С. 23–30; Голубцов. Прения о вере. С. 18–24; Харлампович. Малороссийское влияние. С. 21–22.
94
Макарий. История русской церкви. XI. С. 30–33. Вот еще подтверждение нежелания Филарета изменять церковные книги: решения собора 4 и 16 декабря 1620 года не были внесены в первое издание Требника 1623 года, а только в издание 1639 года.
95
Макарий. История русской церкви. XI. С. 46. Согласно самым древним русским установлениям, крещение, как правило, должно было осуществляться кроплением; однако многие митрополиты, а также Стоглавый собор осудили это. См. соответствующие тексты у А. А. Дмитриевского (Дмитриевский. Богослужение. С. 289–293). Интересно, что в эту же самую эпоху на Западе многие задавали себе вопрос – христиане ли москвитяне и не нужно ли крестить их заново? 31 марта 1620 г. лютеранин Иоганн Ботвид, доктор теологии и проповедник короля Швеции, защитил в Упсале пятьдесят тезисов на тему: «Являются ли московиты христианами или нет?». Проанализировав должным образом генезис христианства на Руси, богослужебные книги, исповедания веры, церковное управление и богослужение русских времен патриарха Иова (1525–1607), он ответил на вопрос утвердительно. Эти тезисы были напечатаны в 1705 году в Лейпциге. См. каталог Парижской национальной библиотеки, рубрика в картотеке «Ботвид». В течение всего XVIII века на эти тезисы часто ссылались. Католический мир, благодаря Поссевину, был лучше информирован (Possevin. Missio Moscovitica. Roma, 1584; Moscovia. Cologne, 1587); он никогда не сомневался в христианстве русских.
96
По вопросу о пропаганде протестантства и социнианизма в Польше и Литве через печать и школу см.: Martel A. La Langue polonaise dans les pays ruthènes. Paris, 1938. Р. 203–218.
97
Каратаев. С. 397, 510–511. Краткий катехизис предназначался для обращения в лютеранство православных Карелии, переданных Швеции, но он также проник и в Московское государство.
98
Киевская старина. 1882. Май. С. 200.
99
Пирлинг. Исторические статьи. С. 148–154 (Русская старина. 1908. Апрель. С. 1–6).
100
См.: Цветаев. Протестантство. С. 47–50 и примечания. Тут же имеется рассмотрение соответствующих источников.
101
Там же. С. 51–68 и прим. 1 на с. 68–73, 246–250.
102
Голицын. С. 3–18.
103
Корсаков Д. Шаховской Семен Иванович // РБС. СПб., 1905. Т.: Чаадаев – Швитков. С. 586–589; Платонов. Древнерусские сказания. С. 231–246.
104
Работы о Хворостинине были опубликованы В. И. Саввой в «Летописях занятий Археографической комиссии» (1905. XVIII. С. 1–106). Все данные о нем собраны С. Ф. Платоновым: Платонов. Древнерусские сказания. С. 182–203; Платонов. Москва и Запад. С. 69–78. Портрет, который дает В. О. Ключевский (Ключевский. Курс. III. С. 305–307), неточен, так как, по-видимому, Хворостинин находился больше под влиянием социниан, чем католиков.
105
Характер Авраамия Палицына выявлен и очень ярко описан С. В. Бахрушиным: Вера. Пг., 1924. I. С. 79–110.
106
Филипп в январе 1634 года поделился своими мыслями об этом с Олеарием, но, очевидно, они уже были у него давно (Олеарий. 1. III. Р. 253).
107
Именно к этой эпохе следует, по-видимому, отнести статью Ивана Бегичева, опубликованную А. И. Яцимирским (ЧОИДР. 1898. II. С. Х –13). Автор, мирянин, выступает против другого мирянина по поводу символического значения слов Бога Моисею (Исх. 33, 23): «И когда сниму руку Мою, ты увидишь задняя Моя, а лице Мое не будет видимо» (этот богословский спор начался между ними на охоте). Он также не верит в то, что Господь действительно показывается Аврааму. Напротив, старый монах Филарет, проведший 50 лет в Троицком монастыре и прослуживший 40 лет екклесиархом, утверждал, что у Господа «человеческое лицо и тело»; он также утверждал, что Христос не родился от Отца прежде всех век, а лишь в момент Благовещения (Скворцов. Дионисий Зобниновский. С. 384); мы наблюдаем тут полный разброд в богословском мышлении.
108
ЛЗАК за 1905 г. СПб, 1907. Вып. 18. С. 119.
109
В 1631 г. полковник Лесли был направлен за границу для набора солдат всех национальностей, за исключением французов и «других романской веры» (СГГД. III. № 83. С. 317). В 1632 году, когда Иосифа, протосинкелла патриарха Александрийского, задержали в Москве, это было в основном ради перевода с греческого на славянский писаний против ереси латинян (Сторожев // Киевская старина. Киев, 1889. Т. XXVII. С. 334). В 1632 г. по договору, заключенному с Голштинской компанией, запрещалось под страхом смерти способствовать выезду на Русь лиц латинского вероисповедания (АИ. III. С. 332. № 181).
110
Цветаев. Протестантство. С. 595.
111
Там же. С. 524–538.
112
Перепечатано в: РИБ. VII. Стб. 600–938. // Речь идет о «Книжице в шести отделах» Василия Сурожского-Малющинского (Острог, 1588). В разделе «О исхождении Святого Духа» автор опирался на «Слово на латинов» Максима Грека. – Прим. ред. // Имеется в виду книга «О образех, о кресте, о хвале Божией и хвале и молитве святых и о иных артыкулех веры единое правдивое Церкви Христовы», опубликованная в Вильно в типографии виленского Троицкого братства в 1596 г. Подробнее см.: Опарина Т. А. Иван Наседка и полемическое богословие киевской митрополии. Новосибирск. 1998. С. 79–82. – Прим. ред.
113
Цветаев. Протестантство. С. 604–611.
114
Опубликован С. Ф. Платоновым (Савва В. И., Платонов С. Ф., Дружинин В. Г. Вновь открытые полемические сочинения XVII века против еретиков // ЛЗАК за 1905 г. СПб., 1907. Вып. 18. С. 109–177). Платонов приписывает его князю Ивану Катыреву-Ростовскому, оставившему воспоминания о Смутном времени, связанные с его личной жизнью. Автор неоднократно упоминает, с целью опровержения, об одном труде иконоборцев, он называет его «их оправданием», или «их вероучением»: если бы шла речь о кратком лютеранском катехизисе, опубликованном на русском языке в 1628 г., то можно было бы датировать эту работу (посвященную Филарету, скончавшемуся в 1633 г.) периодом 1628–1633 гг. [В настоящее время атрибуция С. Ф. Платонова считается недостаточно основательной и сочинение относят к творчеству И. А. Хворостина. См.: Буланин Д. М., Семенова Е. П. Хворостинин Иван Андреевич // СККДР. СПб., 2004. Вып. 3 (XVII в.). Ч. 4. С. 193–194. – Прим. ред.].
115
Глава III книги А. П. Голубцова (Голубцов. Прения о вере. С. 76–126) представляет собой настоящую монографию об «Изложении на люторы» Наседки. См. также: Цветаев. Протестантство. С. 616–628, где имеется разбор этого произведения.
116
Голубцов. Прения о вере. С. 110, прим. 71. [К настоящему времени выявлено 23 списка. См.: Опарина Т. А. Иван Наседка… С. 75, 305–306. – Прим. ред.]
117
Дата этого назначения, не известная точно, но восстановленная Голубцовым как 1626 год (Голубцов. Прения о вере. С. 89–90), относится на самом деле к более раннему времени, потому что 20 мая 1625 г. Наседка подписывает акт об одном вкладе в Успенский собор (ГИМ. Синодальное собрание свитков. № 1829).
118
Имеются в виду издания: Иоанн Златоуст, свт. Беседы на 14 Посланий св. апостола Павла. Киев, 1623; Он же. Беседы на Деяния св. апостол. Киев. 1624. – Прим. ред.
119
Харлампович. Малороссийское влияние. С. 103–108. Протоколы беседы от 18 и 19 февраля 1627 года напечатаны Н. С. Тихонравовым: Летописи русской литературы. 1859. Т. II. Кн. 3. Отд. II. С. 80–100, затем они воспроизведены Обществом любителей древней письменности. 1878. Вып. XVII.
120
Харлампович. Малороссийское влияние. С. 108–113. // Подробнее см.: Булычев А. А. История одной политической компании XVII века: Законодательные акты второй половины 1620-х годов о запрете свободного распространения «литовских» печатных и рукописных книг в России. М., 2004. С. 12–48. – Прим. ред.