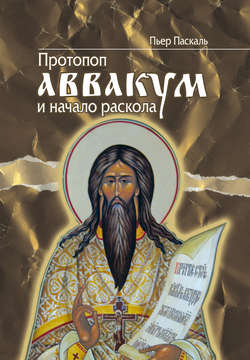Читать книгу Протопоп Аввакум и начало Раскола - Пьер Паскаль - Страница 13
Глава I
Русская церковь после Смутного времени. Стремление к реформе
Первый период (1616–1633): Филарет и Дионисий
IV
Религиозное движение в скитах и монастырях: «семинария» Троицкого монастыря
ОглавлениеДвижение за религиозное и нравственное обновление, начавшееся в разгар Смутного времени, продолжается вне стен различных канцелярий и сосредоточивается вокруг нескольких избранных людей.
С 1619 по 1633 год организуется еще около сорока скитов и монастырей[147]. В 1620 году в Воломе возле Устюга начинает вести отшельнический образ жизни некий Симон: потом он был убит крестьянами-повстанцами, которые были недовольны его увещаниями[148]. Боярин Михаил Салтыков в 1621 году организовал на Днепре в 10 верстах от Дорогобужа Бизюков монастырь, которому предстояло большое и исполненное треволнений будущее[149]. Преосвященному Варлааму, архиепископу Вологодскому и Великопермскому, была адресована следующая челобитная «убогого» монаха Марка, постриженного в Ильинском монастыре: «Есть, государь, в Вологоцком уезде, в Заднем селе Белавинское озеро и на том озере остров. Умилосердися, государь преосвященный Варлам, архиепископ вологоцкий и великопермьский, пожалуй меня, нищево царского богомолца и своево святительсково, благослови, государь, на том острову келейцу поставить и потерпети Бога ради. Государь, смилуйся, пожалуй». В июне 1630 года ему было прислано письмо с соответствующим благословением[150]. Вскоре вокруг келии монаха Марка обосновались еще и другие монахи, которые хотели вести более уединенный и постнический образ жизни, а равно и миряне, уставшие от мира и стремящиеся к духовному совершенствованию. Таким образом появилась новая Белавинская пустынь.
Но эти монастыри были не только для монахов. Иногда в них имелось больше мирян, так называемых складников. Это были либо простые крестьяне, либо другие люди низших сословий, которые за небольшую вносимую ими сумму денег или в обмен на взнос натурой могли пользоваться духовными и материальными преимуществами данной общины. Они обязаны были нести послушания и работать, но они имели право питаться от монастыря и жить там со своими семьями. Что это было такое, монастырь или рабочая артель? Трудно сказать. Иногда на месте имелся только один монах, единственный грамотный человек, единственный священник, а может быть, даже и не имеющий священного сана: если он почему-либо исчезал, то оставались только крестьяне. Во всяком случае, с религиозной жизнью сочетается интенсивная хозяйственная деятельность. Работают как и прежде, но отныне защищенные от взимания налогов и ростовщиков, и работают больше уже не на себя, а на святого – покровителя этого места. Нет особого аскетизма, – но с самого начала этой новой жизни молитва становится более горячей, а повседневная жизнь – освященной[151]. На Севере и Востоке этих отшельничеств появляется очень много: мы видим в каждом несколько изб, скромную деревянную церковь, тяжелым трудом, с помощью гари отвоеванные поля, а вокруг – темный лес, усеянный болотами, лес, который порой кормит их, а порой и губит.
То были благословенные обители для избранных душ, проводивших дни свои в труде, размышлениях и бедности, вдали от городской суеты и городских новин. В этих скитах выковывался тип крепких и сильных людей, способных говорить власть имущим всю правду в глаза. Иоаким, ученик Иринарха Ростовского, поселяется в Шартоме, недалеко от Шуи, пишет иконы и бесплатно раздает их: их считают чудотворными; многие рассказывают о связанных с ними видениях. Он подвергает резкой критике недостойного архиепископа Иосифа Курцевича, которого все боятся. За это он ссылается на Соловки, но в 1634 году его отзывают оттуда в Суздаль. Затем его чтят как святого[152].
Противоположностью этих уединений, или скитов, с их типичным русским скромным бытом и трезвым подходом к жизни, являлись настоящие монастыри, вполне организованные общества, с игуменом или архимандритом во главе, с различными должностными лицами начиная от келаря и кончая управителями монастырских владений, с послушниками, с дарителями-мирянами, с потоками богомольцев и странников, с зимними и летними церквами, с монастырскими зданиями, с библиотекой, с погребами и складами, обладающие хорошим снабжением, с гостиницами, с высокими воротами и стенами, с дарованными им торговыми правами, с подворьями в Москве и в других местах. Эти монастыри представляли собой могущественные центры, где бился пульс всей страны; у них были благочестивые высокие покровители; монастыри эти богаты, но их значение с религиозной точки зрения далеко не одинаковое. Многие из них, возможно большая часть, предоставляли каждому монаху свободно распоряжаться своим имуществом: в них были, если настоятель монастыря слаб или недостаточно добродетелен, среди братии пьяницы, развратники, гордецы, интриганы, клеветники; но зато в этих же монастырях воспитывались деятели духовной науки и подвижники веры, способные защищать веру и обновлять духовную жизнь.
Таким монастырем был в особенности Троице-Сергиев монастырь. Дионисий возвратился к исполнению своих обязанностей настоятеля этого монастыря сейчас же после того, как улеглась непредвиденная буря, вызванная его попыткой исправить книги. Но он понимал свои обязанности в широком смысле слова, действуя, как воистину ревностный пастырь. Он отнюдь не забывал о доходах монастыря, сильно пострадавшего из-за войны и хищений, совершенных в его отсутствие; он требовал возвращения крестьян, незаконно «уведенных» к другим владельцам; он также старался не допускать несправедливостей и злоупотреблений, в которых были, по-видимому, повинны экономы Троице-Сергиева монастыря[153]. Его можно видеть и на судебном процессе против монахов Спасо-Прилуцкого монастыря, который велся им из-за мельницы, которая была испорчена этими монахами с помощью колдуна[154]. Однако большую часть своей энергии он отдавал духовному самосовершенствованию, что было областью, уже непосредственно зависевшей от него самого.
Уже в течение долгого времени церковным пением управлял головщик Логгин. Гордясь своим голосом и своими музыкальными способностями, он позволял себе украшать священные песнопения различными фиоритурами, из-за которых нередко ускользал смысл. Ему доставляло удовольствие сочинять на один и тот же стих от пяти до десяти мелодий: слова были для него лишь повод для музыкального сочинительства. У него были ученики, например, его племянник Максим, который умел исполнять одно и то же песнопение на семнадцать разных ладов. Логгин не был первым встречным: будучи образованным и гордым человеком, он позволял себе резко отвергать доводы архимандрита. Дионисий, со свойственной ему мягкостью, напрасно цитировал ему святого Павла: «Буду петь духом, но буду петь и умом (…) Если вы языком произносите неудобовразумительные слова, то как узнать, что вы говорите?» (1 Кор. 14: 15, 9). «Человек, который не понимает того, что сам говорит, подобен псу, который лает на ветер». Логгин никак не сдавался. Тогда Дионисий побеждал его примером: он начинал сам петь, приятным голосом, и священные слова, произносимые его голосом, отчетливо доносились в самые отдаленные места храма.
Уставщик Филарет спорил с ним о самом богослужении. Дионисий следил за тем, чтобы каждая служба совершалась в свое время, согласно уставу и без спешки. Однако, кроме того, он ввел при исполнении воскресных и праздничных служб определенные, дотоле не применявшиеся молитвы, возгласы, поучительные чтения, догматики и стихиры, которые ранее не входили в обиход Троицы. Он хотел, чтобы основные песнопения исполнялись скрупулезно и без отступления от канонов. Филарет обвинял его в новшествах. Монахи же упрекали Дионисия в том, что он затягивал ирмосы. Но Дионисий продолжал вкладывать в святое дело все свое рвение: всегда готовый облегчить людям исполнение их обязанностей, он не уступал в отношении Божественной службы: для Бога нет предела красоте! Он строил и восстанавливал церкви, делая это в самом монастыре, в его окрестностях, во всех его владениях. Бедным церквам он сам раздавал книги, кадила, сосуды, облачения, иконы. Для этой цели он содержал целый штат иконописцев, переписчиков, чеканщиков, золотых дел мастеров. Он был счастлив, когда вместо какой-нибудь медной или оловянной чаши, благодаря его энергии, появлялась чаша серебряная. Но там, где роскошь была недостижима, он требовал хотя бы соблюдения приличий.
Несмотря на всю мягкость своего характера, он считал, что необходимо добиться определенного минимума нравственности, достигая этого, если потребуется, хотя бы путем принуждения. Например, в одном монастыре, переданном Троице под начало для вразумления, крестьяне продавали монахам водку; когда все увещевания и угрозы оказались безуспешными, Дионисий прибег к вмешательству царя и патриарха[155].
Но главным образом Дионисий занимался воспитанием своих учеников. Он любил в своих личных покоях принимать тех, в которых он угадывал будущих ревнителей веры. Это были послушники или молодые монахи, как например Дорофей, преждевременно умерший в 1614 году, про удивительные аскетические подвиги которого ходили рассказы, или Порфирий, который впоследствии стал архимандритом Рождественского монастыря во Владимире; далее священники окрестных мест, как Наседка; был тут и еще один больной – слуга княгини Ирины Мстиславской Булат Леонтьев, который в 1624 году стучится в дверь к архимандриту, получает от его руки помазанием святого елея исцеление, остается в течение шести лет возле него и позже, под именем Симона Азарьина, пишет с большим талантом ряд благочестивых работ, в частности Житие своего учителя; еще был тут и простой деревенский житель, страстно стремившийся к духовным подвигам и совершенству, в дальнейшем преследуемый за правду – не кто иной, как Иван Неронов, о котором будут в дальнейшем так много говорить. Одни только приходили и уходили, другие оставались его настоящими верными учениками. Всем в какой-то степени шли на пользу светлый пример и уроки почтенного архимандрита. Всем он прививал любовь к добру, вкус к чтению, внушал апостольское рвение и мысль о необходимости церковной реформы[156].
Создается впечатление, что Дионисий, после неудачи с исправлением церковных книг, не веря в возможность воздействия на массы верующих, избрал себе другой путь: сначала подготовить достойное своей задачи духовенство. Его келья была родом семинарии, духовным зерном, откуда должно было пойти многое на пользу Церкви.
147
Амвросий. История российской иерархии. VI. С. 1129–1132.
148
Ключевский. Древнерусские жития святых. С. 344–345.
149
ЧОИДР. 1892. II. Смесь. С. 1–45.
150
Суворов Н. Описание Спасо-Каменного монастыря. С. 31.
151
Юшков. Очерки. С. 95–106.
152
Миловский. Неканонизированные святые // ЧОИДР. 1893. II. С. 5–17.
153
Скворцов. Дионисий Зобниновский. С. 347–352, 359–366.
154
Русская старина. 1912. Ноябрь. С. 423–424.
155
Скворцов. Дионисий Зобниновский. С. 375–406.
156
Не кто иной, как С. Ф. Платонов указал на значение педагогической деятельности Дионисия в своей работе «Москва и Запад в XVI–XVII вв.» (Платонов. Москва и Запад. С. 85–90.) В этом большая заслуга Платонова.