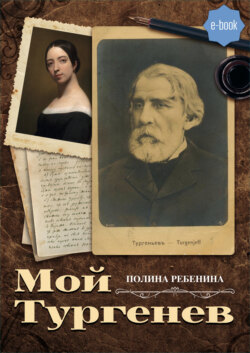Читать книгу Мой Тургенев - Полина Ребенина - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
10. Записки охотника
ОглавлениеНо мы увлеклись, описывая необычную любовь писателя, и забежали далеко вперед, теперь необходимо вернуться назад, и изобразить последовательно события жизни и творчества И. С. Тургенева, начиная с 1844 года.
В этом знаменательном году Тургенев обратился к прозе, и первой на этом пути стала повесть «Андрей Колосов». Его главный герой – идеалист, он хочет, чтобы во взаимоотношениях не было никакого обмана, недоговоренности или неискренности. Он полагает, что для того, чтобы в его жизни появилась настоящая любовь, необходимо самому научиться преданности и самоотдаче. Нужно уметь отдавать, ничего не требуя взамен, любить своих близких и родных людей. Таким стремился быть и сам Тургенев.
По возвращении из Европы в Петербург в ноябре 1845 года Тургенев продолжает встречаться с В. Белинским, и через него знакомится с Н. Некрасовым, И. Паневым и И. Гончаровым. Вскоре происходит его встреча с Ф. Достоевским. Он все больше увлекается прозой и пишет повести «Три портрета»(1846) и «Бретер»(1847). В конце 1846 года журнал «Современник» переходит в руки Некрасова и Панаева, а Тургенев становится его постоянным сотрудником. В истории некрасовского «Современника» Тургенев сыграл очень большую роль. Анненков вспоминал, что Тургенев «был душой всего плана, устроителем его… Многие из его товарищей, видевшие возникновение «Современника» в 1847 году, должны еще помнить, как хлопотал Тургенев об основании этого органа, сколько потратил он труда, помощи советом и делом на его распространение и укрепление».
По воспоминаниям И. А. Гончарова об Иване Тургеневе все литераторы в кружке Белинского и в редакции новообразованного «Современника» говорили, как о даровитом, подающем большие надежды писателе. Впечатление от первой встречи он описал так: «Вглядываясь в черты его лица, я нашел их некрасивыми; и именно аляповатый нос, большой рот, с несколько расплывшимися губами, и особенно подбородок придавал ему какое-то довольно скаредное выражение. Меня более всего поразил его неровный, иногда пискливый, раздражительно-женский, иногда старческий, больной голос, с шепелявым выговором. Зато глаза были очень выразительны, голова большая, но красивая, пропорциональная корпусу, и вообще все вместе представляло крупную, рослую и эффективную фигуру. Волосы до плеч. После, поседевший весь, он стал носить бороду, которая и скрыла его некрасивый рот и подбородок» (1847).
Однако некоторые стороны характера Ивана Тургенева вызывали у литераторов справедливые нарекания: «Тургенев был общим любимцем, не за один только свой ум, талант и образованность, а за ласковое и со всеми одинаково не то что добродушное, какое-то ласкающее, заискивающее обхождение. На всякого встречного, в минуту встречи, он смотрел как на самого лучшего своего друга: положит ему руки на плечи, называет не иначе, как «душа моя», смотрит так тепло в глаза и говорит еще теплее, обещает все, что тот потребует: и прийти туда-то, и к себе позовет и т. д. А только отойдет, тут же и забудет, и точно так же поступит с следующим. Прийти – не придет, куда обещал, а иногда, назначивши видеться у себя, уйдет куда-нибудь. Это он делал по причине своего равнодушного и покойного характера, а иногда и рисовался небрежностью, рассеянностью. «Позвал обедать, а сам ушел! Художник, талант!» со смехом скажут – и простят! Какие изумленные глаза сделает он потом, как будто забыл, говорил ли, обещал ли? Обещания прийти куда-нибудь не часто сдерживал: обещает, а если куда позовут после и куда больше хочется, туда и пойдет! А потом – схватит себя за голову: и как искренно и стыдливо смотрит на того, перед кем провинился! Но куда нужно ему самому идти – он никогда не забывал!» (И. Гончаров).
К лету все друзья-литераторы разъехались в разные стороны: Белинский вместе с артистом Михаилом Щепкиным отправился на юг России, Некрасов и Панаев – в Казанскую губернию, где у Панаева было имение, Тургенев – в родное Спасское.
В Спасском Тургенев прожил до глубокой осени 1846 года и почти все это время не выпускал ружья из рук, а до пера не касался совсем. Охота – это увлекательное занятие могло заставить его забыть обо всем. «Русские люди, – писал он, – с незапамятных времен любили охоту. Это подтверждают наши песни, наши сказания, все предания наши. Да и где же и охотиться, как не у нас: кажется, есть где и есть по чем. Витязи времен Владимира стреляли белых лебедей и серых уток на заповедных лугах. Мономах в завещании своем оставил нам описание своих битв с турами и медведями… Вообще, охота свойственна русскому человеку: дайте мужику ружье, хоть веревками связанное, да горсточку пороху, и пойдет он бродить в одних лаптишках, по болотам да по лесам, с утра до вечера. И не думайте, чтобы он стрелял из него одних уток: с этим же ружьем пойдет он караулить медведя на «овсах», вобьет в дуло не пулю, а самодельный, кой-как сколоченный жребий – и убьет медведя; а не убьет, так даст медведю себя поцарапать, отлежится, полуживой дотащится до дому и, коли выздоровеет, опять пойдет на того же медведя с тем же ружьем. Правда, случится иногда, что медведь его опять поломает; но ведь русским же человеком сложена пословица, что зверя бояться – в лес не ходить».
Тургенев исходил с ружьем не только всю Орловскую, но и смежные с нею губернии. Частым спутником его в этих скитаниях по лесам и болотам был крепостной егерь помещика Чернского уезда Афанасий Алифанов. Впоследствии, Тургенев описал его в «Записках охотника» под именем Ермолая и обрисовал следующий портрет: «Вообразите себе человека лет сорока пяти, высокого, худого, с длинным и тонким носом, узким лбом, серыми глазками, взъерошенными волосами и широкими насмешливыми губами. Этот человек ходил зиму и лето в желтоватом нанковом кафтане немецкого покроя, но подпоясывался кушаком; носил синие шаровары и шапку со смушками, подаренную ему в веселый час разорившимся помещиком. К кушаку привязывались два мешка, один спереди, искусно перекрученный на две половины, для пороху и дроби, другой сзади – для дичи; хлопки же Ермолай доставал из собственной, по-видимому неистощимой шапки». Ружье у него было одноствольное, кремневое и так «отдавало» при выстреле, что правая щека у охотника всегда была пухлее левой. С ним никто в округе не мог сравниться «в искусстве ловить весной, в полую воду, рыбу, доставать руками раков, отыскивать по чутью дичь, подманивать перепелов, вынашивать ястребов, добывать соловьев с «лешевой дудкой», с «кукушкиным перелетом».
Увлечение Тургенева охотой, проявившееся с особенной силой летом и осенью 1846 года, оказалось в высшей степени благотворным для его литературного творчества. В 1846 году Тургенев пишет рассказ «Хорь и Калиныч», положивший начало сборнику рассказов «Записки охотника». Вот как он об этом вспоминал: «Я уже хотел бросить литературу, и собрался за границу с тем, чтобы заняться другим. За несколько дней до моего отъезда заходит ко мне Некрасов и просит: «Нет ли у тебя чего-нибудь, что поместить в смесь для балласта?» Я говорю: «Ничего нет. Разве вот маленький рассказец. Только едва ли он годится». – «Ничего, сойдет». Я и дал ему «Хоря и Калиныча». Рассказ был напечатан в первом номере журнала «Современник» за 1847 год.
Несмотря на охоту, литературный труд и дружеские связи, Тургенев не может забыть Полину Виардо и в конце апреля пишет ей: «Ich bin immer der selbe und werde es ewig bleiben (Я всё тот же и вечно останусь тем же самым, нем.)». Хотя петербургская публика к этому времени к певице несколько охладела, но это определенно не относится к Тургеневу, который пишет 21 октября 1846 года: «Позвольте же мне, прежде чем кончить письмо, выразить самые искренние пожелания вам счастья, и верьте, что раз узнав вас, так же трудно вас забыть, как трудно не привязаться к вам». И начинает планировать свой отъезд в Европу на длительный срок.
В январе 1847 года Тургенев отправляется в Берлин, где в это время гастролировала Полина Виардо и там, неожиданно для себя, узнает об успехе своего рассказа «Хорь и Калиныч». «Только живу я себе в Берлине, – вспоминал он, – и вдруг, к моему удивлению, узнаю, что рассказ мой произвел эффект. До тех пор я считал себя поэтом, а подобные рассказы писал не для печати, а для собственного удовольствия и уж никак не смотрел на них серьезно. У меня уж и тогда их набралось много». Знакомые и друзья Панаева и Некрасова осаждали их вопросами, будут ли в «Современнике» продолжаться рассказы охотника.
* * *
В Берлине Тургенев прожил несколько месяцев. Он усердно посещал оперные постановки, в которых Полина Виардо пела заглавные партии, а в свободное время тесно общался с ней и с немецким художником Людвигом Пичем, тоже увлеченным певицей. Муж Полины Луи Виардо уехал в Париж, ее мать госпожа Гарсия уехала в Брюссель. Быть может именно тогда в отношениях Полины Виардо и Тургенева и произошел важный перелом? Ведь теперь он предстал перед певицей в совершенно ином свете – красавец, успешный писатель, верный поклонник, который уже пятый год восхищался ей и ее талантом.
В Берлине Тургенев узнает, что Белинский занял денег и планирует приехать лечиться водами в Германию, – это была его последняя надежда победить злую чахотку. Он переживает не лучшие времена, незадолго до того умер его малолетний сын Владимир. Тургенев тут же откликнулся и написал, что он готов всячески помогать другу: «Мне нечего Вам сказывать, что известие, сообщенное им – меня огорчило – и что я принимаю сердечное участие в Вашей потере; но, признаюсь, почти столько же опечалило меня и то, что Ваше здоровье опять расклеилось. Берегите себя и постарайтесь не расклеиться совершенно… – до первого парохода; а там – я почти готов ручаться за Ваше совершенное выздоровление… Я Вас только убедительно прошу об одном: не церемониться со мной и располагать моей особой. Как только Вы возьмете место на пароходе, прошу Вас тотчас известить меня; – и ожидайте встретить меня на набережной в Штеттине».
Как ни странно, но Иван Сергеевич Белинского в Штеттине не встретил, и тот вынужден был добираться до Берлина самостоятельно, что было ему нелегко при его плохом знании иностранных языков. Это никак не согласовалось с планами Тургенева, неоднократно высказанными им в своих письмах, и может свидетельствовать только о том, что писатель теперь был не всегда волен в своих поступках, и, по всей вероятности, любимая женщина диктовала ему свои условия.
Белинский, хоть и с трудом, но разыскал Тургенева в Берлине и 10 мая 1847 года написал об этом жене. Приписку сделал в конце его письма Тургенев: «Вы можете теперь быть совершенно покойны на его счет; я его беру на свое попеченье и отвечаю Вам за него своей головой. Мы, вероятно, недолго останемся в Берлине и сперва съездим в Дрезден – (потому что сейчас еще рано ему ехать в Силезию, на воды)».
14 мая Тургенев тащит больного Белинского за собой в Дрезден, чтобы вместе с ним услышать оперу «Гугеноты» Мейербера, в которой роль Валентина исполняла Полина Виардо. Тургенев уже много раз слышал эту оперу, но не уставал восхищаться и открывал в ней все новые и новые достоинства. По силе драматического выражения он считал ее лучшим произведением Мейербера. Безмерно радовало его то, что Виардо в ней имела большой успех, ее без конца вызывали, сопровождая вызовы возгласами: «Вернитесь к нам скорей! Вернитесь к нам скорей!» Возможно, хотелось Тургеневу, чтобы пение Виардо услышал друг Белинский, и наконец одобрил его увлечение певицей, ведь до сих пор он его категорически отказывался понимать.
Белинский тяжко болен, ему не до концертов, не до экскурсий, но Тургенев тянет его в Дрезденскую галерею, где устраивает его встречу с супругами Виардо. Белинский всячески отказывался, но все-таки встреча эта состоялась. Разодетая Виардо любезно поинтересовалась о здоровье Белинского, но тот, плохо знающий французский язык, ее не понял, смешался и не смог ответить. Виардо повторила свой вопрос, но с тем же результатом. В конце концов она попыталась задать тот же вопрос на ломаном русском, который ей плохо давался, но она совсем не смутилась и начала оглушительно хохотать. Белинский поднапрягся и ответил все-таки на «подлейшем французском языке», «каким не говорят и лошади», и совсем расстроился. Он, блестящий критик, вспоминал позднее эту сцену с мучительным чувством стыда и неудобства.
В конце концов отправляются они с Тургеневым в маленький курортный городок Зальцбрунн, в котором лечатся больные туберкулезом. Поселились они в небольшом домике на длинной и невзрачной главной улице. Погода выдалась, как нельзя, хуже – холодно, сыро, слякотно, каждый день льют дожди. На прогулку не выйдешь, да и в комнатах холодно. ведь печей в доме не было.
Казалось, что стоит глубокая осень, хотя было начало лета. Это напоминало удрученному Белинскому пребывание на съемной даче в Лесном, под Петербургом. Но ведь то был Петербург – северная столица, и климат там был соответствующий. Однако в этом южном силезском городке погода стояла ничуть не лучше. Белинский с отчаянием писал жене: «Никто в Зальцбрунне не запомнит такого мая и такого июня, это что-то чудовищное для страны, в которой растут каштаны, платаны, тополи, белая и розовая акация…» Но надежда на целительную силу местных источников удерживала его здесь.
Оживление в их жизнь внес приезд Павла Анненкова из Парижа. Анненков планировал поехать путешествовать по Турции и Греции, но изменил свои планы, узнав, что Белинский находится на лечении в Зальцбрунне; он тоже, подобно Тургеневу, выражал готовность быть его нянькой и проводником. Впоследствии Анненков вспоминал, как, переночевав в Бреславле, он очутился ранним утром в Зальцбрунне и, направившись по длинной улице, сразу же встретил Тургенева и Белинского, возвращавшихся с источника домой. «Я едва узнал Белинского. В длинном сюртуке, в картузе с прямым козырьком и с толстой палкой в руке – передо мной стоял старик, который по временам, словно заставая себя врасплох, быстро выпрямлялся и поправлял себя, стараясь придать своей наружности тот вид, какой, по его соображениям, ей следовало иметь. Усилия длились недолго и никого обмануть не могли». Видно совсем плохо было бедному Белинскому, а ведь ему было всего 35 лет!
Некий доктор Цемплин сразу бодро заверил Белинского, что ручается за его выздоровление, и назначил следующее «лечение»: не пить кофе, заменить его теплым молоком, не есть досыта. Но главная «фишка» состояла в другом: надо было пить сыворотку из козьего молока, ослиное молоко и смесь сыворотки с минеральной водой. Как все тяжелобольные, Белинский с удовольствием слушал всякие россказни о чудодейственном эффекте вод Зальцбрунна и писал жене: «Впрочем, я здесь из самых здоровых больных; много таких, на которых страшно смотреть, а ведь надеются же на выздоровление…» Курс «сывороточно-минерального» лечения оказался совершенно безрезультатным. Более того, Белинский понял, что этот доктор просто «разводит» его, как и других страдальцев на деньги! Он с возмущением писал: «Он заставил употреблять сыворотку и Тургенева, у которого грудь нисколько не болит». И дальше: «С Цемплиным решительно ни о чем не хочу советоваться. Это шарлатан и каналья. Тургенев говорит ему о моем удушье, а он отвечает: «Да, я это понимаю, это бывает, это от воды, но это пройдет». В результате такого лечения Белинский вскоре стал себя чувствовать еще хуже.
Тургенев сопровождал повсюду Белинского, а в свободное время упорно работал над рассказом к «Запискам охотника» «Бурмистр». Первыми «Бурмистра» услышали друзья писателя, и Белинскому этот рассказ чрезвычайно понравился. Хотя Тургенев находился с друзьями Зальцбрунне, но душа его раздваивалась, в мыслях он следовал за мадам Виардо, которая гастролировала по городам Европы. Вернувшись однажды с почты, где он получил письмо от своей «прекрасной дамы», Тургенев неожиданно заявил, что он срочно отправляется в Берлин, чтобы проводить в Англию своих добрых знакомых и, что он надеется скоро с друзьями снова свидеться. Однако он так и не вернулся, друзья напрасно прождали его приезда в Зальцбрунне, и они встретились все вместе уже в Париже в конце июля. Когда Анненков с Белинским приехали в Париж, к ним на другой день «словно с неба свалился» Тургенев, гостивший в летней резиденции Виардо – Куртавнеле.
Анненков спросил, в чем дело, почему Тургенев пропал. Тургенев замешкался, смутился, и лишь плечами пожал: да и сам, мол, не знаю! Уж так вот и приключилось. Впрочем, было всему этому одно веское объяснение – любовь к певице. Однако в эту пору говорить вслух в своих чувствах Тургенев считал нескромным, ведь он входил в полосу наибольшей близости и наибольшего счастья взаимоотношений с Виардо. Рядом с предметом своего обожания Тургенев терял всю свою решимость и полностью подчинялся ее воле.
Нравился Тургеневу и сам Куртавнель, и в одном из писем он писал Виардо: «Итак, я в Куртавнеле, под вашим кровом! Мы прибыли сюда вчера вечером, при чудной погоде. Небо было восхитительно ясно. Листья на деревьях одновременно отливали и металлическим, и маслянистым блеском, люцерна казалась вся в завитках под косыми красными лучами солнца. Стая ласточек реяла <над> розейскою церковью; они поминутно садились на чугунные перекладины креста, старательно повертываясь своею белою грудкой к свету». Он находился там с июля 1847 года, лишь изредка выезжая в столицу для встреч с друзьями и соотечественниками.
Тургенев обещал Белинскому проводить его на родину – проехать с ним от Парижа до Штеттина. Предполагалось, что их совместный отъезд состоится 3 сентября 1847 года. Но Белинский, наблюдая неоднократные отлучки Тургенева в Куртавнель, досадовал на него за это и не верил в реальность его обещаний. Это подтверждается письмом Белинского к жене от 22 августа 1847 года, в котором говорится, что Тургенев «показался было на несколько дней в Париже, да и опять улизнул в деревню к Виардо». Тургенев надеялся возвратиться через две недели, чтобы 3 сентября выехать с Белинским, но известно, что «человек предполагает, а Бог располагает», а в случае с Тургеневым можно сказать, что писатель предполагал, а Виардо располагала! Тургенев не приехал, и больной Белинский отправился в обратный путь один. Белинский выехал на родину, не оставив друзьям надежды на свое выздоровление. Герцен, у которого Белинский провел вечер накануне отъезда из Парижа, писал потом в «Былом и думах»: «Страшно ясно видел я, что для Белинского все кончено, что я ему в последний раз жал руку. Сильный, страстный боец сжег себя… Он был в злейшей чахотке, а все еще полон святой энергии и святого негодования, все еще полон своей мучительной «злой» любви к России».
Тургенев сильно переживал, что не смог не только проводить, но даже проститься с лучшим другом Белинским. Ведь это была последняя возможность встречи, в 1848 году Белинского не стало. Тургенев отдыхал в Куртавнеле, где Полина Виардо безгранично властвовала над всеми домочадцами и отъезд писателя, по-видимому, противоречил ее планам. Ну, а Тургенев, хоть с некоторым сомнением и грустью, но ей во всем подчинялся. Вслед Белинскому Тургенев послал покаянное письмо: «Вы едете в Россию, любезный Белинский; не могу лично проститься с Вами – но мне не хочется отпустить Вас, не сказавши Вам прощального слова… Я хотя и мальчишка, как Вы говорите, и вообще человек легкомысленный, но любить людей хороших умею и надолго к ним привязываюсь…»
* * *
В октябре мадам Виардо отправилась на гастроли в Германию, она выступала в Дрездене, Берлине, Гамбурге и др. Тургенев сопровождать певицу не имел возможности из экономических соображений, попросту не было у него денег на эту поездку. Он переехал из Куртавнеля в Париж.
Каждую неделю он писал длинные письма Виардо, где подробно рассказывал обо всем, что могло ее заинтересовать: описывал свое посещение парижской оперы, причем почем зря ругал певиц, считая, что ни одна из них не может сравниться с Виардо, ругал и современную музыку, предпочитая ей итальянскую классику – те оперы («Севильский цирюльник», «Норма»), в которых с успехом выступала Полина Виардо. Вместе с тем он болезненно реагировал на малейшую критику в адрес своего кумира: «Я заранее раздражен против статьи Рельштаба… Я зол на этого прохвоста за то, что он говорит о вас». Рельштаб критиковал исполнение Виардо партии Ифигении, считая, что по роду дарования Полине Виардо ближе роли романтического плана, а не сдержанный характер античной героини.
Все свои письма Виардо Тургенев пишет на французском языке, в этих письмах пока еще не так много вкраплений нежных немецких слов. Еще нет в письмах того коленопреклоненного обращения по-немецки, которое стало обычным позднее – «добрая и любезная госпожа Виардо», письма начинаются сразу с текста и заканчиваются не «нежно целую ваши руки», как позже, а «дружески жму вашу руку».
Тургенев упорно работал и рассказывал об этом Виардо: «К сожалению, я принужден заявить, милостивая государыня, что на сей раз не могу сообщить вам решительно ничего интересного. Всю эту неделю я почти не выходил из дома; я работал усиленно; никогда еще мысли не приходили ко мне в таком изобилии; они являлись целыми дюжинами. Мне представлялось, что я бедняга-трактирщик в маленьком городке, которого застигает врасплох целая лавина гостей: он в конце концов теряет голову и уж не знает, куда поместить своих постояльцев… Но ведь недостаточно окончить вещь, надо еще ее переписать (ну и мука-то!) и отправить по назначению… Вот уж будут удивляться издатели моего журнала, получая один за другим объемистые пакеты! Надеюсь, что они будут этим довольны. Я смиренно молю моего ангела-хранителя (говорят, у каждого есть свой ангел) быть и впредь ко мне благосклонным, а сам со своей стороны буду продолжать усердно трудиться. Что за прекрасная вещь – работа».
Была известна необыкновенная аккуратность, даже щепетильность Тургенева во время писательского труда – на его письменном столе всегда был идеальный порядок. Рассказывали, что «раз он ночью вспомнил, что, ложась спать, позабыл на место положить свои ножницы: тотчас же зажег свечу, встал и тогда только вернулся в свою постель, когда все уже на письменном столе его лежало как следует. Иначе он и писать не мог». К тому же известно, что обладал Тургенев одной замечательной способностью – в частых и продолжительных своих перемещениях и переездах «обдумывать нити будущих рассказов, так же точно, как создавать сцены и намечать подробности описаний, не прерывая горячих бесед вокруг себя и часто участвуя в них весьма деятельно». К тому же, как неоднократно заверял Тургенев, необходимым условием для успешного творчества было состояние влюбленности, в котором писатель должен был пребывать.
Появление в печати следующих произведений из «Записок охотника» – «Ермолай и мельничиха», «Льгов», «Однодворец Овсяников» окончательно закрепило успех Тургенева. Об этих рассказах с восторгом заговорили в Москве и Петербурге. «Нисколько не преувеличу, – писал Некрасов автору, – сказав Вам, что эти рассказы сделали такой же эффект, как романы Герцена и Гончарова». До декабря месяца Тургенев сотворил еще пять зарисовок для «Записок охотника»: «Малиновая вода», «Уездный лекарь», «Лебедянь», «Татьяна Борисовна и ее племянник», «Смерть». По мере написания он отсылал рассказы в редакцию Современника, где они были напечатаны в номерах за 1848 год.
Тургенев необыкновенно продуктивен, он не только заканчивает «Записки охотника», но работает над пьесами – «Безденежье», «Где тонко, там и рвется», «Нахлебник», «Холостяк» и «Завтрак у предводителя», пишет рецензии, фельетоны.
По словам Белинского, написавшего обзорную статью «Взгляд на русскую литературу 1847 года», рассказы из цикла «Записки охотника» неравноценны по художественным достоинствам; среди них есть более сильные, есть – менее. В то же время критик признавал, что «между ними нет ни одного, который бы чем-нибудь не был интересен, занимателен и поучителен». Лучшим из рассказов Белинский считал «Хоря и Калиныча»; за ним следовали «Бурмистр», «Однодворец Овсяников» и «Контора».
Салтыков-Щедрин отмечал, что «Записки охотника» положили начало «целой литературе, имеющей своим объектом народ и его нужды». Гончаров увидел на страницах книги «истинного трубадура, странствующего с ружьём и лирой по сёлам, по полям». Некрасов в одном из писем указал на сходство «Записок охотника» с толстовским рассказом «Рубка леса», который готовился к печати на страницах «Современника» и был посвящён Тургеневу.
Вскоре «Записки охотника» были переведены на французский язык. Кажущаяся «простота» языка Тургенева задавала немалую трудность тургеневским переводчикам. Доходило до смешного – пытаясь достигнуть подобной выразительной силы, французский переводчик «Записок охотника» постарался, где мог, «улучшить» и «подкрасить» тургеневский слог. Мало того, что «Записки охотника» превратились в «Мемуары знатного русского барина». Но доходило до полной нелепицы: Тургенев писал просто «Я убежал», а переводчик эффектно украшал «скучную» фразу: «Я убежал… как будто за мной гнался целый легион ужей, предводительствуемый колдуньями…» и т. п. Писателю пришлось выступить с резким протестом по поводу столь своеобразного перевода.
А между тем в Париже назревали грандиозные потрясения – революционные события.
Филисоф-анархист Михаил Бакунин. Прототип Рудина