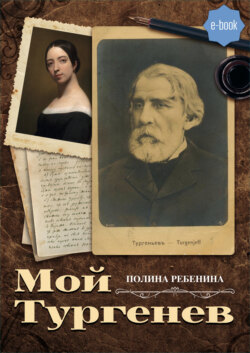Читать книгу Мой Тургенев - Полина Ребенина - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
11. В революционном Париже
ОглавлениеЗаписи Тургенева в Мемориале за 1848 год: «Новый год в Париже. – Поездка в Брюссель. – Революция без меня! – Rue de l’Echiquier – 15 Mai. Потом ужасный день 19-го мая! Болезнь. – Куртавнель. Страдания. Поездка в южную Францию. Марсель. Покупка дома Rue de Douai. – Rue Tronchet. Герцен. Тучковы. – «Где тонко, там и рвется». «Нахлебник»». Это год был особенным, переломным в общественной жизни Франции и Европы. Переломным он оказался и в личной жизни писателя.
В Париже Тургенев часто встречался с другом юности неутомимым борцом-революционером Михаилом Бакуниным. Мишель был пламенным трибуном и в своих речах выступал не только против крепостного права и российского самодержавия, но и за освобождение Польши. Для поляков эти взгляды русского эмигранта были абсолютно неожиданными, сильно удивляли их и вызывали бурю восторга. Однако, если сами поляки боролись исключительно за свои националистические польские интересы, то есть за освобождение Польши от России, то Бакунин, тоже выступавший за поражение России, надеялся на освобождение и будущее объединение всех славянских народов.
В годовщину польского восстания Бакунин выступил перед польскими эмигрантами в Париже с резкой критикой самодержавия в России: «Эта система правления, кажущаяся столь величественной извне, внутри бессильна; ничего ей не удается; все предпринимаемые ею реформы оказываются мертворожденными. Имея своею основою две низменные страсти человеческого сердца – продажность и страх, чуждая в своих делах всем национальным стремлениям, всем жизненным интересам и живым силам страны, власть в России с каждым днем своими же собственными действиями в ужасающей степени ослабляет и дезорганизует себя. Она теряет самообладание, беспомощно топчется на месте, каждую минуту меняя проекты и идеи: начинает сразу кучу дел, ни одного не доводя до конца. Только способностью творить зло щедро одарена эта власть, и она широко ею пользуется, точно сама торопится приблизить момент своей гибели. Чуждая и враждебная стране, она обречена на близкое падение!.. Господа, – заключил Бакунин, – от имени этого нового общества, этой настоящей русской нации я предлагаю вам союз. Да придет же день, когда русские, объединенные с вами одними и теми же чувствами, борющиеся за одно и то же дело против общего врага, будут вправе запеть вместе с вами вашу национальную польскую песнь, этот гимн славянской свободы: «Еще Польска не сгинела!»
Речь Бакунина завершилась восторженной овацией поляков, а затем она была опубликована во французской и немецкой печати. 5 декабря 1847 года русский посол в Париже П. Д. Киселев по указанию министра иностранных дел К. Р. Нессельроде потребовал от правительства Гизо высылки Бакунина из Франции. Несмотря на протесты демократической общественности, Бакунин был выслан из Парижа и в начале 1848 года уехал в Брюссель. Его сопровождал друг юности Иван Тургенев.
В Брюсселе Бакунин встречал Маркса, но общего языка с ним не нашел, а его упреки в «мелкобуржуазных представлениях» счел «теоретическим высокомерием». 14 февраля 1848 года Бакунин присутствовал на собрании поляков в память пяти казненных декабристов и польского патриота С. Конарского, расстрелянного в 1839 году. В своей речи он говорил «о великой будущности славян, призванных обновить гниющий западный мир», пророчил близкую революцию, неминуемый распад Австрийской империи и образование свободной «славянщизны» – федерации славянских государств с общим центром в России.
* * *
Знаменательным утром 26 февраля 1848 года в гостинице, где жили Тургенев и Бакунин, раздался крик посыльного: «Франция стала республикой! В Париже революция!» Друзья были потрясены! Неужели же «революция без меня»? Они спешно упаковали вещи и в тот же день отправились на поезде в Париж. Французскую столицу было не узнать – трехцветные знамена республики, мелькавшие всюду трехцветные кокарды, вооруженные блузники, разбиравшие камни баррикад… Февральские события вылились в отречение от престола некогда либерального короля Луи-Филиппа I и провозглашение Второй республики.
Одним из первых декретов республики от 26 февраля для безработных было основание «Национальных мастерских». В этих мастерских рабочие, организованные по военному образцу, занимались тяжелой работой (в основном работой землекопов), получая за это 2 франка в день. Хотя мастерские ввели лишь в нескольких крупных городах, вскоре в них трудилось уже больше 100 тысяч человек. Несмотря на тяжкий труд в национальных мастерских для многих безработных это была единственная возможность спастись от голодной смерти.
23 апреля прошли выборы в Учредительное собрание. Выборы сопровождались рабочими выступлениями: рабочие обвиняли власти в подтасовке выборов, в результате чего не прошли их кандидаты, зато прошло несколько крайне антисоциалистически настроенных консерваторов. Наконец, 4 мая открылось вновь образованное Учредительное собрание. Собрание резко негативно относилось к парижским рабочим и их социалистическим претензиям; рабочие платили ему взаимностью.
15 мая против Собрания была проведена 150-тысячная демонстрация, к которой примкнули вооруженные национальные гвардейцы. Лозунгом демонстрации было вооруженное выступление в поддержку Польши (в это время начались волнения в прусской и австрийской частях Польши). Демонстранты ворвались в Бурбонский дворец, где заседало Собрание, и поначалу действительно требовали вооруженной поддержки поляков. Однако затем на трибуну поднялся рабочий-кожевенник Юбер (освобожденный из заключения, где он пребывал за участие в заговоре против Луи-Филиппа) и крикнул: «Именем народа, объявляю Национальное собрание распущенным!». Было провозглашено новое правительство, из социалистических и радикальных лидеров (Барбес, Бланки, а также Альбер и Луи-Блан, несмотря на их протесты). Одновременно толпа захватила Ратушу. Однако сбежавшаяся национальная гвардия освободила правительственные здания и арестовала Альбера и Барбеса; Луи Блан эмигрировал, как и Юбер, заочно приговоренный к ссылке в колонии. Это незапланированное, авантюристическое выступление в итоге обезглавило рабочее движение, лишило его своих признанных лидеров.
Тургенев в это время жил в Париже в одном доме (на углу улицы Мира и Итальянского бульвара) с поэтом и революционером Георгом Гервегом. Герцен приехал со своим семейством в Париж 23 апреля 1848 года. Тургенев очень часто посещал семейные дома Гервегов, Герценов и Тучковых.
Революционные февральские дни 1848 года застали Полину и Луи Виардо в Берлине. Они оба были ярыми республиканцами и пришли в полный восторг от начавшейся революции. Уже 7 марта 1848 года они вернулись в Париж. Виардо писала Жорж Санд 14 марта: «Ах, моя Ninounnne в какую великую эпоху мы живем! Как ваше сердце должно было биться от счастья». По мнению артистки, все дело губили «честные, но робкие деятели революции».
Революция разгоралась в Европе. Революция во Франции подтолкнула развитие революционных событий в Германии, где уже в марте начались народные волнения. 18 марта 1848 г. берлинские рабочие, поддержанные всем народом, подняли вооруженное восстание и после героической борьбы на баррикадах заставили королевское правительство вывести войска из Берлина, произвести перемену министерства, дать амнистию заключенным и конституцию.
Тургенев, который находился в Париже, посылал семье Виардо подробные письма с отчетами о происходящих выступлениях. 15 мая он пишет: «Мне удалось пробиться сквозь строй гвардейцев у моста, и я взобрался на парапет. Я увидел массу народа, но без знамен, которая бежала вдоль набережной по ту сторону Сены… Но в это мгновение мы вдруг услыхали продолжительную барабанную дробь, со стороны Мадлен появился батальон мобильной гвардии и двинулся в атаку на нас… Батальон мобильной гвардии, подошедший от Мадлен, был встречен взрывами восторга буржуа… Возгласы «Да здравствует Национальное собрание!» начались с новою силой. Вдруг распространился слух, что представители снова вернулись в зал заседаний. Всё на глазах переменилось. Со всех сторон зазвучал сбор… Десять минут спустя все подступы к Собранию были запружены войсками; лошади крупной рысью с грохотом подвозили пушки, линейные войска, уланы… Буржуазный порядок восторжествовал, по справедливости на сей раз».
* * *
В эти дни в кафе Пале-Рояль произошла одна очень странная встреча Тургенева с «мусье Франсуа», не пожелавшим раскрыть своей фамилии. Впоследствии писатель посвятил этой встрече очерк «Человек в серых очках». Таинственный мусье, по-видимому, был близок к кругам буржуа и банкиров, контролирующим весь ход революционных событий. Революция в его глазах была бездарным, но трагическим фарсом, напоминающим театр марионеток, нити которого держали в своих руках люди, завладевшие богатствами целого мира.
– К черту политику! – восклицал мусье. – Делать ее весело; смотреть, как другие ее делают, глупо. Маленькие собачку так поступают, когда большие… наслаждаются жизнью… Национальные мастерские! Национальные мастерские! Были вы там? Видели их? Видели, как рабочие в тачках землю с одного места на другое перевозят? Вот откуда все пойдет. Что будет крови! крови! Целое море крови! Какое положение! Все предвидеть – и ничего не мочь сделать!! Быть ничем! ничем!
Этот странный человек заранее предвидел исход выборов и победу Луи Наполеона – ставленника крупной буржуазии. Он называл точное число голосов, которые получит каждый депутат.
Тургенев в тот же вечер передал все эти имена и цифры Герцену и очень запомнил его изумление, когда на следующий день все предсказания мусье Франсуа опять сбылись от слова до слова. «Откуда ты все это знаешь?» – спрашивал его не раз Герцен. Тургенев называл источник.
И вот, как по сценарию составленной заранее драмы, наступили трагические июньские дни. Учредительное собрание приняло закон о роспуске национальных мастерских в трёхдневный срок, объявило осадное положение и вручило диктаторскую власть военному министру, известному своей жестокостью в Алжире генералу Луи-Эжену Кавеньяку. Этот приказ о закрытии национальных мастерских переполнил чашу народного терпения.
– Началось! – воскликнула утром 23 июня прачка, принесшая Тургеневу белье. По ее словам, большая баррикада была воздвигнута поперек бульвара, недалеко от ворот Сен-Дени. Тургенев немедленно отправился туда. Сначала ничего особенного не было заметно. «Но вот впереди, криво пересекая бульвар во всю его ширину, вырезалась неровная линия баррикады». По самой ее середине небольшое красное знамя шевелило – направо, налево – свой острый, зловещий язычок. Один из блузников кричал: «Да здравствуют национальные мастерские! Да здравствует республика, демократическая и социальная!» Подле него стояла высокая черноволосая женщина в полосатом платье, подпоясанная портупеей с заткнутым пистолетом; она одна не смеялась и, как бы в раздумий, устремила прямо перед собою свои большие темные глаза».
Но уже слышалась дробь барабанов, и, волнуясь, вытягиваясь, как длинный червяк, шла навстречу инсургентам колонна гражданского войска. Грянул жесткий, короткий звук… Трагедия началась…
Тургенев видел улицы Парижа, залитые кровью рабочих. Тяжелое, однообразное буханье зависло над городом вместе с чадом и гарью зноя.
Однажды под вечер Тургенев услышал, как к этому буханью присоединились другие, резкие и как бы веерообразные звуки… Расстреливали инсургентов по мериям.
А затем задержали в Париже и самого Тургенева. Петр Алексеевич Васильчиков записал в своем дневнике со слов писателя:
«Тургенев сошел поутру вниз, чтобы посмотреть на улицу. К нему подошел вдруг офицер национальной гвардии и спросил его трагическим тоном, почему он не исполняет долг гражданина и не находится в рядах национальной гвардии. Тургенев ответил, что он русский. – «Ах, вы русский агент, приехавший сюда, чтобы возбудить раздор, гражданскую войну! Вы поддерживаете деньгами инсургентов!» Тургенев сказал ему, что у него не было ни копейки. – «Почему вы носите этот костюм? (Тургенев, зная, что ему нельзя будет никуда пройти, был в кургузой куртке) – «это для того, чтобы заключать сделки с инсургентами…»
По приказанию его Тургенева тотчас окружили четыре национальных гвардейца, и офицер сказал: «В мэрию». Mэрия находилась неподалеку от того дома, где жил Тургенев, и каждые 5 или 10 минут оттуда слышались небольшие залпы: расстреливали пленных инсургентов. Тургенев: «Но в мэрии расстреливают?» – «Да, инсургентов». Его повели: к счастью, на пороге соседнего дома Тургенев встретил одну M-me Grille, которая знала его и которая была известна всему околотку: она заступилась за него, и Тургенев был только приговорен к домашнему аресту.
Арест продолжался недолго, впрочем. На другой же день он мог по-прежнему свободно выходить. Четвертый день был еще ужаснее первых, пальба, особенно пушечная, была мучительна. Наконец, по улице проскакал усатый oрдинарец, крича направо и налево: «Предместья наши!». Что увеличивало ужас этого дня – это следующие друг после друга известия о смерти генерала Бреа, Negr; es архиепископа и, кроме этого, множество нелепых слухов, которые распространялись со всех сторон. Только на пятый или скорее на шестой день можно было снова ходить по улицам, и зрелище, особенно в faubourge St. Antoine было ужасное: улицы, разрытые и облитые кровью, дома разрушенные, некоторые… пробитые насквозь, как кружево. Повсюду трофеи из блуз, фуражек, киверов, облитых кровью. Часть пленных инсургентов были посажены в погреб под Тюильри, там от ран, духоты, тесноты, сырости, недостатка пищи открылась между ними зараза. В страшных страданиях они проклинали и ругали своих победителей: их расстреляли всех через soupiraux» (отдушины, франц., П. Р.).
* * *
Вот как описывал Герцен опустевший Париж после июньских дней: «Если б вы видели, какой он стал грустный, печальный после июньских дней. По улицам ходить страшно; там, где кипела жизнь, где громкая «Марсельеза» раздавалась середи других песен с утра до ночи, там теперь тишина – разносчик газет не смеет кричать, бледный блузник сидит перед дверью пригорюнившись, женщина в слезах возле него, они разговаривают вполслуха, осматриваясь. К ночи все исчезает, улица пуста, и мрачный патруль подозрительно обходит свой квартал с заряженными ружьями; блуза почти исчезла на бульварах, Национальная гвардия пыталась ее не пускать в тюльерийский сад, так, как это было при Людовике-Филиппе. Народ терпит – он побежден и знает своего победителя; он знает, что мещанин ни перед чем не остановится, что казаки и кроаты в сравнении с буржуазией – агнцы кротости, когда она победоносна, когда она защищает права капитала, неприкосновенность собственности. Народ терпит, но в душе его собирается мрачная злоба, тоска; невыносимость положения до того велика, что толпы работников просятся в Алжир; а вы знаете, что нет народа, который бы имел больше нелюбви к переселению, как французы».
И через 2 месяца, 1 сентября 1848 года Герцен посылает следующее письмо из Парижа: «Больше двух месяцев прошло после моего последнего письма. Трудно продолжать начатое, реки крови протекли между тем письмом и этим. Вещи, которые я никогда не считал возможными в Европе, даже в минуты ожесточенной досады и самого черного пессимизма, – сделались обыкновенны, ежедневны, неудивительны. Глубоко огорченный, я остался досматривать преступление осадного положения, ссылок без суда, тюремных заключений вне всяких прав, военносудных комиссий. Вероятно, чем-нибудь да кончится это тяжелое состояние, кто-нибудь явится воспользоваться учрежденным порядком – Генрих V, Людовик-Наполеон или этот несчастный солдат, который добродушно пошел из воинов в палачи и добросовестно казнит улицы, жителей, мысли, слова».
Тургенев не разделял социалистических идеалов Герцена и восставших рабочих, ему казалось, что революционеры дрались за исполнение несбыточной, донкихотской мечты, да и без надежды на успех, а с намерением только умереть, так как им нечем было жить. Но в то же время ему было очень жаль восставших: «Они не были достойны такой жестокости: их били и резали и ссылали как разбойников, без суда, а между тем они занимали половину города и не разбили ни одного дома, они занимали Латинский квартал, в их руках были все колледжи, дети тех аристократов, которые с ними обошлись так жестоко, и они не только не тронули их, но даже окружили их охранною стражей».
Тургенев был свидетелем и последнего акта революционной драмы: избрания Луи Наполеона. Теперь разыгрывался предсказанный мсье Франсуа пошлый и дешевый фарс. Какой-то шарлатан бесплатно раздавал на улицах Парижа брошюрки о Луи Наполеоне: так новоявленный душитель свободы и республики еще в начале июньских дней «приобретал народность». Подкупленные им люди собирались у Вандомской колонны и громко толковали о гениальности Наполеона. Потом нанятые политиканом толпы бродили по парижским улицам и кричали: «Да здравствует Наполеон! Да здравствует император!» Весь этот спектакль разыгрывался на средства известного банкира Ахилла Фульда, который после избрания Луи Наполеона занял место министра финансов.
В то время когда эти кровавые события сотрясали парижан, мадам Виардо не позволяла себе волноваться и сохраняла спокойствие. «Декабрьское превращение» Луи Наполеона в Наполеона III, например, несказанно взволновало всех, кто был небезразличен к политической свободе Франции. Однако Полина Виардо берегла свое здоровье и покой: она даже приказала не принимать в своем доме мужчин, потому что они надоедали ей своими вопросами. «Это меня только даром утомляет и волнует», – объясняла она. Удивительная это была женщина – целеустремленная, разумная, практичная, холодная, расчетливая.
События 1848 года привели Тургенева к грустному итогу. Он убедился, что революцией управляла злая сила в лице богатых буржуа и финансистов, несчастный же народ служил игрушкой в политической борьбе. Возникли серьезные сомнения в том, что народ вообще является творцом истории. Казались вполне справедливыми суждения «человека в серых очках»: «Народ, – говорил он, – то же, что земля. Хочу, пашу ее… и она меня кормит; хочу, оставляю ее под паром. Она меня носит – а я ее попираю. Правда, иногда она вдруг возьмет да встряхнется, как мокрый пудель, и повалит все, что мы на ней настроили, – все наши карточные домики. Да ведь это, в сущности, редко случается – эти землетрясения-то».
Трагический опыт революции 1848 года все более склонял Тургенева к мысли, что творческой силой истории является интеллигенция, тот верхний слой общества, который создает науку и культуру, который является проводником цивилизации в народную среду. И только тот может надеяться на успех, кто не спеша, упорно и последовательно занят этой культурнической работой. Пережитое во Франции уводило Тургенева в сторону от того писательского пути, который был намечен им в «Записках охотника». Внимание его все более и более привлекала не душа крестьянина, а русская интеллигенция.
Куртавнель. Рисунок Полины Виардо