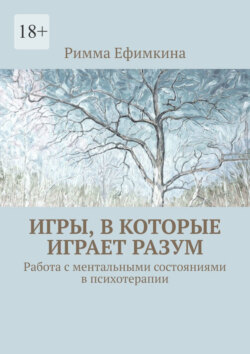Читать книгу Игры, в которые играет разум. Работа с ментальными состояниями в психотерапии - Римма Ефимкина - Страница 3
1.Безумие
ОглавлениеСлово «безумие» имеет разные интерпретации в зависимости от контекста. В узком смысле это сумасшествие, умопомешательство, психопатия; в широком – крайняя степень неразумности, абсурдности, нерасчетливости и т. п. В переносном смысле – чрезмерность, необузданность (например «безумные траты», «безумная страсть»). Нас слово интересует в психологическом контексте – как ментальное состояние, когда разум теряет контакт с реальностью; может относиться к любой ситуации, характеризующейся хаотичностью или высокой активностью, причем, может восприниматься как отрицательно, так и положительно.
Этимология слова: безумие ← безумный ← ум. Говоря по-простому, человек отбрасывает ум и в своих действиях некоторое время руководствуется аффектом.
В романе Толстого слово» безумие» встречается 8 раз, и один раз «безумство». Рассмотрим примеры подробнее.
Пьер Безухов
У Пьера состояние безумия (безумства) проявляется в разных контекстах и от этого меняет значение.
Безумство как неопытность
Так, молодой Пьер Безухов, получив огромное состояние и не умея с ним управляться, «стремился облагодетельствовать народ, который вверен ему Богом». Он вызывает в главную контору всех управляющих и объясняет им свои намерения: освобождение крепостных крестьян, до тех пор крестьяне не должны быть отягчаемы работами, женщины с детьми не должны посылаться на работы, крестьянам должна быть оказываема помощь, наказания должны быть употребляемы увещательные, а не телесные, в каждом имении должны быть учреждены больницы, приюты и школы и т. п. Управляющие испугались, а главноуправляющий понял, каким образом надо обходиться с барином:
«Главноуправляющий, считавший все затеи молодого графа почти безумством, невыгодой для себя, для него, для крестьян – сделал уступки» (Т. II. Ч. 2. Гл. X).
Он попросту обманул Пьера, что все исполнено, а тот поверил и успокоился. Безумство в этом контексте – неопытность, невежество, легковерие Пьера, пусть и с благими намерениями. В споре с князем Андреем (в эпизоде на переправе) последний разбивает в пух и прах утопии Пьера относительно реформ для крестьян.
Счастливое безумие
В конце книги Толстой тоже описывает временное ментальное состояние Пьера как безумие, но с положительной коннотацией, сопровождая эпитетом «счастливое». Это состояние связано с любовью к Наташе Ростовой, которую он любил всю жизнь, но только сейчас она ответила взаимностью и приняла предложение Пьера:
«Пьер часто потом вспоминал это время счастливого безумия. Все суждения, которые он составил себе о людях и обстоятельствах за этот период времени, остались для него навсегда верными. Он не только не отрекался впоследствии от этих взглядов на людей и вещи, но, напротив, в внутренних сомнениях и противуречиях прибегал к тому взгляду, который он имел в это время безумия, и взгляд этот всегда оказывался верен» (Т. IV. Ч. 4. Гл. XIX).
Синонимом безумия в этот период влюбленности Пьер называет, как ни странно, противоположные безумию качества: ум и проницательность. И сам объясняет причину этого парадокса:
«Может быть, – думал он, – я и казался тогда странен и смешон; но я тогда не был так безумен, как казалось. Напротив, я был тогда умнее и проницательнее, чем когда-либо, и понимал все, что стоит понимать в жизни, потому что… я был счастлив» (Т. IV. Ч. 4. Гл. XIX).
Безумие в данном контексте – это состояние, когда человек, отбросив ум как вторичную инстанцию, тестирует реальность не логикой, а непосредственно чувством. И поскольку состояние счастья – самый верный прибор, то мы, раз испытав его, стремимся субъективно отражать мир таким же прекрасным, как наше состояние души.
Культуролог и юнгианский психоаналитик Джозеф Кэмпбелл писал: «Я не знаю, что такое бытие, и не знаю, что такое сознание. Но я знаю, что такое счастье: это чувство присутствия, глубокое ощущение, что вы делаете именно то, что должны делать, чтобы быть самим собой».1
В этом состоянии, к которому Пьер бессознательно стремился всю жизнь, он понимает главное о том, как функционирует сознание: человек – существо чувствующее, способное мыслить. И если человек способен любить, то ум служит для того, чтобы найти причины и обосновать эту любовь. Теперь Пьер идет не за логикой и не за разумом, как это делал раньше, а за сердцем:
«Безумие Пьера состояло в том, что он не дожидался, как прежде, личных причин, которые он называл достоинствами людей, для того чтобы любить их, а любовь переполняла его сердце и он, беспричинно любя людей, находил несомненные причины, за которые стоило любить их. (Т. IV. Ч. 4. Гл. XIX).
И еще о счастье из Кэмпбелла: «Следуйте за своим счастьем. В вашей жизни непременно будут мгновения подлинного счастья. А когда оно пройдет, что тогда? Просто будьте счастливы, пока можете».2
Графиня Ростова: безумие как спасение от реальности
Совсем другой характер имеет безумство старой графини, потерявшей младшего сына – пятнадцатилетнего Петю. Графиня впадает во временное состояние отрицания, близкое к помешательству: она продолжает жить в мире, где сын жив:
«И опять в бессильной борьбе с действительностью мать, отказываясь верить в то, что она могла жить, когда был убит цветущий жизнью ее любимый мальчик, спасалась от действительности в мире безумия» (Т. IV. Ч. 4. Гл. II).
Психиатр Рональд Лэйнг видел безумие как защитный механизм, который помогает человеку выжить в хаосе3
Именно с помощью безумия (а еще при круглосуточной поддержке дочери Наташи Ростовой) женщине удается вернуться из мира иллюзии, что сын живой, в реальность. Только на третью ночь она находит в себе силы признать неизбежное:
«Графиня сидела на кровати и тихо говорила.
– Как я рада, что ты приехал. Ты устал, хочешь чаю? – Наташа подошла к ней. – Ты похорошел и возмужал, – продолжала графиня, взяв дочь за руку.
– Маменька, что вы говорите!..
– Наташа, его нет, нет больше! – И, обняв дочь, в первый раз графиня начала плакать» (Т. IV. Ч. 4. Гл. II).
Безумие Наполеона и его армии
Не иначе, как безумием, Толстой называет затеянную Наполеоном войну 1812 года. Писатель не скрывает презрительной насмешки, описывая безумие Наполеона как лицемерие. Невозможно не смеяться, читая, как он одаривает императрицу «своими собственными» драгоценностями, «взятыми у других королей». Как нежно прощается со своими двумя супругами – обе императрицы, одна в Дрездене, другая в Париже. Как называет российского императора Александра «Monsieur, mon frère (Государь, брат мой)», а сам в это время собирает против России войска.
С возмущением описывает Толстой также безумие огромных масс людей, восхищающихся Наполеоном. Этот социальный феномен идеализации узурпатора в ХIХ веке проявлялся в разных странах, включая Францию и Россию. Во Франции Наполеон воспринимался как выдающаяся личность, лидер, который воплотил устремления французов к мировому господству и смог повести за собой целый народ. Главные герои романа – Пьер Безухов и князь Андрей Болконский – также в начале повествования тайно восхищаются гением Наполеона.
Вот эпизод, в котором по дороге к армии Наполеон видит это безумие толпы:
«В каждом из этих городов тысячи людей с трепетом и восторгом встречали его. […] Для него было не ново убеждение в том, что присутствие его на всех концах мира, от Африки до степей Московии, одинаково поражает и повергает людей в безумие самозабвения» (Т. III. Ч. 1. Гл. II).
И далее в качестве доказательства их безумия Толстой описывает, как вместо того, чтобы найти брод для переправы армии через реку, солдаты побросались в воду прямо на лошадях, чтобы показать своему кумиру усердие и храбрость:
«Человек сорок улан потонуло в реке, несмотря на высланные на помощь лодки. Большинство прибилось назад к этому берегу. Полковник и несколько человек переплыли реку и с трудом вылезли на тот берег. Но как только они вылезли в обшлепнувшемся на них, стекающем ручьями мокром платье, они закричали: „Виват!“, восторженно глядя на то место, где стоял Наполеон, но где его уже не было, и в ту минуту считали себя счастливыми» (Т. III. Ч. 1. Гл. II).
Не менее безумным, с точки зрения писателя, стала и реакция на этот поступок Наполеона: он сделал распоряжение «о причислении бросившегося без нужды в реку польского полковника к когорте чести (Legion d’honneur), которой Наполеон был главою» (Т. III. Ч. 1. Гл. II).
Завершает главу, посвященную лицемерию Наполеона, Лев Толстой латинской пословицей:
«Quos vult perdere – dementat (Кого хочет погубить – лишит разума)» (Т. III. Ч. 1. Гл. II).
В эпилоге, говоря о безумии Наполеона, писатель подразумевает под безумием его преступность, которою тот гордится. Описывая восхождение преступника к высшей власти через завоевание все новых и новых земель и стран, Толстой называет его «совершенно одурманенным совершенными им счастливыми преступлениями» (Эпилог. Ч. 1. Гл. III). Но, считая его «разбойником вне закона», он не снимает ответственности и с тех, кто его возвеличил для осуществления своих не менее гадких целей. Только один Наполеон в слепоте самообожания не осознает, что сам он всего лишь игрушка в руках истории:
«Он один, с своим выработанным в Италии и Египте идеалом славы и величия, с своим безумием самообожания, с своею дерзостью преступлений, с своею искренностью лжи, – он один может оправдать то, что имеет совершиться. (Эпилог. Ч. 1. Гл. III).
Карл Юнг говорил, что войны и крестовые походы случаются для того, чтобы человечество смогло прирастить хотя бы малую толику к коллективному сознанию.
Психотерапевтическая работа с состоянием безумия
Поскольку я психолог и пишу книгу для психологов, то при работе с запросом клиента, в котором есть слово «безумие», я первым делом стремлюсь отграничить состояние безумия как нормативного ментального состояния от психопатологии (с ней работает психиатр).
В приведенных примерах Пьер как условный клиент не нуждается в терапии, скорее, он может считаться человеком, что называется, познавшим дзен. Процесс его внутреннего преобразования включает в себя изменение восприятия и отношения к жизни, что служит для нас примером здоровой трансформации.
В случае графини Ростовой мы имеем дело с первой фазой проживания потери – отрицанием. При потере, как мы помним, человек примерно за год проживает пять периодов, описанных Э. Кюблер-Росс: отрицание, гнев, торг, депрессию, принятие. Оказавшаяся рядом Наташа Ростова, которой только одной доверяет мать, выполняет, по сути, функции психотерапевта. К сожалению, это дорого обходится для ее здоровья:
«Княжна Марья отложила свой отъезд, Соня, граф старались заменить Наташу, но не могли. Они видели, что она одна могла удерживать мать от безумного отчаяния. Три недели Наташа безвыходно жила при матери, спала на кресле в ее комнате, поила, кормила ее и не переставая говорила с ней, – говорила, потому что один нежный, ласкающий голос ее успокоивал графиню» (Т. IV. Ч. 4. Гл. III).
В отличие от родственников, которые включены глубоко эмоционально, психотерапевт обучен диссоциации как приему при работе с тяжелыми переживаниями, вызванными травмой или стрессом. Он использует ее как защитный механизм психики, что помогает, во-первых, отстраниться от боли и ужаса (благодаря осознанию, что событие происходит не с ним, а с другим человеком); во-вторых, изолировать собственные травмирующие воспоминания (чтобы не произошло слияния с клиентом).
Наташа, мало того, что помогает матери принять смерть сына (Наташиного родного брата) и пережить траур, она и сама в свежем трауре по Андрею. В результате двойного потрясения и долгих бессонных ночей она заболевает сама:
«Княжна Марья отложила свой отъезд и последние три недели, как за больным ребенком, ухаживала за Наташей. Последние недели, проведенные Наташей в комнате матери, надорвали ее физические силы» (Т. IV. Ч. 4. Гл. III).
Однако, несмотря на физическое истощение, в духовном смысле горе матери парадоксальным образом воскрешает Наташу к жизни благодаря тому, что любовью к матери она освобождается от запрета жизни:
«Вдруг как электрический ток пробежал по всему существу Наташи. Что-то страшно больно ударило ее в сердце. Она почувствовала страшную боль; ей показалось, что что-то отрывается в ней и что она умирает. Но вслед за болью она почувствовала мгновенно освобождение от запрета жизни, лежавшего на ней. Увидав отца и услыхав из-за двери страшный, грубый крик матери, она мгновенно забыла себя и свое горе» (Т. IV. Ч. 4. Гл. III).
Мать, увы, так и не пришла в себя:
«После так быстро последовавших одна за другой смертей сына и мужа она чувствовала себя нечаянно забытым на этом свете существом, не имеющим никакой цели и смысла. Она ела, пила, спала, бодрствовала, но она не жила. Жизнь не давала ей никаких впечатлений. Ей ничего не нужно было от жизни, кроме спокойствия, и спокойствие это она могла найти только в смерти» (Эпилог. Ч. 1. Гл. ХII).
Наташа постепенно восстанавливается к жизни, благодаря молодости и тому, что ее задачи возраста еще не выполнены:
«Она не знала этого, не поверила бы, но под казавшимся ей непроницаемым слоем ила, застлавшим ее душу, уже пробивались тонкие, нежные молодые иглы травы, которые должны были укорениться и так застлать своими жизненными побегами задавившее ее горе, что его скоро будет не видно и не заметно. Рана заживала изнутри» (Т. IV. Ч. 4. Гл. III).
1
Кэмпбелл Дж. Пути к блаженству: мифология и трансформация личности. – М., Открытый мир, 2006. С. 31.
2
Кэмпбелл Дж. Пути к блаженству: мифология и трансформация личности. – М., Открытый мир, 2006. С. 31.
3
Лэйнг Р. Расколотое «Я». Экзистенциальное исследование «нормальности» и безумия. Феноменология переживания и райская птичка. 1960.