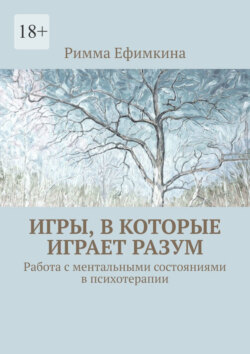Читать книгу Игры, в которые играет разум. Работа с ментальными состояниями в психотерапии - Римма Ефимкина - Страница 6
4. Заинтересованность
ОглавлениеВ книге есть глава «Интерес» с однокоренным словом, но «заинтересованность» – это другое ментальное состояние, отличающееся от просто интереса большей вовлеченностью и мотивацией. Если интерес как ментальное состояние – это внимание, любопытство, отношение к предмету или делу как к чему-то ценному, то заинтересованность – это наличие интереса при совершении определенных действий, мотив участия в той или иной деятельности. И еще: в заинтересованности есть некий тайный аспект, который человек, как правило, скрывает. Зачастую слово «заинтересованность» произносят как устойчивое сочетание слов – «личная заинтересованность». То есть это интерес, связанный с личностью человека, с его тождественностью и даже идентичностью.
За заинтересованностью могут стоять как позитивные чувства (например, радость познания), так и негативные (зависть или жажда мести).
Если слово «интерес» в романе Толстого «Война и мир» употребляется 49 раз, то слово «заинтересованность» – ни разу. Правда, есть однокоренные слова – глагол «заинтересовать» и краткое причастие «заинтересована». Давайте рассмотрим эти примеры словоупотребления подробнее.
Заинтересованность Элен
В салоне Анны Павловны Шерер появился Борис Друбецкой, которым как новинкой она угащивала в этот вечер своих гостей. В положенное время он, по предложению Анны Павловны, произнес заранее заготовленный рассказ о поездке в Пруссию и заинтересовал Элен:
«Более всех внимания к рассказу Бориса выказала Элен. Она несколько раз спрашивала его о некоторых подробностях его поездки и, казалось, весьма была заинтересована положением прусской армии. Как только он кончил, она с своей обычной улыбкой обратилась к нему.
– Il faut absolument que vous veniez me voir (Непременно нужно, чтобы вы приехали повидаться со мной), – сказала она ему таким тоном, как будто по некоторым соображениям, которые он не мог знать, это было совершенно необходимо. – Mardi entre les 8 et 9 heures. Vous me ferez grand plaisir (Во вторник, между восемью и девятью часами. Вы мне сделаете большое удовольствие)» (Т. II. Ч. 2. Гл. VI).
Толстой иронизирует над этой малообъяснимой заинтересованностью Элен в подробностях положения прусской армии. Разумеется, прусская армия здесь ни при чем, и Борис в его щегольском адъютантском мундире, возмужавший, свежий и румяный, со свободными манерами, с чистым и правильным французским языком, благосклонно принятый светским обществом, интересует Элен с совершенно другой стороны, нежели хороший рассказчик:
«– Мне это очень нужно, – сказала она с улыбкой. […] Казалось, что в этот вечер из каких-то слов, сказанных Борисом о прусском войске, Элен вдруг открыла необходимость видеть его. Она как будто обещала ему, что, когда он приедет во вторник, она объяснит ему эту необходимость.
Приехав во вторник вечером в великолепный салон Элен, Борис не получил ясного объяснения, для чего было ему необходимо приехать. Были другие гости, графиня мало говорила с ним, и только прощаясь, когда он целовал ее руку, она с странным отсутствием улыбки, неожиданно, шепотом, сказала ему:
– Venez demain dîner… le soir. Il faut que vous veniez… Venez (Приезжайте завтра обедать… вечером. Надо, чтобы вы приехали… Приезжайте).
В этот свой приезд в Петербург Борис сделался близким человеком в доме графини Безуховой» (Т. II. Ч. 2. Гл. VII).
Толстой подробно описывает приемы обольщения порочной Элен, назначавшей мужчин своими любовниками. Ее заинтересованность исходит из духовной пустоты и невозможности любить никого и ничего, кроме своего тела, и самоутверждение на почве интимных отношений стало частью ее личностной идентичности. Это же в конечном итоге и погубило Элен, умершую из-за «неудобства выходить замуж сразу за двух мужей» – так иносказательно Толстой дает читателю понять, что она умерла от аборта.
Заинтересованность Пьера
В другом эпизоде Пьера, взятого французами в плен, заинтересовывает то, как действует Платон Каратаев, разуваясь – кругло и споро делая сразу несколько дел одновременно:
«Рядом с ним сидел, согнувшись, какой-то маленький человек, присутствие которого Пьер заметил сначала по крепкому запаху пота, который отделялся от него при всяком его движении. Человек этот что-то делал в темноте с своими ногами и, несмотря на то, что Пьер не видал его лица, он чувствовал, что человек этот беспрестанно взглядывал на него. Присмотревшись в темноте, Пьер понял, что человек этот разувался. И то, каким образом он это делал, заинтересовало Пьера» (Т. IV. Ч. 1. Гл. ХII).
Эту заинтересованность не стоит понимать буквально, Пьеру нет дела до техники разувания, заинтересованность прикрывает другую потребность – переключиться с впечатления от казни, на которой он накануне присутствовал, на что-то мирное:
«Молча и неподвижно сидя у стены на соломе, Пьер то открывал, то закрывал глаза. Но только что он закрывал глаза, он видел пред собой то же страшное, в особенности страшное своей простотой, лицо фабричного и еще более страшные своим беспокойством лица невольных убийц. И он опять открывал глаза и бессмысленно смотрел в темноте вокруг себя» (Т. IV. Ч. 1. Гл. ХII).
За состоянием заинтересованности Пьера стоит надежда вновь обрести стержень после того, как «в душе его как будто вдруг выдернута была та пружина, на которой все держалось и представлялось живым, и все завалилось в кучу бессмысленного сора». К счастью Пьера, в казарме среди пленных оказался человек, перевернувший все сознание Пьера. Платон Каратаев, простой неграмотный мужик, своим примером научил его не только выживать в плену, но и любить ближнего своего. Заинтересовавшись сначала тем, как Платон разувается, а потом тем, как он говорит, как живет, Пьер восстановил свою разрушенную веру в людей и выстроил новую идентичность.
Незаинтересованность Кутузова
Лев Толстой, описывая Кутузова, противопоставляет старости, дряхлости, немощности пожилого человека (ему в августе 1912 года 66 лет) – его жизненный опыт, ум, духовную мощь. Он не заинтересован мнениями подчиненных ему умных и талантливых людей, но выслушивает их из приличия:
«Кутузов слушал доклад дежурного генерала […] так же, как он слушал Денисова, так же, как он слушал семь лет тому назад прения Аустерлицкого военного совета. Он, очевидно, слушал только от того, что у него были уши, которые, несмотря на то, что в одном из них был морской канат, не могли не слышать; но очевидно было, что ничто из того, что мог сказать ему дежурный генерал, не могло не только удивить или заинтересовать его, но что он знал вперед все, что ему скажут, и слушал все это только потому, что надо прослушать, как надо прослушать поющийся молебен» (Т. III. Ч. 2. Гл. ХV).
Он не заинтересован в их мнениях, потому что они молоды, а он стар. То, чего они еще не знают, он уже успел забыть. И в принятии решений, от которых зависит целая страна, он ориентируется не на ум, знания и патриотизм, а на жизненный опыт:
«Все, что говорил Денисов, было дельно и умно. То, что говорил дежурный генерал, было еще дельнее и умнее, но очевидно было, что Кутузов презирал и знание, и ум и знал что-то другое, что должно было решить дело, – что-то другое, независимое от ума и знания. Князь Андрей внимательно следил за выражением лица главнокомандующего, и единственное выражение, которое он мог заметить в нем, было выражение скуки, любопытства к тому, что такое означал женский шепот за дверью, и желание соблюсти приличие. Очевидно было, что Кутузов презирал ум, и знание, и даже патриотическое чувство, которое выказывал Денисов, но презирал не умом, не чувством, не знанием (потому что он и не старался выказывать их), а он презирал их чем-то другим. Он презирал их своей старостью, своею опытностью жизни» (Т. III. Ч. 2. Гл. ХV).
Причина незаинтересованности Кутузова в том, что все эти локальные мнения разных людей не касались главного вопроса – вопроса общей победы. Самое страшное решение, которое Кутузов вынужден был принять в войне 1812 года – оставление французу Москвы. На военном совете, где его противник Бенигсен стал манипулировать, поставив перед советом вопрос, «оставить ли без боя священную и древнюю столицу России, или защищать ее», Кутузов пресек манипуляцию, поменяв суть вопроса:
«Спасенье России в армии. Выгоднее ли рисковать потерею армии и Москвы, приняв сраженье, или отдать Москву без сражения? Вот на какой вопрос я желаю знать ваше мнение» (Т. III. Ч. 3. Гл. IV).
И поскольку прения были бесконечными, Кутузов понял, что решать придется ему одному:
«– Eh bien, messieurs! Je vois que c’est moi qui payerai les pots cassés (Итак, господа, стало быть, мне платить за перебитые горшки), – сказал он. И, медленно приподнявшись, он подошел к столу. – Господа, я слышал ваши мнения. Некоторые будут не согласны со мной. Но я (он остановился) властью, врученной мне моим государем и отечеством, я – приказываю отступление» (Т. III. Ч. 3. Гл. IV).
После этого под сильнейшим давлением общественного мнения Кутузов ждет вести об отступлении Наполеона из Москвы. Он знает, что его предчувствие верно, но знает он один, и нужны доказательства:
«„Терпение и время, вот мои воины-богатыри!“ – думал Кутузов. Он знал, что не надо срывать яблока, пока оно зелено. Оно само упадет, когда будет зрело, а сорвешь зелено, испортишь яблоко и дерево, и сам оскомину набьешь. Он, как опытный охотник, знал, что зверь ранен, ранен так, как только могла ранить вся русская сила, но смертельно или нет, это был еще не разъясненный вопрос. Теперь, по присылкам Лористона и Бертелеми и по донесениям партизанов, Кутузов почти знал, что он ранен смертельно. Но нужны были еще доказательства, надо было ждать» (Т. IV. Ч. 2. Гл. ХVII).
И когда гонец приносит весть, что войска Наполеона покинули столицу, становится понятно, кто тот собеседник Кутузова, к которому он одному прислушивается. И это не люди, не умные и храбрые подчиненные, а сам Господь:
«– Господи, Создатель мой! Внял ты молитве нашей… – дрожащим голосом сказал он, сложив руки. – Спасена Россия. Благодарю тебя, Господи! – И он заплакал» (Т. IV. Ч. 2. Гл. ХVII)).
В конечном итоге решение Кутузова спасло Россию. Армия Наполеона, спасаясь бегством зимой, почти вся замерзла на ее бескрайних просторах.
Психотерапевтическая работа с заинтересованностью
Люди редко открыто признаются другим в своей заинтересованности, поскольку за ней стоит не интегрированная, а потому не осознаваемая часть личности. Ее можно увидеть по косвенным признакам – по неконгруэнтности проявлений.
Покажу это несоответствие мыслей и чувств на примерах из другого романа Толстого – «Анна Каренина». Влюбившись в Алексея Вронского, Анна пытается подавить в себе это чувство. Но вот она неожиданно для себя встречает его прямо у поезда, на котором возвращается из Москвы в Петербург:
«– Я не знала, что вы едете. Зачем вы едете? – сказала она, опустив руку, которою взялась было за столбик. И неудержимая радость и оживление сияли на ее лице.
– Зачем я еду? – повторил он, глядя ей прямо в глаза. – Вы знаете, я еду для того, чтобы быть там, где вы, – сказал он, – я не могу иначе. […]
Он сказал то самое, чего желала ее душа, но чего она боялась рассудком. Она ничего не отвечала, и на лице ее он видел борьбу» (Анна Каренина. Ч. 1. Гл. ХХХ).
Вслух Анна осуждает поступок Алексея и просит забыть этот диалог, но в то время, как рассудок фиксирует страх, душа испытывает радость, и эта борьба отражается на лице.
В другой части романа Анна, едва не умерев в родах, не видит иного исхода для своей двойственной ситуации с мужем и любовником, кроме смерти. Но когда ее брат Стива Облонский в качестве альтернативы предлагает развод, он считывает ее настоящее желание по лицу, просиявшему красотой:
«– Я ничего, ничего не желаю… только чтобы кончилось все. […]
– Ты мучишься, он мучится, и что же может выйти из этого? Тогда как развод развязывает все, – не без усилия высказал Степан Аркадьич главную мысль и значительно посмотрел на нее.
Она ничего не отвечала и отрицательно покачала своею остриженною головой. Но по выражению вдруг просиявшего прежнею красотой лица он видел, что она не желала этого только потому, что это казалось ей невозможным счастьем» (Анна Каренина. Ч. 4. Гл. ХХI).
Прояснив истинное желание человека, терапевт теперь может скорректировать запрос и работать уже с ним.