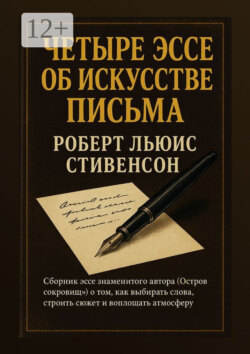Читать книгу Четыре эссе об искусстве письма - Роберт Льюис Стивенсон - Страница 4
О некоторых технических элементах стиля в литературе
2. «Ткань» текста
ОглавлениеХотя литература, благодаря значимости и универсальности языкового материала, стоит особняком, она остаётся искусством, а искусство, как известно, делят условно на два больших рода. К первому относятся те его формы, которые представляют или «подражают» чему-то (как скульптура, живопись, театр), а ко второму – те, что всего лишь «представляют себя» (вроде архитектуры, музыки, танца). У каждой группы есть свои особые законы. Но и у той, и у другой есть общая основа: всякое искусство, так или иначе, стремится создать «узор», будь то узор красок, звуков, движений, геометрических форм или подражательных линий. Вот где они сходятся, вот в чём их общая сущность. А то, что порой искусство забывает это детское своё начало и берётся за более серьёзные задачи, нисколько не отменяет того, что заодно оно «по долгу службы» создает узор.
Музыка и литература – искусства временные: они строят свой узор из звуков, следующих во времени, то есть из звуков и пауз. Обменяться мыслью можно и одним только набором существительных (как мы делаем иногда в спешке) – но это ещё не будет литературой. Настоящая литература как бы «оплетает» мысль, связующими витками обнимая её со всех сторон, чтобы каждое предложение своими фразами сначала завязалось в узел, на миг задержало смысл, а потом распустило бы его, всё проясняя. В грамотно построенном предложении всегда можно услышать такое «узелковое» сжатие, которое (пусть и тонко) подталкивает нас к ожиданию и даёт радость «развязки» в конце. Эта радость может усиливаться эффектом неожиданности – например, в грубоватой форме антитезы или, тоньше, когда автор будто готовит антитезу, а потом ловко её обходит. Важно и то, чтобы каждая фраза звучала красиво сама по себе, а между «завязыванием» и «распутыванием» в целом предложении царило гармоничное равновесие звуков. Ничто так не разочаровывает слух, как торжественно и звучно начатая фраза, которая в финале теряет силу и расползается. Но и чересчур резкая, прямолинейная симметрия не лучше: главное правило – неизменное многообразие, способное и заинтриговать, и обмануть ожидания, и приятно удивить, но всё же в конечном счёте удовлетворить. Иными словами, стиль – это бесконечное «чередование стежков», при всей аккуратности и связности «шитья».
Представим фокусника, который жонглирует двумя апельсинами, – нас завораживает, что он ни на миг не забывает ни один из них и оба непрерывно в движении. Писатель делает то же самое. Его узор, предназначенный радовать внутренний «слух», в то же время обязан отвечать логике. Как бы ни были путанны его мысли и сложен довод, конструкция текста не должна рассыпаться: если художественность страдает, значит, автор не справился. С другой стороны, ни слова, ни завязанного внутри фразы «узла» нельзя вставлять «для звука»: всякая подобная деталь должна прояснять ход мысли; иначе это будет уже подлог. Закон прозы не прощает пустой приписки, одинаково безразличной смыслам и звуку (во Франции поэтические «заплатки» называют cheville, но в прозе такие же вставки тоже недопустимы). Значимость формы оправдывается лишь тем, насколько она помогает ясности, краткости, выразительности.
Стиль синтетичен. Когда автор выстраивает «опору» для фразы, он сразу берётся за несколько элементов или взглядов на предмет, перемешивает, сопоставляет, проводит между ними скрытые связи и, по сути, достигает того, на что потребовалось бы два или три предложения, внутри единого оборота. Переход от старой «хроникёрской» письменной манеры, где всё разложено по порядку, как в протоколе, к более «плотному» и образному современному письму потребовал много работы ума и воображения. Тут не только более глубокий и вдохновляющий взгляд на жизнь, не только более тонкое чувство того, как связаны и вытекают друг из друга события, – тут ещё и умение решать сложные технические задачи письма. Ведь именно эта постоянная изобретательность – то самое «остроумие», что незаметно движет повествование вперёд, кружит нас по связям и подтекстам, балансируя сразу два, а то и три «апельсина» в воздухе. А без такой изобретательности не было бы и философской глубины, которой мы так дорожим. Потому стиль тот совершеннее, который достигает наибольшей выразительной плотности «незаметно». Или если и заметно, то лишь с пользой для силы и смысла. Даже отступления от «естественного» порядка слов помогают читателю яснее увидеть все ступени рассуждения или звенья действия. И чем сложнее это хитросплетение, тем завлекательнее сама «ткань».
Значит, то, что я называю «тканью» или «узором», – узор одновременно звуковой и логический, тонко сплетённый, наполненный, – и есть подлинная основа стиля, фундамент искусства литературы. Да, можно читать книги ради их фактического содержания или сюжета, даже если узор в них едва намечен. Но сколько же таких текстов мы перечитываем снова и снова лишь за красоту и стройность их построения! Скажем прямо: «начинка» там почти никакая, в лучшем случае слабо отражает «жизненные вопросы», а всё равно испытываешь радость, ощущая их почти невесомое «плетение», тонкую ясность – и грацию, с какой там «жонглируют апельсинами».
До сих пор я преимущественно касался прозы, потому что, хоть упорядоченность и связность чрезвычайно украшают стих, стихотворец может, если захочет, без неё обойтись – ритм и рифма сами уже создают узор. Да, это, кажется, опровергает мои доводы, но на деле только подтверждает их: ведь в стихах «за нас» трудится готовый узор – сама система стихосложения. Будет ли это счёт слогов, чередование ударных и безударных, повтор звуков или идей (как, например, в древнееврейской поэзии) – не важно, пока действует «правило», задающее основу. Собственно, это и есть цель любой стихотворной формы: навязать поэту такой «чертёж», чтобы ему и не слишком легко было, и не слишком трудно. Поэтому при равных способностях начать сочинять складные стихи проще, чем написать выразительную прозу, ведь в прозе сам писатель создаёт себе «раму» и «узлы», которые потом и преодолевает.
Отсюда же особая ценность большого поэтического дарования – скажем, у Шекспира, у Милтона или у Виктора Гюго (здесь я ставлю их рядом, имея в виду лишь умение владеть стихом, а не равную им поэтическую силу). Они не только свивают текст с логической плотностью хорошей прозы, не только заполняют стихотворный «чертёж» бесконечной изобретательностью, но и дарят читателю дополнительную радость, строя в тексте «двойной контрапункт», то есть умело совмещая требования стихового размера и логику повествования. Вот строка завершается, чуть дальше – конец фразы, а ещё далее – кульминационный финал, где всё сходится на одном звучном слове. Лучшее, чего может достичь автор прозы, – это идти рука об руку с логикой, подчёркивая и преобразуя её узором речи, временами с явным блеском, временами как бы легко и непринуждённо. Поэт же, решая к тому же ещё и чисто стиховую задачу, получает право на дополнительные триумфы – будто фокусник, который жонглирует уже тремя апельсинами вместо двух.
Тут, однако, есть своя потеря. В стихе, даже при всей искусности, синтаксические фразы обычно «плавают» свободней, чем в прозе, где каждое слово занято до предела и фраза так чётко «защёлкивается», словно вставка в пазле. В прозе даже слух ощущает эту подвижную симметрию и радуется её ясному возвращению; а в стихах внимание уходит на ритм, и грамматическая завершённость, при всей важности, отходит на второй план. Попробуйте взять для сравнения два фрагмента у одного автора, способного работать в обеих манерах, скажем, у Шекспира: его чистую прозу – к примеру, первую же речь Орландо в «Как вам это понравится» – и рядом любой стих из той же пьесы или что-нибудь вроде монолога «Прощай, воинское дело» в «Отелло». В прозе обнаружится удивительная точность и выверенная сбалансированность каждого построения, не столь заметная в стихе. Это не значит, что проза превосходит поэзию. Просто одно царство меньше и беднее, но всё же отдельное и суверенное.