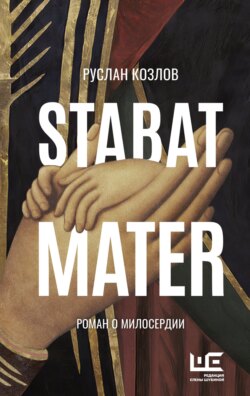Читать книгу Stabat Mater - Руслан Козлов - Страница 4
Часть первая
15 марта 130 года. Девять дней до игр
Кирион
Оглавление– Ге́ронда, ге́ронда[1], проснись, за тобой пришел солдат…
Тонкий голосок Хлои – паутинка, вытаскивающая из сна.
– Геронда, там солдат…
Кирион с трудом разлепляет веки. В тюрьме его глаза стали сильно гноиться, и утром приходится открывать их пальцами, раздирая засохший гной. Сколько он смог поспать? Может быть, пару часов между голодными спазмами…
– Геронда!.. – Хлоя начинает тихонько толкать его в плечо.
В следующий миг Кирион видит яркий свет и чувствует, как хитон на его груди сгребает чья-то сильная рука, тащит Кириона вверх и рывком ставит на ноги. Прямо перед ним – смуглое, изрытое оспинами лицо, лоб, покрытый железным обручем. Темные глаза смотрят с мрачной неприязнью. В одной руке у солдата – горящий факел, другой он встряхивает Кириона, принуждая его окончательно проснуться. Отрывисто спрашивает на латыни:
– Ты – Краснорукий?
– Я, – отвечает Кирион и поднимает вверх правую руку, кисть которой скрючена, сморщена, неподвижна, похожа на багровую куриную лапу.
– Иди за мной, – говорит солдат и отпускает хитон Кириона.
На слабых, подламывающихся ногах Кирион идет за солдатом по подземелью и в желтом свете факела видит лица сидящих на полу людей, с тревогой провожающих его глазами. Этих лиц он не видел уже много дней – в темноте каземата приходилось жить на ощупь, лишь когда сверху спускали котел с похлебкой, из открывшейся дыры на несколько мгновений просачивался свет.
Из дальнего угла, из темноты до Кириона долетает голос Власия:
– Будь стойким, брат. Господь не оставит.
В низком проеме двери, ведущей из каземата, солдат сгибается. Щурясь на свет факела, Кирион следует за ним и слышит, как сзади тюремщик с лязгом задвигает засов. Дальше – крутые ступени вверх, которые солдат одолевает в три прыжка, а Кириону приходится карабкаться по ним на четвереньках, дрожа от слабости.
– Поспеши, раб! – рычит солдат.
Кирион доползает до его ног, стоящих на верхней ступеньке. Эти ноги, обутые в калиги на толстых подошвах и до колен оплетенные ремнями, густо волосаты и огромны, как два столпа.
– Я не раб, – говорит Кирион, не поднимая головы. – Я – свободнорожденный гражданин.
– Ты не раб? – с насмешкой повторяет солдат. – Хорошо. Значит, ты – пес. Так тебя можно звать? Теперь иди за мной, отставая на пять шагов, – не дальше, но и не ближе. Потому что воняешь ты, как пес. И даже хуже – как старый больной баран.
Через несколько шагов они выходят во двор претории[2], и Кирион едва не захлебывается свежим весенним воздухом, невыносимо резким после затхлого подземелья.
Над высоким колодцем освещенного факелами двора – ночное небо с полной луной в зените. На каменных выступах вдоль стен сидят солдаты. У их ног сложена амуниция, торчком стоят медно-блестящие кирасы в форме могучих торсов, покоятся на коленях мечи в ножнах. Одни солдаты спят, привалившись к стене, другие равнодушно смотрят на Кириона и его конвоира. Выглядят они усталыми – похоже, прибыли недавно. Но с первого взгляда на их дорогие пурпурные туники, щиты со скорпионами и чеканные ножны понятно, что это не простые солдаты, а воины элитного легиона. А то и сами преторианцы. Но что делают преторианцы здесь, в мирном захолустье, за тысячу миль от Рима?..
Конвоир минует двор не останавливаясь. Его калиги скрежещут шипами по каменным плитам и отмеряют такие огромные шаги, что Кириону приходится, задыхаясь, бежать следом.
Агора за воротами претории мертвенно безлюдна в лунном свете. Это удивляет Кириона, потерявшего в тюрьме счет времени. Отчего-то ему кажется, что сейчас должен быть день.
Они проходят агору по диагонали, направляясь к вилле проконсула – единственному зданию, в окнах и колоннадах которого мерцает свет, и удивление Кириона все возрастает. Кому в этот час понадобилось видеть его, да еще и в доме проконсула?
Четверо преторианцев в латах и коротких плащах застыли на ступенях виллы, широко расставив ноги и держа на отлете копья с алыми древками. Конвоир, полуобернувшись к Кириону, делает знак рукой – стоять! Потом подходит к одному из преторианцев, что-то негромко говорит ему, и преторианец кивает в ответ. Их пропускают во внешнюю колоннаду, где конвоир останавливается перед задернутой завесой, из-за которой слышны негромкие голоса.
Через пару минут в колоннаде появляется бритоголовый мужчина в странном полувоенном облачении – патрицианской тоге, наброшенной поверх чешуйчатого нагрудника. Он скептически осматривает Кириона, долго не сводит глаз с его искалеченной руки, и под этим взглядом Кирион снова, как только что в тюрьме, поднимает руку, показывая ее бритоголовому – словно сегодня его рука стала каким-то пропуском.
Мужчина делает небрежный жест в сторону конвоира – свободен! – и тот удаляется.
– Тебя желает видеть авгу́ста, – говорит мужчина.
– Августа? – не понимает Кирион.
– Да, августа. – Бритоголовый брезгливо морщится, показывая, как противна ему тупость Кириона. – Ты не знаешь, кто такая августа? Достопочтенная Вибия Сабина, супруга нашего цезаря и понтифика Адриана… Сейчас ты сделаешь шаг за эту завесу, и остановишься, и будешь стоять молча и неподвижно, пока августа не обратится к тебе. На колени не падать, не кланяться, смотреть вниз.
Бритоголовый отодвигает завесу, и Кирион оказывается в просторном атрии. По всему его периметру в пролетах между колоннами горят светильники – чаши на тонких высоких ножках. Квадратный проем в потолке позволяет видеть черное небо и луну – яркую и белую, словно отверстие, прорезанное в небосводе из ночи в день. Вторая луна отражается в бассейне, занимающем центр атрия. Но эта вторая луна, в отличие от небесной, дрожит и приплясывает, подвластная легкому сквозняку над водой.
С минуту атрий остается пустым, но вскоре на его противоположном конце приходит в движение завеса, скрывающая внутренние покои, и, обходя бассейн, к Кириону направляется высокая женщина в белой палле, верхний край которой покрывает ее голову. Не дойдя до середины атрия, женщина останавливается, бросает короткий взгляд на Кириона и говорит куда-то в сторону:
– Помойте его.
Спустя полчаса Кирион вновь стоит в атрии и усилием воли пытается унять головокружение, которое началось у него от горячей воды и пряного аромата, наполнявшего термы. Он едва не упал, возвращаясь из терм через боковой двор, но был подхвачен сопровождавшим его рабом. Кириону не только позволили вымыться, дав губку и плошку с мылом, но и выстирали его хитон и даже успели высушить его, положив между двумя горячими каменными плитами. Однако ему не вернули нижнюю одежду и, вероятно, сожгли ее вместе с блохами и вшами, так что теперь он был голым под хитоном и чувствовал себя от этого странно и неловко…
Вновь женщина в белом появляется из внутренних покоев, идет к нему через атрий, и вновь Кирион удивляется тому, что она совсем не похожа на жену цезаря, которую он мог представить лишь укутанной в виссон, возлежащей перед пиршественным столом в окружении слуг и телохранителей. И уж если бы она заговорила с ним, Кирионом, то не иначе как через секретаря. А эта – одна, без свиты, в простой палле, лишь по краям украшенной шитьем. Ни сверкающей самоцветами заколки на плече, ни диадемы в волосах, ни золотых браслетов на руке, которой она придерживает у щеки край паллы… Впрочем, в атрии все же есть предмет, достойный служить императрице, – резное золоченое кресло, в которое женщина, подойдя, садится. Между ней и Кирионом остается не больше пяти шагов, и, бросив быстрый взгляд исподлобья, он успевает увидеть ее лицо с бледными, бескровными губами, тонким носом и густыми, выкрашенными коричневой краской бровями. И еще успевает заметить, что ее глаза полны какой-то неясной тревоги.
Не говоря ни слова, женщина показывает на мраморную скамью за спиной Кириона, и, отступив на пару шагов, Кирион садится на самый край. Женщина продолжает смотреть на него, но Кирион не отваживается поднять голову и встретиться с ней глазами. Он помнит наставления бритоголового, а главное, опасается, что увидит во взгляде августы нечто недоброе.
– Не прячь глаза, я этого не люблю, – наконец обращается она к Кириону на общем языке[3].
Взглянув на нее, Кирион понимает, что она смотрит испытующе, но как будто беззлобно.
– Сколько тебе лет? – спрашивает она.
– Шестьдесят пять, госпожа, – отвечает Кирион, чувствуя все возрастающее недоумение и даже какую-то нереальность происходящего, как будто здесь сидит не он, а его призрак – чистый, и в чистой одежде, и даже почему-то не мучимый голодом, а настоящий Кирион корчится на клочке рогожи в душном каземате. – Прости, госпожа, я не знаю, как к тебе правильно обращаться…
– Мое имя ты знаешь – Сабина из рода Вибиев. Мой титул – августа. Но и обращение «госпожа» меня не оскорбит. А у тебя есть имя?
– Да, госпожа. Кирион[4].
– Вот как? – В ее голосе, до этого ровном и бесцветном, появляются насмешливые нотки. – Значит, и ты тоже – господин?
– Нет, – качает головой Кирион. – Меня давно уже никто не зовет по имени. Я – Хирококкинос, Краснорукий.
– Краснорукий, – задумчиво повторяет Сабина. – Это странно…
Она надолго умолкает, смотрит в сторону. Кирион замечает, что ноздри ее тонкого носа подрагивают, словно она все время с тревогой принюхивается к чему-то и вот-вот скажет: «Пахнет гарью, где-то пожар».
– Что странно, госпожа? – наконец решается спросить Кирион, но жена цезаря не отвечает, продолжая думать о своем.
– В юности моим героем был Муций Сцевола, – наконец говорит она. – Ты знаешь, кто это?
– Да, госпожа. Гай Муций, который на глазах царя варваров вложил руку в пылающую жаровню и, не дрогнув, сжег ее дотла, чтобы показать стойкость римских воинов. И пораженный царь велел своим варварам отступить от Рима. А Муций, оставшись без правой руки, получил прозвище Сцевола – Левша. И заодно – вечное место в истории.
– Да, верно… И вот странно, что сейчас передо мной ты – собрат Сцеволы, настолько непохожий на него… Впрочем, природа иногда удивляет и даже близнецы, появившиеся из утробы в один час, бывают настолько несхожи, что трудно поверить в их родство… Я слышала твою историю от нескольких людей, Хирококкинос. А теперь хочу услышать ее от тебя. Так что же случилось с твоей рукой?
– Поверь, госпожа, – почтительно произносит Кирион, – я чувствую удивление не меньше твоего. Я поражен тем, что моя история могла дойти до самого Рима и стала известна такой высокой особе, как ты, и тем более что ты усматриваешь в ней сходство с подвигом прославленного героя…
– Не трать время, старик, – перебивает его Сабина. – Оставь эти ненужные предисловия. Я хочу услышать твою историю из твоих уст, и поскорее.
– История простая, госпожа. – Кирион низко опускает голову, почувствовав нотки недовольства в голосе августы. – Да, история простая и вовсе не героическая. Я не спас Рим, положив руку в жаровню. И ничего никому этим не доказал… Много лет назад люди, узнав, что я отказываюсь поклоняться капитолийским богам, силой привели меня в храм Юноны, вложили мне в руку фимиам и заставили бросить его на угли, разжав мою ладонь над жертвенником. Для них это была просто забава. А я сказал: «Раз так, пусть сгорит эта рука, предавшая меня и моего Бога». И сунул руку в жаровню. Но очень скоро лишился чувств и упал возле жертвенника. Вот и вся история, госпожа. История, узнав которую, люди начинают считать меня глупцом. И не просто глупцом – безумцем…
Сабина слушает, время от времени кивая – то ли словам Кириона, то ли своим мыслям. Когда Кирион заканчивает рассказ, она еще долго молчит.
– Ты говоришь складно, – наконец произносит она. – И производишь впечатление воспитанного человека. Ты грамотен?
– Да, госпожа. Я читаю и пишу на четырех языках.
– Вот как… – Голос Сабины смягчается. – Что ж, это еще одна странность. Признаться, ожидала, что ты окажешься тупым и угрюмым фанатиком… Скажи, Хирококкинос, те люди, которые сейчас в тюрьме, – кто они тебе?
– Там моя семья, – тихо говорит Кирион, – две дочери, два зятя и три внучки. Остальные – братья и сестры по вере.
– И это та самая вера, которая заставила тебя вложить руку в огонь, вера в осужденного и распятого сто лет назад иудейского мессию, вера, которая вызывает все большее недовольство у властей и простых граждан?
– Да, госпожа.
– Вот, кстати, еще одна странность, – произносит августа. – Мой дед, Тит Вибий Вар, лично знал человека, осудившего на смерть вашего мессию. Правда, тогда этот человек давно уже не служил прокуратором, а жил на покое на острове Капри.
– Мы помним имя того прокуратора, госпожа. Его звали Пилатом. И он долго свирепствовал в Иудее.
– Свирепствовал? – Сабина удивленно поднимает брови. – Своей, как ты говоришь, свирепостью он пытался вразумить буйный народ Иудеи и предотвратить все худшее, что случилось потом, когда смутьяны довели дело до большой резни и по Иудее прошли железные когорты, а ее столица была обращена в прах подобно Карфагену… Но я не намерена вести с тобой исторические диспуты, старик… Лучше скажи – что за дело вам, живущим здесь, в тихой и цветущей Вифинии[5], которую войны, бунты и прочие потрясения всегда обходили стороной… Что за дело вам до какого-то канувшего в Лету мессии – выходца из дикой пустыни, из края головорезов и смутьянов?
– Мы приняли его учение, госпожа, – учение, в котором нет ни одного призыва к насилию, но в изобилии проповеди о любви к ближнему.
– О любви к ближнему, – повторяет Сабина, и в ее голосе слышится сомнение. – И снова странность. Если эта вера так миролюбива, почему люди считают вашу секту людоедской, рассказывают о кровавых ритуалах, практикуемых вами? И даже говорят, что безумный мессия, которому вы поклоняетесь, призывал своих клевретов съесть его самого – съесть его плоть и выпить кровь!
– О августа, – со вздохом говорит Кирион. – Таково примитивное и буквальное понимание иносказаний мессии. Во всеобщей неприязни к нашему братству сошлись три главные черты плебса – страх перед непонятным, ненависть к инакомыслию, а главное – желание отыскать виновных во всех бедах и покарать их. Злобные слухи о нас родились во времена цезаря Нерона, который обвинил наших братьев в поджоге Рима и прочих преступлениях. И с тех пор эти слухи живут и разрастаются подобно ядовитому плющу, оплетшему нас…
– Ты слишком многословен, старик. – Сабина поднимает руку, прерывая Кириона. – Я не хуже тебя осведомлена о подлых нравах плебса, так что оставим это… А сейчас я хочу услышать от тебя вот что: пожалел ли ты когда-нибудь о том, что сжег свою руку, поступив так из преданности вашему мессии? Клял ли себя за то, что прожил жизнь калекой?
Несколько мгновений Кирион молчит, потом тихо, но твердо говорит:
– Нет, госпожа. Я ни разу не пожалел об этом.
– Но тогда ответь: вот ты, как я уже сказала, не похож ни на фанатика, ни на безумца. Ты никогда не видел вашего мессию и не мог подпасть под его чары, если таковые были. Значит, подобную твердость убеждений тебе дает именно его учение, его слова, как-то дошедшие через столько лет до тебя и твоих единоверцев. Так в чем же притягательная сила этого учения?
– В том, моя госпожа, что оно ведет к освобождению от зла. Но не внешнего зла, а внутреннего – от греховного зла в собственном сердце. И тем указывает путь к спасению.
– К спасению… – В голосе августы звучит сарказм. – Почему же ваш мессия не смог вразумить и спасти от истребления своих соплеменников в злосчастной Иудее?.. И что все-таки означают его безумные слова о поедании плоти?
– Они означают, госпожа, что наш мессия принес себя в жертву. А мы должны принять эту жертву, насытиться ею как духовной пищей и стать достойными этой жертвы…
Говоря это, Кирион бросает взгляд на августу и видит, что она широко зевает. И, зевнув, произносит:
– М-да… Поразительно, что столь туманное и далекое от жизни учение владеет умами так долго…
– Главное, госпожа, не слова мессии, а то, что случилось после его смерти… – начинает Кирион, но не успевает договорить.
Из-за его спины, бесшумно ступая в мягких сандалиях, появляется бритоголовый римлянин, подходит к Сабине, склоняется к ней и что-то вполголоса произносит.
– Когда? – спрашивает августа на латыни.
– Через девять дней, – уже громче докладывает бритоголовый и, повинуясь жесту Сабины, исчезает за завесой.
С минуту августа сидит молча, вновь захваченная неведомыми Кириону мыслями, затем говорит:
– Я слышала, безбожников, подобных вам, именуют христианами…
– Да, госпожа. – Кирион склоняет голову. – Христос – это и есть наш мессия, божий посланник. Так это слово звучит по-гречески.
– По-гречески? Значит, вы – греческая секта?
– Нет, госпожа.
– Иудейская?
– В нашей среде есть люди разных народностей, – говорит Кирион, – те, кому открылась Христова истина…
– И сколько же христиан здесь, в Олимпосе?[6]
– Немного, госпожа. Лишь те, кто сейчас в тюрьме. Шесть семей. Всего – тридцать пять человек вместе с женщинами и детьми… – Говоря это, Кирион вдруг чувствует, как в его нутро опять вгрызается голодный спазм, невольно охает и хватается за живот.
– Что с тобой, ты болен? – холодно спрашивает Сабина.
– Нет, госпожа. Это просто голод напоминает о себе…
– Я велю накормить тебя. Но прежде мы должны закончить разговор, ради которого ты здесь… Итак, Кирион… Боюсь, у меня плохие новости для тебя и твоих единоверцев. Знаешь ли ты, почему все вы оказались в подвале претории?
– Не знаю, госпожа, но догадываюсь. Нас хотят обвинить в поклонении Христу…
– Да, это так. Однако вас бы никто не тронул, если бы не обстоятельства, которые сложились неблагоприятно. Скоро сюда прибудет цезарь. Здесь он решил отпраздновать день рождения своего возлюбленного, греческого юноши, и показать ему место, где герой Эллады Беллерофонт бился с огнедышащей Химерой и сразил ее, а труп закопал под горой – той самой, из недр которой до сих пор вырывается пламя. Здешний проконсул, желая угодить цезарю и его любовнику, намерен устроить большие игры на столичный манер. Уже сооружен деревянный цирк, ведь здешний каменный амфитеатр слишком мал для такого события. На арену цирка выйдут акробаты и гладиаторы, бестиарии[7] и люди-саламандры, проходящие сквозь огонь, и кто-то там еще… – Сабина морщится и трет висок, будто ее голову пронзила внезапная боль. – Но главной частью представления, – продолжает она, не отнимая пальцы от виска, – будет воссозданная легенда о Химере, которой приносят человеческие жертвы. Химеру, точнее – многих Химер, изобразят голодные львы, как-то по-особому наряженные… А жертвы будут настоящие. И, думаю, ты уже догадался, кому уготована эта роль.
«Хлоя! – проносится в голове Кириона. – Она так кричала прошлой ночью, ей приснилось, что на нее набросился лев… А еще Лидия, и Агата, и другие дети… Но мы ведь знали, что когда-нибудь так может случиться и Господь призовет нас, уповая на нашу стойкость… Но голодные львы… И дети… Разве это можно вынести?..»
– Не хочу смотреть, как звери раздирают детей, – слышит он голос августы и пугается, что невольно высказал свои мысли вслух. – Нет, не хочу, – продолжает августа, и ее голос кажется усталым и равнодушным. – Нельзя сказать, что я чересчур чувствительна, нет. Скорее, дело в моем классическом воспитании, полученном от наставников-греков. Так или иначе, все эти кровавые зрелища, достойные мерзких варваров… Они просто… Просто оскорбляют мой вкус… Да, вкус! – вдруг кричит Сабина. – Ты слышишь, старик, оскорбляют мой вкус!..
Подняв глаза на августу, Кирион видит, что она сжимает виски уже обеими руками и ее пальцы трясутся. Край паллы спадает с ее головы, но она не замечает этого.
– Да-да, оскорбляют вкус! – снова кричит она.
Из внутренних покоев появляется девушка в белой тунике и, держа в руке небольшую чашу, быстро, почти бегом, спешит к Сабине, и та, схватив чашу, залпом выпивает ее, а потом, приняв из рук девушки платок, вытирает им губы и подбородок. Когда служанка удаляется, августа долго сидит неподвижно, глядя перед собой, словно изучая прожилки на мраморных плитах пола. Ее тягостное молчание усиливает волнение Кириона, и так почти невыносимое.
– Госпожа… – решается он позвать Сабину.
– Да, старик, дурной вкус – это опасный признак и для отдельного человека, и для империи, – спокойно говорит она, как ни в чем не бывало продолжая прерванный разговор. – Торжество дурного вкуса предвещает крах. А дойдя до некоего предела, дурной вкус и вовсе становится страшен. В мире дурновкусия чувствуешь себя как в яме со зверями. – Она наконец отрывает взгляд от пола и встречается глазами с Кирионом. – Но это так, к слову. А сейчас суть в том, что людям с дурным вкусом понадобились жертвы. Но просто взять и бросить вас зверям, как куски мяса, нельзя. Ведь это Рим, и тут во всем должна быть видимость законности. – Губы Сабины искажает саркастическая усмешка. – Поэтому вашей казни будет предшествовать суд. От вас потребуется немного: не признавать, что вы – христиане, поклясться в верности цезарю и поклониться Юпитеру, в святилище которого пройдет суд над вами. И если вы поступите так, то даже у цезаря не будет формального повода отдать вас на съедение зверям… А теперь вот что скажи мне, старик. Имеешь ли ты влияние на своих единоверцев?.. Уверена, что имеешь, – продолжает она, не дав Кириону ответить. – Стоит тебе только поднять твою красную руку, и все будут внимать тебе и сделают так, как ты скажешь… Тебя, Хирококкинос, я не призываю отречься от твоей веры. Ты уже сделал свой выбор, когда вложил руку в горящие угли, и сейчас ты подтвердил мне, что не жалеешь об этом… Хотя вижу, как ты стал бледен и как гнетет тебя жестокая участь, уготованная вам. Возможно, львиные клыки страшат тебя больше, чем пылающая жаровня, и ты рассудишь, что предать… Нет, не предать, а просто слукавить перед твоим мессией куда разумнее, чем принять мучительную смерть для потехи негодяев и ради торжества дурновкусия… Ты говорил, ваш мессия исповедовал любовь и милосердие. Если так, то ему не нужны ваши жертвы. Ведь он не Химера, и не кровожадный Молох, и не Сатурн, пожирающий детей… Впрочем, ты волен поступать, как повелит тебе долг перед твоим кумиром. Возможно, и мужчины из числа твоих единоверцев решат следовать этому долгу, недоступному моему пониманию. Это ваше право. Но повторяю, старик, я не хочу смотреть, как звери рвут детей своими клыками и когтями. Да и их матерям не место на кровавой арене. И потому я приказываю тебе, Хирококкинос, слышишь, приказываю: вели женщинам твоей секты выполнить необходимые условия, чтобы спасти себя и своих детей…
Смысл сказанного августой с трудом доходит до Кириона. Он слышит ее слова как бы сквозь крик маленькой Хлои, испуганной приснившимся львом. Он пока не может ни о чем думать, не может ничего ответить августе, он слишком слаб от голода и от обрушившейся на него страшной вести.
– Когда? – выдавливает он из себя. – Когда состоятся игры?
– Мне доложили, что Адриан сейчас в двух днях пути от Александрии, где его ждет императорская галера. Еще шесть или семь дней ему потребуется, чтобы пересечь Наше море[8]. Значит, через девять дней он будет здесь. И вряд ли захочет оттягивать начало игр… На этом все, – говорит Сабина. – Через три дня ты вновь предстанешь передо мной и доложишь, как выполнил мое повеление… Сейчас тебя накормят… И вот еще что. С этой ночи ты можешь выходить из тюремного подвала когда захочешь, но прочие безбожники останутся в тюрьме. И теперь от тебя зависит – куда они отправятся из претории.
– Госпожа… – К Кириону постепенно возвращается способность думать. – Спасибо за эту милость, госпожа… Моя жена Филомена тяжело больна. Ее не взяли вместе со всеми. Она осталась на попечении соседей, и я не знаю, что с ней. Теперь я смогу увидеть ее… Благодарю тебя… Госпожа, и если уж ты так добра, прошу тебя, вели, чтобы моих собратьев в тюрьме лучше кормили. Мы изнемогаем от голода. И еще изнемогаем от тьмы, в которой нас держат днем и ночью…
– Хорошо, – говорит Сабина после недолгого раздумья. – Я распоряжусь о еде и светильниках… И если в подвале есть отдушины, я велю их открыть, чтобы твои собратья не задыхались в собственном зловонии.
– Благодарю тебя, августа…
Кирион с трудом встает и выходит из атрия, следуя за тем же рабом, который водил его в термы. Он едва держится на ногах, шатается, и раб вынужден придерживать его за плечо.
Кирион не видит, как августа снова хватается за виски и сжимает их, словно ее голова раздувается от боли или от каких-то страшных мыслей.
Полчаса спустя Кирион один, без конвоя, пересекает агору, освещенную уже не луной, а рассветным небом. Он чувствует, что его разум и душа как будто окаменели. Кирион спешит в преторию, обеими руками держась за хитон на животе. Под хитоном – фрукты и лепешки, куски сыра и мяса – все, что он сумел нагрести со стола, за которым его кормили. Никто не запрещал ему брать еду. И опасения, что еду отберут тюремные охранники, тоже были напрасны – его без обыска пропускают в подвал. И, спустившись к собратьям, он видит, что там уже горят масляные светильники и все люди едят, собравшись вокруг четырех котлов. И самое удивительное – едят не руками, а глиняными ложками, появившимися невесть откуда.
– Отец, иди скорее! – зовет его Дидона, старшая дочь, которая первой увидела, что он вернулся. – Нам принесли еду, отец! Вареный горох. И даже мясо!..
– Возьми, вот еще еда… – Он глазами показывает на свой хитон, который топорщится от снеди.
Дидона подбегает и начинает вытаскивать еду у него из-за пазухи.
– Смотрите! Здесь лепешки, и сыр, и сливы, и даже смоквы… Хлоя, дети, скорей, скорей сюда!
– Где ты был, брат? И откуда это все? – В голосе подошедшего к ним Власия слышится подозрительность.
– Я говорил с императрицей… Да-да, не думай, что я обезумел. – Кирион снизу вверх глядит на огромного Власия. – Императрица здесь, в Олимпии. А скоро сюда прибудет и сам цезарь… Брат, я все расскажу. Но сейчас мне надо спешить к Филомене. Августа позволила мне покидать тюрьму. Прости, брат. Я скоро вернусь, и мы поговорим…
Комната пуста. На лежанке – скомканные тряпки, расколотый кувшин.
«Наверно, Симон и Лия забрали Филомену к себе», – думает Кирион.
С замирающим сердцем он переходит узкую улицу и, прежде чем постучать в дверь напротив, прижимает руки к груди.
– Господи, – бормочет он. – Боже милостивый, сохрани мою Филомену. Твоя воля во всем. Не дай мне, несчастному, погрязнуть в бедах и напастях подобно Иову. Господи, не оставь, помоги, укрой, защити…
Дверь перед ним распахивается. На пороге – Лия. Через мгновение Кирион все понимает по ее глазам. Лия молча сторонится, предлагая ему войти. Но Кирион стоит, ухватившись за косяк, чтобы не упасть.
– Когда? – спрашивает он.
– Двенадцать дней назад, как раз на Пурим. – Лия низко опускает голову. – Кровь пошла из горла. Я была с ней… Войди в дом, Кирион, тебя могут увидеть.
– Могут увидеть? – тупо повторяет Кирион. – О чем ты?
Может быть, Лия считает его беглецом? Или просто не хочет, чтобы люди видели у ее дома христианина?
– Ее положили, как она хотела, вместе с матерью? – спрашивает Кирион.
– Да, – нетерпеливо отвечает Лия. – Да. Вместе с матерью, в их родовую лодку…[9] Послушай, Кирион, или зайди в дом, или уходи.
– Я уйду, Лия…
Кирион отступает назад и останавливается посреди улицы. Он не слышит, как Лия резко захлопывает дверь, не слышит, как она говорит за дверью подошедшему к ней мужу:
– Этот Краснорукий не в себе. Совсем как безумный. Может, в тюрьме с ним что-то сделали?..
– А деньги? – раздается за дверью мужской голос. – Деньги за погребение Филомены? Открой же, я с ним потолкую…
– Говорю тебе, он не в своем уме, – зло отвечает Лия. – Потом потолкуешь.
– Когда? – не унимается мужчина. – Когда он сдохнет под римскими бичами? Может, мы и его будем хоронить за наши деньги?..
Кирион не слышит. Он медленно бредет к своей двери. Три ступеньки, ведущие к ней, он преодолевает с таким усилием, будто это горный перевал. И, шагнув через порог, в изнеможении садится на него. Его спина, обращенная к улице, вздрагивает – то ли от рыданий, то ли от тяжелой одышки. Так он сидит долго, ни о чем не думая, будто провалившись в пустоту. И в этой пустоте к нему запоздалым эхом возвращается голос августы: «Разве твой бог – кровожадный Молох, который хочет жертв?» И он вдруг резко и болезненно понимает, что должен ответить на этот вопрос, что такова жестокая необходимость и что без этого ответа вся его жизнь будет никчемной, как и его обгорелая рука. Он вспоминает, что через девять дней умрет. Но о собственной смерти он теперь думает без содрогания и даже – как о чем-то желанном, как о предвестии скорой встречи с Филоменой. Его страшит другое – что у него осталось слишком мало времени для ответа на вопрос, сорвавшийся с уст язычницы-императрицы и ставший главным теперь, в нескольких шагах от страшной арены, под взглядами желтых голодных львиных глаз.
С трудом распрямляя затекшие ноги, Кирион встает и пересекает комнату, заглядывает в кухонный угол, машинально отмечает, что полки, где стояла утварь, пусты – то ли Симон и Лия забрали все, то ли в доме побывали воры. Встав на колени, Кирион отодвигает камень у основания печи, достает из открывшегося тайника небольшой ящик, обитый медью, и ставит его на стол. В ящике – одиннадцать пергаментов, исписанных по-гречески пересказами того, что он слышал о Христе и Его учениках. Там же – один чистый пергамент, и тростниковый стилус, и чернильный порошок в деревянной коробочке, и красное вино в глиняном флаконе. Найдя на полке уцелевшую плошку, Кирион приготовляет в ней немного чернил, размешивая порошок в вине тупым концом стилуса, потом садится к столу, расправляет перед собой чистый пергамент и прижимает свинцовым бруском его верхний край. Правую искалеченную руку он может использовать только как крюк, но левой действует с привычной ловкостью и пишет ею не хуже, чем когда-то писал правой.
Кирион пока плохо представляет – что и зачем он собирается писать. Он всегда боялся собственных мыслей о самых важных вещах и никогда не додумывал их до конца. А уж пачкать ими дорогой пергамент и вовсе считал непростительной дерзостью. Ведь он не философ, не поэт, не ученый. Но теперь ему некогда бояться и нечего стесняться…
Сам того не замечая, он начинает писать на родном языке – ведь думает он всегда только на нем. И к тому же это их общий с Филоменой язык. Язык их детской дружбы и юношеской любви, язык их трудной и долгой жизни, их уступок и ссор, обид и прощений, скорбей и радостей, язык, которым они говорили об истине, обретенной ими во Христе…
В тот день Кирион написал:
«Зачем Богу нужны наши страдания? Вчера я знал ответ: Он хочет испытать нашу верность, увидеть – достойны ли мы войти в Его Царство. Наш мир, ставший новым Содомом, обречен на скорую гибель, чтобы затем, подобно новому Иерусалиму, возродиться очищенным. И в том будущем мире Господь уже не потерпит никакой нечистоты.
Я, пишущий эти строки Кирион, сын лодочника Пелея, полвека назад принял на острове Патмос святое крещение от Иисусова ученика – геронды Иоанна, желая, чтобы вся моя жизнь стала одним непреклонным следованием за Христом. Я знал, что придется пройти через страдания, но готов был приветствовать их как вехи на пути к спасению, проложенном для меня Господом. И потому никакие испытания не могли устрашить меня.
Так было до нынешнего дня, когда я понял, что по своей духовной слепоте готовился принять лишь собственные муки, хотя рядом со мной тем же путем шли мои близкие. Но узнав об участи, ожидающей нас, – о том, что мы должны быть растерзаны львами для увеселения тирана, – я осознал, что увидеть мучения близких будет выше моих сил. Это вырвалось из глубины моего сердца подобно пламени и вмиг сожгло любую возможность смириться с таким жребием – даже если он брошен рукою Самого Господа.
И вот, видимо, таков предел моей веры, которую я дерзко полагал беспредельной. И таков крах моей жизни, пришедшей ныне к малодушию и неверию…»
1
Геронда (греч.) – уважительное обращение к пожилому человеку. Отчасти соответствует русскому слову «старец». (Здесь и далее примечания автора.)
2
Претория – административное здание в провинциальном городе Римской империи. Как правило, претория включала в себя канцелярию местной администрации, солдатские казармы, судебную палату и тюрьму.
3
Общий язык (койне) – во времена Римской империи язык межнационального общения; близок к современному греческому языку.
4
Господний (греч.).
5
Вифиния – провинция Римской империи на побережье Малой Азии, часть древней Ликии.
6
Олимпос – город на побережье Малой Азии.
7
Бестиарий – участник древнеримских зрелищных игр, сражавшийся на арене с дикими зверями.
8
Наше море (лат. Mare Nostrum) – древнеримское название Средиземного моря.
9
В древней Ликии погребальные склепы имели вид каменных ладей.