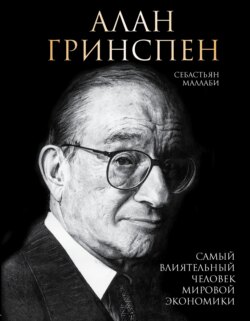Читать книгу Алан Гринспен. Самый влиятельный человек мировой экономики - Себастьян Маллаби - Страница 4
Часть первая
Идеология
Глава 1
Чувство победителя
ОглавлениеКак человек, чье детство пришлось на 1930-е годы, он влюбился в железные дороги. Огромные локомотивы, которые пыхтели и тяжело вздыхали, когда тащили свои невообразимые грузы, казались больше похожими на мифических существ, чем на машины, – «некоторые виды мастодонтов», как писали в книгах того времени1. Увидеть луч света от фар великого монстра; адский огонь, освещающий кабину машиниста изнутри; тень кочегара, вырисовывающуюся на фоне сияния, – всё это означало испытать волнение и ужас от промышленного прогресса, точно представить, что означал «американский век». Примерно с 11 лет молодой Алан собирал расписания поездов, запоминал маршруты и города по пути и представлял себе путешествие по континенту: из Дулута в Миннеаполис, из Миннеаполиса в Фарго, а затем вперед и на запад до Хелены, Спокана и, наконец, Сиэтла. Это была возможность познать мир за пределами Вашингтонских холмов, где на северной оконечности Манхэттена селились иммигранты; способ покинуть богато украшенный лепными украшениями приземистый дом из красного кирпича; освободить свой разум от слишком знакомых улиц, наполненных европейскими наречиями – идиш, ирландским и немецким. Вашингтонские холмы стали обживаться всего несколькими годами ранее, после того как в 1906 году нью-йоркский метрополитен дотянулся на север и добрался сюда. Но несмотря на появление метро, на улицах всё равно попадались лошади и люди, убиравшие за ними навоз2. Неудивительно, что на этом фоне железные дороги казались чем-то романтическим3.
Алан жил с бабушкой и дедушкой – Анной и Натаном Голдсмит – и любящей матерью Роуз. Они обитали в квартире с одной спальней на 163-й улице; у Натана и Анны была спальня, а Алан и Роуз ночевали в комнате, которая считалась столовой. Выбор столь скромного жилья для четырех человек, тем не менее, представлялся оправданным – это было лучше, чем переполненные многоквартирные дома Нижнего Ист-Сайда, где жили другие иммигранты. Жилье было не таким уж плохим, учитывая, что страна находилась в тисках Депрессии4. Голдсмиты жили по западную сторону от Бродвея, разделительной линии, которая отделяла здравую часть квартала от суматохи восточного5. «Само окружение, наряду со стилем зданий, близлежащими парками и прохладным ветром с Гудзона по вечерам, несло смутные воспоминания о буржуазных районах немецких городов», – писал современник6. Немецкие иммигранты стекались в Вашингтон-Хайтс в таких количествах, что это место иногда называлось Франкфурт-на-Гудзоне.
Для Натана и Анны, рожденных в России и вынужденных мигрировать в Венгрию, а затем из Венгрии в Америку, жизнь в Нью-Йорке, должно быть, казалась почти божественным благословением – они сели на воображаемый их внуком поезд и после многих приключений благополучно добрались до цели. Что касается Роуз, рожденной в Венгрии, но ставшей такой же американкой, как бейсбол, ей тоже было чему радоваться. У нее имелась постоянная работа продавца в мебельном магазине Людвига-Баумана в Бронксе, где ей платили достаточно, чтобы хватало на ежемесячную арендную плату в размере $ 48, еду на столе и даже на возможность давать Алану четвертак в неделю на карманные расходы7. Кроме того, Роуз была счастлива жить в полуквартале от своей сестры, зажиточной Мэри. Летом Алан оставался с Мэри в ее загородном доме недалеко от пляжа Рокэвей, на ближнем конце Лонг-Айленда. Алан и его двоюродный брат Уэсли часами бродили по песку, опустив головы, упорно ища потерянные монеты. Найденное они тратили на конфеты.
Маленький Алан, родившийся 6 марта 1926 года в результате ее краткого брака с Гербертом Гринспеном, был величайшим благословением для Роуз. Мальчик заполнял собой все пробелы в ее жизни – отсутствие мужа, который исчез, когда их сын был еще малышом, и отсутствие других детей. Каждое утро ее юный герой с безупречными чертами лица и широкой улыбкой отправлялся в начальную школу № 169 на Абандон Авеню и каждый день возвращался с необыкновенными приобретениями. С самого раннего возраста он мог складывать в уме большие числа и, казалось, наслаждался этим. Роуз демонстрировала его тетям и дядям. «Алан, сколько будет тридцать пять плюс девяносто два?» – спрашивала она. «Сто двадцать семь», – отвечал мальчик8.
Спустя несколько лет после того, как он превратил увлечение в перформанс, Алан обнаружил страсть к бейсболу, и было трудно сказать, что его больше волновало: радиокомментарии Мировой серии 1936 года или открытие мира статистики и символов, который придумал талантливый десятилетний мальчик. Статистика была простым, но приятным занятием: игрок, выигравший три из одиннадцати матчей, имел средний бэттинг[5] 0,273; тот, кто преуспел, выиграв пять раз из тринадцати, имел в среднем 0,385; благодаря бейсболу Алан запомнил таблицы преобразования простых дробей в десятичные. Но символы были проявлением творчества. Алан изобрел способ записи, который позволял ему отслеживать каждую встречу больших игр. Если игрок попадал по мячу на земле, он записывал аккуратный х в зеленой части таблицы. А когда игроку удавалась длинная передача, его обводили эллипсом; круг с x внутри него означал высокий полет мяча, а αсимволизировал сильный удар в дальней части поля. Каждому игроку был присвоен номер, который в сочетании со значками создавал точную запись игры: например, эллипс рядом с 11 означал длинную передачу в правую часть центра поля. Спустя 75 лет, размышляя о своем детстве, Алан сохранил убеждение в том, что его система была лучше всего того, что изобрели спортивные корреспонденты9. Роуз, без сомнения, с ним согласилась.
Алан не помнил ухода отца, он тогда был слишком мал, однако их разлука сильно отразилась на мальчике. В целом статус единственного ребенка в семье накладывает определенный отпечаток на формирование характера, однако положение единственного ребенка матери-одиночки может стать подавляющим фактором. Говорят, что Франклин Делано Рузвельт, государственный деятель, который определял судьбу Америки в период молодости Алана, приобрел свои уверенность и амбиции в результате неустанного внимания его матери-вдовы: он был целью ее жизни и памятником самой себе10. К счастью для Алана, его мать контролировала свое дитя гораздо меньше, чем Сара Рузвельт, которая, не задумываясь, поселила своего женатого сына в соседнем с ней доме, а затем прорезала дверь из своей большой спальни в гораздо меньшую комнату своей невестки, чтобы получить доступ в комнаты Франклина. Но хотя Роуз была по характеру мягче, чем мать президента, Алан тем не менее являлся единственным объектом ее любви, и кажется понятным, что она возлагала на него большие надежды. «Человек, который был безусловным фаворитом своей матери, на всю жизнь сохраняет чувство победителя, ту уверенность в успехе, которая часто настоящий успех и приносит», – заявил Зигмунд Фрейд, возможно, больше опираясь на интуицию, чем на доказательства11. Как минимум, Алан был готов поверить, что сможет победить журналистов, пишущих о бейсболе, на их поле и что однажды у него получится доехать на поезде до Тихого океана.
Однако если Алан и не сомневался в своих интеллектуальных способностях, при общении с людьми он чувствовал определенный дискомфорт. Он мог отлично разбираться в бейсболе благодаря своему интеллекту, но химия человека ему была неподвластна. Возможно, отчасти его неуверенность исходила от матери, поскольку Роуз была недосягаемым образцом. Довольно живая и общительная, она могла легко заставить любого ребенка почувствовать себя косноязычным по сравнению с ней. На семейных встречах дядя Алана Мюррей, который теперь носил имя Марио и пытался сойти за итальянца, с большим чувством мог сыграть на пианино; он добился успеха как автор мюзиклов в Голливуде. Но именно Роуз пела, аккомпанируя себе. Ее репертуар включал современные песни, исполненные в непринужденной манере певицы с микрофоном. Облокотившись на пианино в гостиной их квартиры, сияя заразительной улыбкой, Роуз могла стать душой любой вечеринки12. Ее же сын оставался в стороне, чувствуя себя «сайдменом»[6], как он сам будет называть себя13.
Но самым очевидным объяснением неуверенности в себе молодого Алана был его отец. Герберт Гринспен прибыл в Соединенные Штаты, будучи четырехлетним Хаимом Грюнспанном, скромным иностранцем, на борту корабля, который пришвартовался на острове Эллис в августе 1906 года14. С орлиным носом и высокими скулами кинозвезды Джина Келли, он был красив, как и Роуз, но в отличие от ее неизменно солнечного настроения мог быть странным и замкнутым. Возможно, именно он передал сыну привычку концентрироваться на своем внутреннем мире. И факт отсутствия у Алана отца значительно усилил эту тенденцию. После развода Герберт вернулся к своей семье в Бруклин, удалившись всего лишь на 20 миль. Однако нередко, обещая взять Алана на прогулку, он не держал своего слова15. «Алан редко его видел. Но я помню восторг, который он проявлял в тех редких случаях, когда отец навещал его», – вспоминал его двоюродный брат Уэсли16. Тот факт, что отец бросил его, подсказал Алану, что зависимость от любви может приносить боль. Казалось, безопаснее погрузиться в собственные мысли, в контролируемый мир статистики бейсбола и расписаний железнодорожного транспорта17.
В раннем детстве Алан выражал свою тоску по отцу напрямую. Суровый дед не мог служить заменой – Натан говорил на идиш с запрещающими интонациями и был поглощен миром синагоги, чуждым Алану настолько, что позже он собирался отказаться от бар-мицвы18. Но дядя Алана Ирвин, отец Уэсли, был более открытым для общения с мальчиком19. Иногда Ирвин отправлялся на прогулку, держа Уэсли одной рукой, его младшую сестру – другой, и с Аланом, мечущимся между ними. Довольно скоро Алан протискивался между двоюродным братом и дядей, вынуждая его взять племянника за руку, а Уэсли приходилось следить за собой самому20. Однако по мере того, как Алан становился старше, эти очевидные просьбы о любви становились менее частыми. Гринспен преодолел травму от потери отца, когда погрузился в себя и обнаружил, что лишь проводя время в одиночестве, он чувствует себя комфортно и счастливо21. Даже его школьные друзья отмечали, что Гринспен был необычайно замкнутым. Ирвин Кантор, ближайший приятель Алана в средней школе Эдварда У. Штитта на 164-й улице, проводил время в его квартире, поглощенный игрой, которую они с Аланом сами изобрели – разновидность бейсбола с кубиками22. Годы спустя Ирвин вспоминал Гринспена как странного одиночку – без братьев и сестер, без отца; с матерью, которая пропадала на работе, а также с бабушкой и дедушкой, застрявшими, казалось, в своем старом мире, где детям позволялось говорить, только если к ним обращались23.
«Я думаю, он действительно вырос с радио, в компании со своими мыслями», – говорила позднее жена Гринспена, Андреа Митчелл. «Я не знаю, было ли ему печально и одиноко, но это определенно сформировало того человека, которым он стал. Ему непросто найти подход к людям, и он очень застенчив».
«Очень застенчив», – добавила она24.
Обстоятельства подпитывали не только природную замкнутость Алана, но и его амбиции. Властный внутренний голос шептал, что он способен на большее – его талант к операциям с числами уверил его в этом, а материнское обожание устранило последние сомнения25. Но Алан также понимал, что мир никогда не узнает о его величии, если только он не докажет его, ибо ему не хватало легкомыслия и беззаботного обаяния, чтобы добиться признания без труда. Если ему суждено в будущем стать кем-то выдающимся, то для этого придется много работать. У отца Гринспена имелось четкое представление о том, как направлять амбиции мальчика. В 1935 году Герберт опубликовал трактат под названием Возвращение вперед! – победную песнь «Новому курсу», где он сравнивал Рузвельта с великим генералом, ведущим страну к «восхитительным вершинам процветания». Герберт написал этот текст ради денег, а не с литературными или научными целями; описание книги в New York Times обещало «схему, в которой писатель прогнозирует колебания на фондовом рынке по месяцам в течение 1935-го и 1936-го годов»26. Не смущаясь этим поразительным предвидением, Герберт подарил копию Возвращения сыну с надписью, в которой выразил надежду, что девятилетний ребенок будет интересоваться экономикой. «В зрелом возрасте ты сможешь оглянуться назад, попытаться интерпретировать обоснования этих логических прогнозов и начать свою собственную работу», – писал Герберт. Но хотя его сын в конечном счете последовал по предложенному пути, в то время совет отца ничего для него не значил. Алан прочитал несколько страниц книги, а затем сдался. Для девятилетнего мальчика это всё же было чересчур27.
Отложив знакомство с «Новым курсом» в сторону, Алан сосредоточил свои амбиции на бейсболе. Он не только анализировал матчи, но и сам начал играть. В подростковом возрасте Алан приобрел атлетическую внешность, которая дополнялась врожденными ловкостью и рефлексами, необходимыми для спорта. Он был левшой, что сделало его прирожденным игроком первой базы. Однажды, играя в местном парке со старшими подростками, Гринспен настолько уверенно ударил по закрученному мячу, что впечатленный старшеклассник заявил, что ему пора в высшую лигу. Этот комплимент вызвал у Алана прилив гордости. Он отправился на стадион Янки, чтобы увидеть своих кумиров: Лу Герига на первой базе, Джо Ди Маджио на дальнем участке поля, питчера Лефти Гомеса – даже 70 лет спустя Гринспен по-прежнему мог перечислить их. Иногда, когда он смотрел, как играют эти чемпионы, ему представлялся фантастический поворот собственной судьбы28. Вместо того чтобы наблюдать со стороны за людьми, которые сверкали словно изысканные бриллианты, он, возможно, сам мог бы стать одним из них. И тогда смотреть со стороны уже будут на Гринспена. Он займет свое место в центре Вселенной29. Станет игроком первой базы высшей лиги30.
Алан окончил среднюю школу в 1939 году, пропустив один год по совету своих учителей. Его следующей целью являлась полная средняя школа Джорджа Стингтона – угрожающего вида строение с итальянскими колоннами, расположенное на холмистом мысе с видом на реку Гарлем; драматический настрой усиливался массивностью и высотой здания, напоминавшего храм, перенесенный сюда из античности. Данная школа была одной из лучших в городе: она могла похвастаться отличными преподавателями, и в ней учились жившие по соседству амбициозные иммигранты, решившие начать свой путь к успеху в новой стране с успешной учебы31. Алан продолжал заниматься бейсболом в старшей школе, без сомнения, представляя себе, как он играет на стадионе Янки. Однако постепенно его спортивные успехи становились всё скромнее, и Гринспен понял, что ему следует направить свои стремления на что-то другое. И тогда его выбор остановился на музыке.
Обращение Алана к музыке подтверждало влияние на него матери и отсутствие такового со стороны отца. Помимо того, что тот подарил мальчику свою книгу по экономике, Герберт взял его с собой навестить дядю, бухгалтера, который жил в завидном великолепии в квартире, расположенной в южной части Центрального парка. Учитывая склонность Алана к математике, отец, возможно, решил, что в подростковом возрасте он примет своего дядю за образец для подражания. Но ничто, исходящее от Герберта, не вызывало отклика в его сыне; он был гораздо больше привязан к родственникам со стороны матери. Дед Натан был кантором в синагоге в Бронксе; дядя Марио мог играть самые сложные пьесы для фортепиано с листа; кузина Клэр шла к тому, чтобы стать профессиональной певицей. И конечно же, музыка являлась любовью Роуз. Звуки концерта Баха или баллады из мюзик-холла погружали Алана в счастливое состояние, когда его мать пела, а ритм и мелодия связывали их вместе32.
В 12 лет Гринспен услышал, как Клэр играет на кларнете. Эти звуки покорили его, и он тоже начал играть. Постепенно бейсбольные устремления Алана таяли, и в это время он добавил в свой репертуар тенор-саксофон. Мелодии бигбенда конца 1930-х годов, слияние танцевальной музыки 1920-х годов с блюзом и рэгтаймом захлестнули его, как волна. Гринспен настойчиво упражнялся, иногда проводя в своей комнате по шесть часов в день. Он любил музыку ради нее самой, но его привлекало и кое-что еще. Музыка, как и бейсбол, включала элемент шоу. Это был еще один способ для одиночки стать звездой, привлечь внимание толпы, не сливаясь с ней.
В 15 лет Алан совершил музыкальное паломничество, схожее с его поездками на стадион Янки. Он отправился на метро в центр города, к отелю Pennsylvania, прямо до одной из главных станций Нью-Йорка, чтобы послушать Гленна Миллера и его оркестр. Выбор Гринспена был не случайным; Миллер создал вариацию для бигбенда, которая вращалась вокруг тенор-сакса и кларнета, двух инструментов, на которых играл Алан. Как он много лет спустя вспоминал в мемуарах, юноша подобрался к эстраде, оказавшись всего в десяти футах от самого Миллера; и когда группа начала играть вариацию танца из Шестой симфонии Чайковского под названием «История звездной ночи», восхищение взяло верх над застенчивостью 15-летнего подростка.
«Это невероятно!» – выкрикнул Алан. «Это потрясающе, малыш», – ответил Миллер33.
Восторг от того, что джаз-идол обратился к нему, не покидал Алана. Миллер произнес только три слова, но это было больше, чем ДиМаджио или Гериг когда-либо говорили ему.
В безмятежную юность Алана периодически врывалась бурная политика 1930-х годов. Начиная с середины десятилетия евреи из Австрии и Германии начали наводнять собой Вашингтон-Хайтс, в их числе был подросток по имени Хайнц Альфред Киссинджер, который вскоре сменил свое имя на Генри и поступил в Джордж Вашингтон-Хай на два года раньше Алана. К тому времени, когда Гринспен прибыл туда, военно-морской флот США поместил телескоп на макушке церковной колокольни, которая высилась над школьной крышей; его предназначение состояло в том, чтобы следить за рекой вниз по течению, на случай если в нее проникнут немецкие подводные лодки. Двумя годами позже, спустя несколько месяцев после поездки в центр города с целью послушать оркестр Гленна Миллера, Алан включил радио в своей спальне во время перерыва в музицировании на кларнете. Диктор объявил о нападении Японии на Перл-Харбор.
Алан игнорировал ход войны, как только мог. «Я был более обеспокоен тем, выигрывают ли Brooklyn Dodgers, чем падением Франции», – вспоминал он спустя годы34. Вместо того чтобы переживать о геополитике, он присоединился к объединению ансамблей, игравших на танцплощадках, исполнив пару мелодий в выходные и заработав $ 10 за свои усилия. Самые высокие его оценки были по музыке; он продолжал преуспевать в математике, но не мог блистать в других областях, поскольку проводил много времени, играя на музыкальных инструментах. Окончив 12-й класс, Гринспен получил специальную грамоту от музыкального отделения школы. На фотографии в выпускном альбоме представлен молодой человек, сильно напоминающий чертами своего отца: высокие скулы, орлиный нос и высеченная челюсть. Подпись сообщает: «Быстр умом и к тому же талантлив. Сыграет для вас на саксофоне и кларнете»35.
Окончив среднюю школу в июне 1943 года, Алан Гринспен не собирался поступать в колледж. Он занял престижное место в Джульярде, элитной консерватории в Нью-Йорке, которая стремилась соперничать с великими классическими музыкальными учебными центрами Европы. Но формальный подход школы вряд ли устраивал поклонника Гленна Миллера, и Гринспен ушел оттуда в январе следующего года. Тем временем он продолжал играть джаз и брал уроки у известного преподавателя по имени Билл Шейнер, который вершил суд в магазине музыкальных инструментов на 174-й улице в Бронксе. Шейнер велел Гринспену сесть рядом с подростком по имени Стэн Гетц, который стал одним из величайших саксофонистов в истории джаза. Два ученика быстро подружились, и позднее Гринспен писал, что противостояние такому таланту выявило его собственные скромные возможности. Быть менее талантливым, чем Гетц, примерно соответствовало тому, чтобы быть не таким умным, чем Эйнштейн. В отличие от бейсбола, Гринспен знал, что его музыкальные способности вполне могли обеспечить ему заработок.
Весной 1944 года Гринспену исполнилось 18 лет, и его вызвали на призывной пункт. Это было страшное время для того, чтобы идти в армию: американские военнослужащие погибали десятками тысяч. Гринспен поехал на метро до южной оконечности Манхэттена, где военные создали призывной пункт, собирая молодых людей в здании таможни в Бэттери-парк, которая была построена как святыня международной торговли, а теперь стала участницей ее уничтожения. Долгое время Гринспен ждал в окружении сотен других молодых людей. Когда пришло время его осмотра, врачи выявили пятно на легком будущего экономиста. «Мы не можем сказать, активно ли оно», – констатировал сержант, приказав Гринспену на следующий день сообщить об этом специалисту по туберкулезу. Когда врач не смог определить, был ли молодой человек болен, Алана признали непригодным к службе.
Гринспен опасался, что его жизнь на этом может закончиться. И хотя страх оказался необоснованным, его судьба, несомненно, во многом определилась: если бы его приняли в армию, то участие в боевых действиях и общение с товарищами, вполне возможно, разрушило бы психологическую оборону Гринспена и сделало его менее одиноким; не исключено, что при таких обстоятельствах он в свои 30 лет в меньшей степени презирал бы всё, что исходило от правительства. Как бы то ни было, в 18-летнем возрасте Гринспен в ответ на мысли о смерти погрузился еще глубже в музыку. Его учитель, Билл Шейнер, рассказал ему о вакансии в ансамбле Генри Джерома, передвижной свинг-группе, где требовался кларнетист и саксофонист.
Генри Джером был не совсем Гленн Миллер. С его репутацией можно было развлекать пары среднего возраста в отелях и казино; пение под его аккомпанемент напоминало игру в мяч в классе AAA, но всё же не в высшей лиге. Однако Гринспен – застенчивый молодой человек с иронической по отношению к себе улыбкой – всё равно пришел на прослушивание в Nola’s Studios в Мидлтауне. Джерому понравилось то, что он услышал, и он предложил Гринспену должность за $ 62 в неделю – это было в три раза больше, чем его мать зарабатывала в универмаге36.
В течение следующих 16 месяцев Гринспен жил жизнью гастролирующего исполнителя, разговаривая с соседями в поездах (и обнаружив, что южный акцент может быть труден для понимания), играя на концертах в далеком Новом Орлеане и безмерно наслаждаясь этим37. По ходу дела он осознал, что Генри Джером оказался еще более потрясающим, чем о нем говорили. Незадолго до того, как он нанял Гринспена, группа Джерома играла в Лукаут Хаус, игорном клубе на Дикси-хайвей в Ковингтоне, штат Кентукки. Конкурирующий оркестр, который собирал намного больше слушателей в соседнем театре, переманил нескольких музыкантов Джерома. «Мне пришлось всё начать сначала, потому что оркестр был опустошен», – вспоминал Джером позже38. Разглядев потенциал в рекламе, Джером решил проявить себя в новом направлении. Смелый новый стиль джаза, созданный в угаре ночных клубов Манхэттена такими музыкантами, как Чарльз «Птица» Паркер и Диззи Гиллеспи, начал затмевать собой более мягкий и нежный свинг бигбендов, который доминировал в нью-йоркской поп-музыке с конца 1930-х годов39. Джером заполнил несколько открытых вакансий музыкантами, у которых были импровизационные навыки, необходимые для воспроизведения нового звука «бибоп». «Все они были уличными исполнителями, копирующими Диззи и Птицу», – вспоминал позже руководитель группы40.
Джером метался в поисках места в Нью-Йорке, где он смог бы поэкспериментировать с новым стилем, и нашел то, что искал, в ресторане Childs за театром Paramount. Этот похожий на пещеру кафетерий на Таймс-сквер был в некотором роде странным местом, далеким от интимной обстановки джазовых клубов, в которых играли Паркер и Гиллеспи. В начале вечера он обслуживал всех, начиная с курсантов морских училищ в увольнительной до семей из Вестчестера, прибывших в город, чтобы увидеть шоу, предлагая им блины и бутерброды с салатом из тунца – в нем не было ничего от авангарда41. Но с 1920-х годов Childs вел как бы двойную жизнь. Где-то около полуночи клиентура менялась, и в ресторане ощущалась «щепотка лаванды», как выразился скромный автор Vanity Fair («Ярмарка тщеславия»). Современный журналист выразил бы это по-другому. Под утро Childs превращался в горячую точку для геев42.
Выступление в Childs дало группе Джерома доступ на национальное радио.
Ансамбль часто появлялся в одиннадцатичасовом эфире после драм, которые шли в прайм-тайм; его бравые трубы и мягкие саксовые риффы звучали вплоть до новостной программы в начале часа, в которой сообщали последние военные сводки из Европы и с Тихого океана. Соблазнительный джазмен предварял каждый номер вечернего концерта словесными импровизациями, чтобы соответствовать звукам, льющимся из группы духовых. «Ну, мне всё равно, как далеко зашло трупное окоченение», – начал он однажды вечером весной 1945 года. – Вот мелодия, услышав которую – в аранжировке Генри Джерома, – вы просто должны встать и танцевать, независимо от того, чем вы были заняты. Врубаетесь?»43
Гринспен оказался младшим участником в ансамбле из 14 человек. Он был хорошим музыкантом, исполнявшим чужие мелодии, и, в отличие от великих идолов джаза, никогда не претендовал на место импровизатора или солиста. По воспоминаниям Гринспена, его устраивала такая роль: некогда, стремясь к участию в высшей бейсбольной лиге, он видел себя выдающимся игроком первой базы, а не звездой-питчером; теперь же, играя джаз, Гринспен был доволен местом сайдмена. Но его скромность имела свои пределы. Наедине с собой Гринспен признавал, что он особенный; ему хотелось сыграть героя в драме своей жизни, и он был настроен добиться признания. Для простого подростка заработок в $ 62 стал прекрасным стартом, и нежелание Гринспена становиться солистом вовсе не означало, что он собирался вечно стоять в стороне44.
Играя джаз, Гринспен не ограничивался только музыкой. Он взял на себя обязательство заполнять налоговые декларации для членов джазбанды, тем самым заявив о себе как об интеллектуале. «Бухгалтер из него лучше, чем музыкант», – услышал Гринспен однажды комментарий Джерома45. Он использовал временной простой: Вторая мировая война была периодом расцвета профсоюзного движения, и группа следовала правилам, предписанным профсоюзами: они играли 40 минут, а затем делали 20-минутный перерыв перед началом следующей подборки. Другие участники группы во время подобных интерлюдий прокрадывались наверх в аптеку Walgreens и курили наркоту в телефонных кабинках; Гринспен же это время тратил на изучение книг о финансах. В малоподходящей обстановке ресторана Childs Алан начал свое образование в области банковского дела и рынков. Он узнал о жизни Джона Пирпонтта Моргана – финансиста, который сформировал корпоративных гигантов Америки до Первой мировой войны. Также Гринспен проглотил «Воспоминания биржевого дилера» (Reminiscences of a Stock Operator), классический отчет о спекулянте Джесси Ливерморе, сделавшем успешную ставку против рынка накануне краха 1929 года. И он решил, что, как только устанет от музыки, его следующий шаг будет в направлении Уолл-стрит.
Как ни странно, оба родителя Гринспена поддерживали его столь резкие смены увлечений. Если ему хватило самодостаточности, чтобы отделиться от культуры джазбанды, и уверенности в себе, чтобы поверить в возможный успех в иной сфере, то всем этим он, несомненно, был обязан поддержке своей любящей матери, с которой продолжал жить, когда группа не гастролировала46. Однако своей тягой к финансам и необходимыми для работы с ними математическими способностями он был обязан отцу, хотя и редко видел этого человека и не испытывал к нему благодарности. Так получилось, что Гринспену пришлось изгнать отца из своей судьбы прежде, чем он смог разделить его интересы. Присоединившись к джазовой группе, юноша последовал за увлечением матери; но освободившись от него, он открыл для себя финансы и пошел, таким образом, по пути отца47. Летом 1945 года Гринспен покинул группу Генри Джерома, чтобы подготовиться к получению степени бакалавра в Нью-Йоркском университете.
5
Средний процент ударов: число ударов, деленное на число выходов на биту. – Прим. перев.
6
Сайдмен – рядовой исполнитель джаз-оркестра, участвующий только в ансамблевых партиях и не играющий импровизированное соло. – Прим. ред.