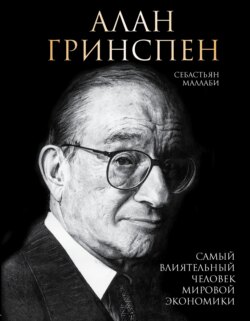Читать книгу Алан Гринспен. Самый влиятельный человек мировой экономики - Себастьян Маллаби - Страница 6
Часть первая
Идеология
Глава 3
Возрождение денег
Оглавление25 июня 1950 года девяносто тысяч солдат пересекли границу между Северной и Южной Кореей. Они пробили оборону Юга колонной советских танков, захватив Сеул, столицу Южной Кореи. В семи тысячах миль, в Вашингтоне, округ Колумбия, администрация Трумэна подозревала, что за нападением Севера стоит Кремль, и президент решил прийти на помощь Югу, хотя и боялся глобального конфликта. В полной мере используя свою воздушную мощь, Соединенные Штаты массово сбросили бомбы на северокорейские колонны. Любимец фотокорреспондентов, американский командующий в регионе генерал Дуглас Макартур – с волевой челюстью и неизменной трубкой – совершил смелую десантную высадку в портовом городе Инчон, отрезав отступление врага и отбив южнокорейскую столицу. Но страхи Трумэна об эскалации войны оказались полностью оправданными. В конце ноября Китай отправил 300 000 крестьян-пехотинцев в теплых стеганых куртках через замерзшую реку Ялу, по которой проходила граница Китая с Кореей. Китайцы окружили американских солдат, спавших прямо на голой земле, и убили их, заколов через спальные мешки1.
К моменту этой атаки Гринспен уже несколько недель занимался своими докторскими исследованиями в Колумбийском университете. Иногда в тот период он сидел в аудитории, наблюдая, как его наставник Артур Бернс спрашивал у своих студентов: «Что вызывает инфляцию?» Бернс называл причиной «избыточные государственные расходы» – современное представление о том, что ослабление денежно-кредитной политики тоже может вызывать инфляцию, похоже, не приходило ему в голову. Бернс не был одинок в этом убеждении. В 1930-х и 1940-х годах экономисты не обращали внимания на центральные банки; действительно, они отодвинули финансы в сторону как незначительные факторы на фоне ферм, шахт и фабрик, которые сформировали «реальную» экономику. Но равнодушию экономистов к монетарным вопросам предстояло пройти серьезную проверку. Неожиданным и для профессора, и для его учеников образом пересечение китайцами реки Ялу положило начало возрождению интереса к финансам.
До момента нападения Китая взгляды Бернса были вполне обоснованными. Во время Второй мировой войны ФРС сыграла скромную роль, поддерживая Казначейство. Правительство потратило всё необходимое, чтобы выиграть войну, и работа ФРС заключалась в обеспечении достаточного количества денег, чтобы сделать эти расходы возможными. В этой договоренности не было никакого кокетства. ФРС открыто обещала выкупать такую часть государственного долга, какая окажется необходимой для поддержания низкой стоимости займов Казначейства: она гарантировала, что процентная ставка по долгосрочным государственным облигациям никогда не поднимется выше 2,5 %. Неудивительно, что Бернс оставил ФРС и монетарную политику за рамками своих взглядов на инфляцию. Цель денежно-кредитной политики заключалась не в стабилизации цен. Она должна была финансировать государственный бюджет и обеспечивать военные затраты.
Интервенция Китая в Корею нарушила эту договоренность. Прогрессирование затяжного конфликта заставило Соединенные Штаты удвоить свои военные расходы, и администрация Трумэна стала больше, чем когда-либо, беспокоиться о контроле ФРС за выплатами по займам. В начале декабря президент позвонил домой Томасу МакКейбу, председателю правления Федерального резерва, и настаивал на том, что процентные ставки по долгосрочным облигациям ни в коем случае не должны пробить 2,5 %-ный потолок. «Если это произойдет, сбудется именно то, чего хочет г-н Сталин», – сказал президент2. Но атаки Китая также привели в движение и другой механизм: перспектива затяжного конфликта заставила потребителей броситься скупать всё – от автомобилей до стиральных машин, вызывая всплеск инфляции. В ноябре 1950 года индекс потребительских цен рос с годовой ставкой 20 %, а в течение двух месяцев после вторжения Китая он повышался еще быстрее. Угроза радикально нестабильных цен вынудила руководителей Федеральной резервной системы сделать то, чего от них никогда не ожидали Бернс и его современники. Они решили контролировать цены за счет повышения процентных ставок, независимо от того, насколько Трумэн мог ссылаться на императивы холодной войны.
Учитывая преобладающие допущения того времени, ФРС смело ввязалась в битву. Большинство послевоенных экономистов сомневались в том, что она сможет контролировать инфляцию, даже если бы у нее хватило духу для повышения процентных ставок вопреки воле Администрации. Инфляция, как говорили, была обусловлена не монетаристским выбором, а узкими местами в экономике. Если компании испытывают трудности с получением сырья или рабочей силы, которые им нужны, они будут повышать цены и перекладывать расходы на потребителей. Современное представление о том, что задача денежно-кредитной политики состоит в избегании таких узких мест, было понятно, но не принято. Теоретически, более высокие процентные ставки могут удержать потребителей и компании от займов для немедленных трат; по идее, это способно снизить спрос на продукцию, сырье и работников, помогая избегать узких мест и инфляции. Но большинство экономистов считали, что есть вещи поважнее процентных ставок: изменения в договоренностях с работниками, рост производительности компаний, новые возможности для продаж за рубежом – любой из этих факторов мог оказать более выраженное влияние на цены3. «Сегодня немногие экономисты рассматривают денежно-кредитную политику Федерального резерва как панацею для управления бизнес-циклом», – заявил Пол Самуэльсон в первом издании своего знаменитого учебника, опубликованного в 1948 году4. По словам финансового историка Роберта Хетцеля, «после Второй мировой войны монетаристская политика была сиротой»5.
В последний день января 1951 года Трумэн убедил лидеров ФРС в серьезности корейского кризиса. Он вызвал всех членов Федерального комитета по регулированию процентных ставок и Федерального комитета открытого рынка (FOMC) в Белый дом и сделал всё возможное, чтобы напугать их. «Это настоящая чрезвычайная ситуация, величайшая, с которой когда-либо сталкивалась наша страна, включая две мировые войны и все предыдущие войны», – сказал он. Но центральные банкиры стояли на своем. Председатель МакКейб предположил, что военная мощь зависит от экономической мощи, и для этого требуется стабильность цен. Затем Администрация попыталась подчинить центральных банкиров: она напечатала публичное заявление о том, что ФРС обязалась защитить 2,5 %-ный потолок по займам. Но руководители ФРС представили собственный отчет об этой встрече, в котором явно исключалось такое обязательство. Осознав, что ФРС может в одностороннем порядке приостановить закупки казначейских облигаций, администрация Трумэна повела себя сдержанно. По условиям нового «соглашения Федерального казначейства», долгосрочная процентная ставка наконец могла подняться6. Инфляция резко снизилась, доказав, что денежно-кредитная политика вовсе не бессильна.
Но администрация Трумэна еще не была побеждена. Она вынудила председателя МакКейба уйти и назначила на его место чиновника Казначейства Уильяма МакЧесни Мартина. Но если Мартина и выбрали за его предполагаемую преданность Белому дому, он вскоре доказал свою независимость. Мартин не только не восстановил старый потолок процентных ставок, но заявил в своем первом же выступлении, что «если инфляция не будет контролироваться, это может оказаться еще более серьезной угрозой жизнеспособности страны, чем всё нарастающая агрессия противников вне наших границ». Его заявление было весьма значительным: императивы стабильности цен превзошли императивы войны и геополитики – и это означало глубокие перемены. Беззубый центральный банк, на который Бернс не обращал внимания, теперь стал силой, с которой приходилось считаться.
Несколько лет спустя председатель ФРС Мартин столкнулся с Трумэном на улице в Нью-Йорке. Бывший президент остановился, пристально посмотрел на него и произнес одно слово: «Предатель», – а затем пошел дальше7.
Гринспен не сразу понял значение Соглашения Федерального казначейства. Он был слишком погружен в другую работу: учебу в Колумбийском университете и особенно в свои исследования в Совете Конференции. Весной 1952 года он привлек внимание статьей из двух частей, представленной Совету Конференции и озаглавленной «Экономика ВВС», в которой определялось влияние наращивания обороны, последовавшее вслед за войной в Корее. Исследование, результаты которого обобщила эта статья, стало триумфом детективной работы. Планы военных закупок классифицировались в военное время, так что Гринспен начал с изучения показаний сотрудников Пентагона в Конгрессе в предвоенные годы, когда они были рады разгласить количество самолетов в эскадрилье и число самих эскадрилий, поставленных на крыло, а также назвать уровень небоевых потерь. Объединив подобную информацию с сообщениями о действиях ВВС в Корее, Гринспен подсчитал, сколько самолетов требовалось закупить. Он выяснял вес конкретных самолетов по инженерным руководствам, в каждом случае оценивая пропорции меди, алюминия и других материалов; наконец, Гринспен спрогнозировал влияние военного спроса на рынки металлов8. Поскольку расходы на оборону составляли примерно седьмую части экономики, их влияние было значительным. Компании-члены Совета Конференции проглотили анализ Гринспена, завалив его просьбами о дополнительных исследованиях. На пути молодого человека возникал всё более расширявшийся поток предложений внештатной работы, в том числе роль экономического консультанта журнала Fortune. После фальстартов в музыке и бейсболе он наконец нашел работу, в которой преуспел.
В начале 1953 года Гринспену позвонил инвестиционный советник по имени Уильям Уоллес Таунсенд. Его фирма, Townsend-Skinner, была членом Совета Конференции, и Таунсенд иногда звонил, чтобы обсудить работы Гринспена. Но на этот раз у него была другая цель. Он пригласил Гринспена на обед в почтенный клуб банкиров, который занимал три верхних этажа возвышающегося неоклассического Equitable Building в нескольких минутах ходьбы от биржи; в 1920-е годы Equitable был крупнейшим офисным центром в мире. В назначенный день Гринспен приехал на метро в центр города, вошел в роскошный мраморный холл Equitable Building и взлетел на лифте к небу над Манхэттеном. Выйдя в вестибюль клуба, он выглядел до мозга костей «корпоративным космонавтом». Его бабушка и дедушка были выходцами из захудалых еврейских местечек Восточной Европы, но этот хорошо сложенный, гладко причесанный молодой человек в очках вполне мог сойти с рекламы IBM.
Гринспен попросил провести его к хозяину. Таунсенд выглядел на 60 лет, – старше, чем ожидал Гринспен. Но когда двое мужчин обменялись рукопожатием, именно Таунсенд оказался удивлен больше. Зная Гринспена только по его деловым письмам и серьезной манере ведения телефонных разговоров, он ожидал встретить 40-летнего мужчину, а не юношу 20 с небольшим лет.
Таунсенд, не теряя времени, объяснил цель встречи. Его партнер, Ричард Дана Скиннер, умер несколько лет назад, а его сын оставил фирму ради работы в другом месте: итак, ему нужен новый сотрудник9. Гринспену перспектива мгновенно показалась привлекательной. Он работал в Совете Конференции более четырех лет и начинал беспокоиться. Более того, он сознавал, что даже самым ассимилированным евреям-профессионалам следует по крайней мере проявлять осторожность в выборе карьеры. Его близкому родственнику Уэсли Хальперту было отказано в поступлении в медицинскую школу, хотя он окончил престижный городской колледж в Нью-Йорке; смущенный расовыми квотами, Уэсли стал дантистом. Гринспен никогда не жаловался на дискриминацию и даже не обсуждал ее со своими еврейскими друзьями; но он понимал, что национальность может затруднить выбор профессии10. Еще в годы войны Fortune настаивал на обсуждении еврейской «клановости», и вы могли бы прочесать списки старших руководителей на многих конференциях в начале 1950-х годов и не найти среди них ни одного еврейского имени11. Билл Таунсенд, если на то пошло, тоже не был евреем, но он предлагал партнерство, невзирая на открытие, что Гринспен оказался на 38 лет младше его.
Новая фирма Townsend-Greenspan открылась в сентябре 1953 года в неописуемом офисе на Бродвее, недалеко от Клуба банкиров, где оба партнера впервые пообедали вместе. Вскоре руководители, следившие за сочинениями Гринспена в Совете Конференции, превратились в его клиентов. Фонд Веллингтона, который позже превратился в Vanguard Group, стал первым в этом списке, за ним последовала цепочка сталелитейных компаний и несколько других, в том числе два, которые позже наймут Гринспена в качестве директора – Mobil Oil и алюминиевый гигант Alcoa. Работая консультантом, Гринспен мог обойти этнические барьеры без каких-либо трудностей; он часто делал презентации в залах заседаний, наполненных жадными слушателями, зная, что он единственный еврей среди присутствующих12. Кроме того, Гринспен обходил и другую трудность. Он жаждал славы и богатства, но его личность плохо подходила для подъема по крутым корпоративным лестницам; у него не было интереса ни к борьбе за сферы влияния, ни к конфронтации. В качестве бизнес-консультанта он мог преуспеть, оставаясь застенчивым, – исключительно благодаря магии цифр.
Отслеживание данных Гринспеном прекрасно соответствовало его новой роли в компании Townsend-Greenspan. Основываясь на работе, проделанной им в Совете Конференции, он создал подробную карту сталелитейного бизнеса, заполнив пробелы в публичных данных так же, как это было сделано с военными закупками. Например, компания U. S. Steel’s Fairless Works, занимавшая комплекс на четырех тысячах акров, не опубликовала своевременно данные о своей продукции; Гринспен вычислил, что если он узнает, сколько железной руды прибыло на комбинат, то сможет определить, идет объем производства вверх или вниз. К сожалению, статистические данные о поставках железной руды не были опубликованы, но «сыщик» знал, что руда поступает из Венесуэлы и из Месабинского хребта в верхней части Великих озер, поэтому он просмотрел отчеты о тоннаже кораблей и грузоперевозках и выяснил недостающие цифры. Чтобы преобразовать свои оценки поставок железной руды в прогнозы производства стали, Гринспен собрал информацию о том, сколько железной руды необходимо для производства различных видов стали. Годы спустя он будет шутить, что был единственным председателем ФРС, который изучил том размером с телефонный справочник под названием «Изготовление, формование и обработка стали». Гринспен утверждал, что прочитал его полностью13.
Постепенно он расширил свое понимание экономики. Burlington Industries стала его клиентом, поэтому Гринспен узнал всё о хлопковой промышленности. Когда Alcoa подписала с ним контракт, он воспроизвел свою «стальную» карту для производства алюминия. Анализ требовал минимальной осведомленности, что хорошо подходило Гринспену; чем больше он мог полагаться на факты, тем сильнее была его уверенность в собственных прогнозах. Необходимые ему сведения могли поступать практически отовсюду: из инженерных руководств, старого свидетельства Конгресса, статистики грузоперевозок – Гринспен был ненасытен в желании получить как можно больше информации. Чем больше фактов он собирал, тем внушительнее становился список его клиентов. И чем больше у него появлялось клиентов, тем больше сведений он собирал.
По мере того как Гринспен укоренялся в новой роли, его партнер постепенно стал заменять ему отца. Старик с восторгом делился с ним своими знаниями, а молодой человек с энтузиазмом усваивал их. «Хотел бы я быть рядом, чтобы увидеть, кем ты станешь», – как-то ласково сказал Таунсенд. Его предчувствие собственной кончины вскоре оправдалось: в 1958 году он внезапно умер от сердечного приступа. Гринспен, лишившийся своего наставника в возрасте всего 32 лет, задавался вопросом, сможет ли он удержать консультационную фирму на плаву. Но он уже обладал серьезной репутацией, и клиенты не собирались покидать его.
Гринспен выкупил доли наследников Таунсенда и получил компанию в единоличное владение. Но он оставил имя бывшего партнера на входной двери в знак уважения к человеку, который открыл для него новый мир. «Мне хотелось бы, чтобы он был жив и увидел, чего я достиг, – сказал позже Гринспен. – Я обязан ему многим…»14
Примерно в то время, когда он присоединился к фирме Таунсенда, Гринспен впервые посетил Совет Федеральной резервной системы в Вашингтоне. В составе исследовательской группы из Fortune он прошел сквозь громадный мраморный вход ФРС и оказался в канцелярии начальника Джеймса К. Вардамана-младшего. Это был неудачный вариант: Вардаман принадлежал к меньшинству руководителей ФРС, которые отказались поддержать председателя МакКейба в его борьбе с Трумэном, и он был столь же непоколебим, сколь впечатляющим было здание ФРС. Сын видного сегрегациониста с Миссисипи, Вардаман был принят в ФРС в награду за службу военно-морским адъютантом. Его привели к присяге в форме коммодора (командующий соединением кораблей), и он олицетворял недостатки ФРС 1940-х годов как своей чрезмерной лояльностью Белому дому, так и интеллектуальной ограниченностью. «Это был самый экстраординарный опыт, который я когда-либо переживал, – вспоминал позже Гринспен. – Я имею в виду, что он буквально ничего не знал»15.
Несмотря на то, что встреча с Вардаманом, казалось, подтвердила правоту Артура Бернса в его пренебрежительном отношении к ФРС, интерес Гринспена к денежно-кредитной сфере усиливался. В Колумбийском университете он выбрал тему докторской диссертации, которая намекала на его будущий путь: Гринспен предложил исследовать модели сбережений американских домашних хозяйств. Когда он вступил в партнерство с Биллом Таунсендом, то временно забыл о своих академических амбициях: у него было слишком много клиентов и бумажной работы, связанной с ними. Но интерес Гринспена к сбережениям и тому, как они перемещались в экономике, не исчез. Консалтинговая фирма Билла Таунсенда оказалась идеальной отправной точкой, с которой можно было начать размышлять о финансах, что послужило одним из тех небольших совпадений, которые способны изменить ход истории.
Прежде чем заняться бизнес-консультированием, Таунсенд сколотил состояние на рынке облигаций. Затем, вместе со своим первым партнером Ричардом Даной Скиннером, он разработал метод мониторинга кредитных рынков с целью прогнозирования цен на акции. За несколько лет до того, как такой монетарный анализ вошел в моду, Таунсенд заметил, что если банки выкачают большой объем займов, у инвесторов будет больше возможностей тратить деньги и стоимость некоторых акций возрастет. В 1930-х и 1940-х годах, когда большинство экономистов игнорировали денежно-кредитную сферу, Таунсенд быстро извлек выгоду из того, что успел понять раньше остальных. Когда он брал Гринспена на работу в 1953 году, Таунсенд еще выпускал информационный бюллетень о сберегательных и кредитных учреждениях – разновидностях банков, которые предоставляли займы только покупателям домов, – и продолжал отслеживать данные о банковских депозитах и рынке облигаций. После подписания договора с Гринспеном тот также стал участвовать в этих проектах, помогая наводить порядок в статистике, и вносил свой вклад в создание информационных бюллетеней16.
Как оказалось, финансовая сфера именно тогда находилась на пороге пробуждения.
Во время Депрессии и ее последствий кредитно-создающий механизм Уолл-стрит пребывал почти в коматозном состоянии. Рассказывали, что, прогуливаясь возле фондовой биржи, можно было услышать лишь стук нардов, раздающийся через открытые окна. Но к началу 1950-х годов финансисты снова стали активны. Солдатский билль о правах пообещал массовое владение домами, превратив поколение американцев в ипотечных заемщиков; и как только нация приобрела вкус к ипотечному займу, она заинтересовалась и другими видами займов. К тому времени, когда Гринспен присоединился к Таунсенду, потребительские кредиты стали настолько вездесущими, что коллектор превратился в «ключевую фигуру хорошего общества», как выразился кто-то из современников17. Между тем южанин по имени Чарльз Меррилл потряс Уолл-стрит, сделав инвестиции на фондовом рынке доступными для обычных американцев18. Отчасти благодаря активной рекламе Меррилла сумма денег, вложенных в паевые инвестиционные фонды, выросла в пять раз в интервале между 1950-м и 1960-м годами. Чем больше денег проходило через экономику, тем более очевидным становилось их значение. Как на протяжении всего этого времени наблюдал Таунсенд, быстрый рост банковского кредитования мог бы увеличить покупательную способность в экономике, поднять цены на акции и все другие цены. Вопреки тому, что утверждал Бернс, избыточные государственные расходы отнюдь не являются основной причиной инфляции – всплески частного кредитования могут в равной степени обладать дестабилизационным потенциалом. Это в свою очередь означало, что денежно-кредитная политика приобретала всё большее значение. Чем быстрее росли банки, тем важнее становилось их сдерживание со стороны ФРС.
После смерти Таунсенда в 1958 году Гринспен взял на себя финансовую работу фирмы, включая информационный бюллетень о ситуации в сберегательной и кредитной отрасли. Новая сфера заставила его погрузиться в дебаты относительно денежно-финансовых вопросов, которые велись вокруг. Мильтон Фридман, будущий отец монетаризма, был занят процессом трансформации мышления экономистов по центральному банковскому делу и финансам. В 1940-х годах Фридман воспринял взгляд Бернса на инфляцию как на продукт избыточных государственных расходов19. Но к концу 1950-х годов он уже был близок к тому, чтобы заявить: «инфляция всегда и везде является монетаристским феноменом». По мере того как финансовая система расширилась (а вместе с ней объем займов и кредитов), цена капитала стала признаваться центральной в капиталистической системе. Отнюдь не будучи маргиналами в реальной экономике нефти, химических веществ и стали, центральные банкиры и финансисты, которые установили эту цену, влияли практически на всё.
Ознакомившись с позициями участников данных дебатов, Гринспен увлекся идеями Джона Гурли и Эдварда Шоу, чей вклад состоял в том, что они расширили рамки банковской системы20. Банки могли создавать деньги, беря доллар в качестве депозита и выдавая несколько долларов в кредит. Но та же самая способность производить расходную энергию существовала в разной степени и в других частях финансовой системы. Вся атрибутика фондового рынка, с его спекулянтами, брокерами и паевыми фондами, может рассматриваться как создание денег. Функция рынка заключалась в том, чтобы взять неликвидную собственность компаний и превратить ее в сертификаты, которые можно было бы свободно покупать и продавать, так, чтобы сегодняшняя доля в стоимости шахты или завода завтра могла стать наличными деньгами у вас в кармане. Наиболее стабильные инвестиции в основной капитал – автомобильный сборочный конвейер или сталелитейный завод – в мгновение ока могли быть преобразованы в расходную мощность. И чем больше распространялась эта долевая собственность, тем больше колебания цен на нее влияли на доверие бизнеса и семей – и, следовательно, на состояние экономики.
Гринспен, обдумывая идеи Гурли и Шоу, учел еще одно обстоятельство. Некоторые комментаторы подчеркнули риски в банковском деле и финансах, но Гурли и Шоу акцентировали внимание на их преимуществах. Сложный финансовый сектор предлагал гражданам бесчисленные способы сбережений – инвестор мог долгое время зарабатывать деньги, владея частной компанией, не котируемой на бирже, или избежать долгосрочных обязательств, имея депозит до востребования. Он мог взять на себя риск, купив технологические акции, такие как Xerox, или избежать риска, приобретя облигации краткосрочного государственного займа. Благодаря тому, что люди могли создавать портфели, соответствовавшие их запросам, сложные финансы снижали цену, на которой граждане могли бы сэкономить. Результатом стала низкая стоимость капитала и, следовательно, большее процветание для всех. Гринспен никогда не терял эту принципиально оптимистичную убежденность в силе финансов, даже когда события неоднократно бросали ему вызов.
Через год после смерти Таунсенда Гринспен внес свой вклад в понимание финансовой сферы. В длинной статье, представленной Американской статистической ассоциации в последние дни декабря 1959 года, он изложил связи между финансовым сектором и реальной экономикой, идя дальше, чем кто-либо из его современников, в выявлении их взаимодействия. Столкнувшись с представлением о том, что финансовые рынки – это просто казино бессмысленных побочных ставок, он изложил концепцию, за которую позже получил признание лауреат Нобелевской премии Джеймс Тобин. Фондовые цены стимулируют корпоративные инвестиции в основные фонды, заметил Гринспен. В свою очередь, эти инвестиции приводят ко многим бумам и спадам в капиталистической экономике21.
Чтобы лучше понять Гринспена, рассмотрим строительную отрасль. Если рыночная стоимость офисного здания стала выше стоимости его строительства, предприниматели будут возводить новые офисные здания с целью выгодно их продать. Поскольку они закупают сталь и бетон, нанимают строительную технику и рабочих, расходы бизнесменов будут способствовать росту экономики. Но если рыночная стоимость офисных блоков упадет ниже стоимости строительства новых, динамика станет обратной. У предпринимателей исчезнет стимул строить новые офисные здания, поскольку они будут продаваться в убыток. Их расходы на сырье, машины и рабочие руки сократятся. Потеря этого мощного источника спроса может спровоцировать спад.
Тот же принцип, продолжил Гринспен, в равной степени относится к компаниям. Если рыночная стоимость компании, то есть стоимость ее акций, определяемая инвесторами на фондовой бирже, выше стоимости основного капитала компании, у предпринимателей есть стимул для расширения компании или создания новой. Так же, как строитель-предприниматель построит офисный блок за $ 10 млн, если его можно продать за $ 15 млн, промышленный предприниматель создаст новое промышленное предприятие за $ 100 млн, если он может рассчитывать продать его акции за $ 150 млн. Но если рыночная цена компании падает ниже стоимости ее распределительных складов и производственных линий, у предпринимателей исчезает стимул инвестировать в новые капитальные активы. В условиях подъема высокие цены на акции стимулируют бизнес-инвестиции, а значит, способствуют более широкому буму. В условиях спада низкие цены на акции разрушают этот стимул, вызывая замедление роста экономики.
Гринспен уделял финансам внимания больше, чем почти все его современники. Артур Бернс и другие эксперты в области бизнес-циклов рассматривали фондовый рынок как хороший предсказатель ситуации в экономике; в своей статье Гринспен констатировал, что цены на акции «являются не прогнозом, а скорее определяющим фактором экономической активности»22. Профессионалы от экономики начали понимать, что деньги, а не государственные расходы или производственные узкие места, способны послужить причиной инфляции; теперь Гринспен добавил, что и финансовые рынки могут являться причиной бумов и спадов23. Гринспен отправил копии своей статьи ряду видных экономистов, и сам Милтон Фридман был впечатлен ею в достаточной степени, чтобы написать автору благодарное письмо, хотя пока еще не знал его лично24. Годы спустя Гринспен показал свои работы Лоуренсу Саммерсу из Гарварда, в то время, когда тот служил заместителем министра финансов. «Вы правы», – написал Саммерс в ответ. Подразумевая шведский комитет Нобелевской премии, он продолжил: «Я думаю, что люди в Стокгольме должны перераспределить в вашу пользу половину суммы от премии Тобина»25.
Гринспен установил взаимосвязи между ценами на активы и инвестициями и аналогичными интересами потребителей. Растущий фондовый рынок вызывает более высокие капитальные затраты, и это приводит к дополнительным расходам со стороны семей. Увидев, что их фондовые портфели подорожали, обеспеченные американцы потратят часть неожиданных доходов на разовые покупки: автомобиль, поездку в отпуск. Если рост портфеля сохранится, потребители будут полагаться на эту тенденцию в качестве постоянного источника дополнительного дохода; они позволят своим обычным расходам соразмерно увеличиваться. Хотя он не использовал этот термин, Гринспен описывал «эффект богатства», который впоследствии будет хорошо известен. И так он опять опередил почти всех своих современников26. Объяснив влияние цен на акции на инвестиции и потребление, Гринспен преподнес политический урок, который предусматривал обязательное усвоение особенно в свете его пребывания в ФРС. Он настаивал на том, что центральные банки не должны игнорировать цены на активы. Поскольку рост цен на акции вызывает всплеск инвестиций и потребления, объяснил Гринспен, возможны два выхода. Если бум фондового рынка будет неконтролируемо продолжаться, рост расходов вскоре начнет превышать способность экономики поставлять товары; узкие места приведут к инфляции. В качестве альтернативы, если бум фондового рынка внезапно прекратится, предприниматели, которые с нетерпением ожидают строительства новых фабрик, заморозят свои проекты; домашние хозяйства с фондовыми портфелями сократят расходы; и экономика провалится в рецессию. «Чем выше пик, достигаемый фондовым рынком, тем большее снижение необходимо для возвращения к “норме” и тем глубже падение экономической активности», – заметил Гринспен. Если бы центральные банкиры стремились сгладить пики и провалы, они должны были бы контролировать «пузыри» активов.
Гринспен вынес этот урок из истории. В 1920-х годах фондовый рынок ставил один рекорд за другим, но ФРС отказалась сдуть «пузырь», подняв процентные ставки. Вместо этого она присоединилась к комментаторам, которые оправдывали существование «пузыря», утверждая, что отказ от жесткого довоенного (времен Первой мировой войны) золотого стандарта послужил Соединенным Штатам прививкой от циклов спада и бума, тем самым нейтрализуя один из основных рисков для инвесторов и оправдывая огромную переоценку фондового рынка27. Как выразился Гринспен:
Широко распространенное в то время убеждение, что экономический цикл в конечном итоге контролировался институтом управляемой валюты, привело к резкому падению премий за риск, предположительно до иррациональных уровней…Резкие восходящие колебания цен на акции – и других капитальных ценностей – сделали последующий откат фондового рынка неизбежным.
Сторонники «Нового курса» и кейнсианцы выдвинули одно и то же объяснение Депрессии: по мере замедления экономики потребители и бизнес сократили расходы, усугубив замедление и вызвав порочную спираль. Если бы это было верным, лекарством от такой болезни послужили бы дополнительные государственные расходы, компенсирующие недостаточные частные расходы, а также разговоры, поддерживающие бодрость духа ради обеспечения доверия частного сектора: «Нам нечего бояться, кроме самого страха», – сказал Франклин Рузвельт нации. Но Гринспен продвигал альтернативную теорию:
[После катастрофы 1929 года] в результате краха стоимости капитала его огромные доли были изъяты из эффективного спроса. Люди не просто утратили уверенность – они действительно стали значительно беднее. Их расходы сократились не столько из-за страха, сколько из-за материального спроса28.
Спустя полвека после того, как Гринспен написал эти параграфы, в мире произошло очередное сильное падение фондового рынка, и экономисты с глубоким знанием дела объявили о «спадах баланса» – тех, что следуют за разрушением богатства, а не просто падением расходов. Эти заявления часто сопровождались обвинениями в адрес ФРС Гринспена: если бы только Гринспен разбирался в балансовых отчетах и том, насколько болезненными они могут быть, он, несомненно, действовал бы более решительно, когда надувался «пузырь» 2000-х годов. Но как показывает статья Гринспена 1959 года, истина состояла в том, что он думал о спадах баланса в течение десятилетий – фактически, он знал о них дольше, чем прожили на свете многие из его критиков. Тот факт, что он тем не менее позволил «пузырям» раздуваться у него на глазах, требует объяснения более основательного, чем его предполагаемая некомпетентность.
Критика Гринспеном действий ФРС в 1920-х годах включала еще один аргумент. Ошибка ФРС в 1920-х годах была не только в том, чтобы рационализировать «пузырь» на фондовом рынке, поддержав разговоры о новой эре стабильности сродни «Великой умеренности», которую экономисты ошибочно отпраздновали в 1990-х и 2000-х годах. Скорее, ключевой просчет ФРС заключался в недооценке собственного вклада в возникновение «пузыря» акций. Рост рынка привел к росту инвестиций и потребительских расходов, что, в свою очередь, увеличило прибыль и вызвало оживление и дальнейшее увеличение фондового рынка. Федеральная резервная система 1920-х годов была инициатором этого цикла обратной связи – для того чтобы инвестиции и потребительские расходы взлетели, компаниям и потребителям нужен доступ к кредитам. Столкнувшись с ростом аппетита к займам, ФРС решила «удовлетворить законные требования бизнеса», как выразился Гринспен. Без сомнения, это казалось безопасным: возникающий в результате рост кредитования вел к компаниям и домашним хозяйствам, а не напрямую к рынкам активов. Но движение денег, однажды созданных, непросто проследить. Как самонаводящиеся ракеты, новоиспеченные доллары нашли свою дорогу к ценным бумагам, пользующимся большим спросом, независимо от того, куда они были вложены изначально.
В 1959 году, следуя этой логике, Гринспен занял радикальную позицию: США должны вернуться к золотому стандарту XIX века. Он утверждал, что, связывая деньги и кредит с фиксированным запасом золота, нация сможет предотвратить токсичные всплески покупательной способности. Если рост фондового рынка побудит предпринимателей инвестировать больше, их растущий спрос на кредиты будет соответствовать фиксированному предложению доступных средств, в результате чего процентные ставки возрастут, ослабляя фондовый рынок, прежде чем он породит «пузырь». Благодаря корректирующей дисциплине золота экономика стабилизируется. «Золотой стандарт до Второй мировой войны помешал спекулятивному бегству от реальности с его катастрофическими последствиями», – настаивал Гринспен29.
Всю оставшуюся часть своей карьеры он никогда полностью не отказывался от своей веры в то, что золото представляет собой идеальный денежный якорь30. Гринспен стал управляющим самыми выдающимися бумажными деньгами в мире, но продолжал утверждать, что ФРС следует вести себя так, «как если бы существовал золотой стандарт». В его статье 1959 года говорится, что́ это должно было повлечь за собой. Вместо того чтобы позволить денежной массе расширяться с целью «удовлетворять законные требования бизнеса», как это с катастрофическими последствиями случилось в преддверии кризиса 1929 года, ФРС требовалось отреагировать на опасность, создаваемую «спекулятивным бегством от реальности». Иными словами, она должна была ответить на растущий «пузырь» акций путем повышения процентных ставок.
Интерес Гринспена к финансам нельзя назвать чисто абстрактным. Он также пробовал свои силы в биржевой торговле. Гринспен был очарован возможностями биржевых дельцов со времен его джазовых дней, когда он читал «Воспоминания оператора фондового рынка» (Reminiscences of a Stock Market Operator); а несколько лет спустя его отец безуспешно пытался продать ему идею использования карт для прогнозирования будущего рынков. Но примерно в то время, когда он занимался бизнесом с Уильямом Таунсендом, Гринспен вернулся к идеям своего отца, хотя дверь Алана по-прежнему оставалась закрытой для сотрудничества с Гринспеном-старшим. Вооружившись карандашом и бумагой, Гринспен прослеживал динамику финансовых рынков в поисках особенностей, дающих выгодные подсказки о будущем31.
Однажды, глядя на форму графика динамики цен на фьючерсы на пшеницу, Гринспен отчетливо увидел лестницу. Цена на пшеницу повысится, а затем снизится на половину своего роста, а потом снова будет вести себя подобным образом. «Это легко!» – обрадовался молодой провидец. Сразу после того, как цена на пшеницу завершила одно из своих падений, Гринспен купил контракты на тысячу бушелей. Фьючерсы подскочили, и он получил прибыль. Гринспен вскоре разработал варианты этой стратегии. Он заметил асимметрию цен на сырьевые товары – их падение ограничено, поскольку цены не могут опускаться ниже нуля; но потенциал роста неограничен. Из этого следовало, что если вы дождались низких цен (обычно означающих большой урожай, который вызвал временное перенасыщение), то могли покупать пшеницу, или кукурузу, или соевые бобы, не беспокоясь о своих перспективах. При минимальной цене покупки потенциальные потери были бы тоже минимальны; но в случае забастовки на транспорте или стихийном бедствии выигрыш мог оказаться значительным. Гринспен накапливал позиции по нескольким обесценившимся товарам, а затем выжидал необходимое время. Цены в убыточных сделках снижались на пару процентов. Стоимость фьючерсов в прибыльных сделках взлетала, как ракета32.
В 1959 году, когда Гринспен опубликовал новаторскую статью о финансах, он вывел свою торговлю на новый уровень, преобразовав знания о рынках стали и алюминия в систему, которая отслеживала запасы разных видов металлопродукции; если, например, запасы товаров, содержащих медь, были аномально низкими, это свидетельствовало о том, что производство будет наращиваться и рост закупок меди приведет к повышению цен на нее. Индикатор запасов Гринспена приносил внушительную прибыль от торговых операций, поэтому он купил место на бирже Comex, подсчитав, что выиграет еще больше, если перестанет платить комиссионные брокерам и станет торговать напрямую. Comex был удобно расположен через дорогу от офиса Townsend-Greenspan на Бродвее, 39, и Гринспен проводил 10–15 минут на утреннем открытии, затем снова возвращался в обед и еще раз заходил перед закрытием торговой сессии; он стремился уловить наиболее активные периоды на рынке, не тратя на это более 45 минут времени от своего консалтингового бизнеса. Но после нескольких месяцев работы в условиях многозадачности Гринспену пришлось смириться с неприятным сюрпризом. Избавление от комиссионных расходов при торговле напрямую не помогло. Необразованные торговцы в яме металлов нарезали круги вокруг него33.
Однако этот опыт повлиял на понимание Гринспеном финансов. Наблюдая за безумными торговцами на бирже Comex, он узнал, что цены небезупречно отражают экономические основы. Они – по крайней мере, в краткосрочной перспективе – регулировались криками, сигналами рук и животными инстинктами34. Брокеры, которые процветали в этой среде, часто ничего не знали о металлах, которыми они торговали, или о новостях, способных привести к росту цен. Но каким-то образом они могли предчувствовать повороты рынка, покупая в начале подъема и продавая прежде, чем рынок снова начинал падать.
В моменты замедления активности в торговой яме Гринспен иногда спрашивал у соседа, как тот узнавал, когда покупать.
«Я почувствовал, что рынок опускается», – хрипло ответил торговец, оставив Гринспена теряться в догадках.
«Что ты сделал?» – думал Гринспен про себя. «Почувствовал рынок? Что почувствовал – стену? Как понимать данное утверждение?»
Смысл этого утверждения постепенно прояснялся, по мере того как Гринспен проводил время на торговой площадке. Его соперники могли не разбираться в товарах, но они знали два важных термина: овербот и оверсолд. Если крупные торговцы в яме совершали покупки, рано или поздно они скупили бы всё, что могли себе позволить; в отсутствие новых покупателей рынку оставалось только падать. Точно так же, если крупные игроки будут сбрасывать контракты, наступит время, когда они остановятся; без давления на цены следующий шаг будет подъемом вверх. А если яма была разделена между крупными продавцами и крупными покупателями, тогда начиналась психология. Вам требовалось умение читать язык жестов противников: на какой стороне находилось больше капитала; кто не боялся рискнуть и сделать самую большую ставку? Жадность, страх и человеческое эго превосходили скучные инвентаризационные подробности. Рынки не были полностью рациональными. Они были просто слишком человеческими35.
Кое-что из этого понимания нашло свое отражение в длинной статье, которую Гринспен представил Американской статистической ассоциации в конце 1959 года. Текст был переполнен сленгом торговцев – лонгами и шортами, «быками» и «медведями», оверботами и оверсолдами, – словами, которые не встречались в других научных статьях того периода36. И хотя бо́льшая часть аргументации сосредотачивалась на последствиях «пузырей», Гринспен также хотел подчеркнуть некоторые нюансы, связанные с причинами их возникновения. Инвесторы в основном были рациональны – они реагировали на реальные события с реальными бизнес-последствиями, шла ли речь о технологических прорывах в промышленных лабораториях или о политических предложениях, исходящих из Конгресса. Но инвесторы пропускали эти новости через собственные настроения и эмоции; их скользкие и хрупкие суждения нельзя было назвать эффективными. Предвосхищая открытия поведенческой экономики в 1970-х и 1980-х годах, Гринспен отметил, что крен в сторону страха обычно был более внезапным и драматичным, чем крен в сторону уверенности. Рынки могли мгновенно потерпеть крах, вызванный скромным сдвигом в фундаментальных показателях. Напротив, «пузыри» росли всегда постепенно37.
Если рынки способны быть иррациональными, то откуда наблюдатель мог знать, когда они изменятся? Годы спустя, будучи председателем ФРС, Гринспен предполагал, что иногда «пузыри» невозможно обнаружить, но в 1959 году он считал иначе. В рыночной экономике, – уверенно объяснил он, – будущее по определению непознаваемо. Новые управленческие трюки и технологические достижения наверняка спутают прогнозы предсказателей; война или стихийное бедствие могут грянуть как гром среди ясного неба; неожиданности надо ожидать. Поскольку будущее строго неопределенно, инвесторы, снизившие премии за риск до минимума, явно не прислушивались к своим чувствам. «Когда принимаются обязательства, основанные на предположении о сохранении определенной стабильной себестоимости в течение следующих 20 лет, это явно является иррациональным оптимизмом», – заявил Гринспен. В такие моменты уверенности инвесторы забывали пределы «того, что можно узнать о будущих экономических отношениях»38. Рано или поздно их высокомерие будет наказано.