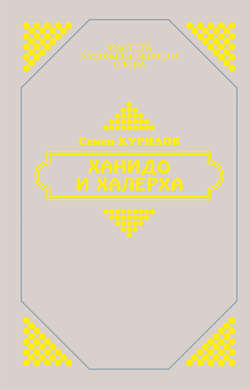Читать книгу Ханидо и Халерха - Семен Курилов - Страница 6
Книга первая
ЛЮДИ «СРЕДНЕГО МИРА»
ГЛАВА 5
ОглавлениеКуриль и Мамахан зимовали вместе. Куриль в этот раз не перекочевывал в свою Дулбу – остался в Булгуняхе, на небольшой летней заимке. Места здесь ничем не примечательны – кругом холмы с жидким лесом, а между холмами впадины – днища давно пересохших озер. Но вот эти – то впадины и привлекали сюда многих богачей со своими стадами: кормов для лошадей и оленей здесь куда больше, чем по другим местам. Почитай, все богачи окрестных тундр знали эти ложбины – и чукчи Кака, Чайгуургин, Мельгайвач, и юкагиры Курили – Афанасий и Петр, и якуты Мамахан и Похон, и с Нижней Колымы Потонча, Бережновы, Соловьевы, Шкулевы…
Афанасий Куриль считал, что пасти стадо зимой в Дулбе выгоднее, однако не поехал туда. И для этого были причины. Несколько лет назад в Дулбу приезжал поп; божий человек окрестил некрещеных, накормил их божьей едой, а Курилю, между прочим, сказал, что ему стоило бы отдать одного хорошего парня на обучение, чтобы парень стал тоже попом. Жил бы поп – юкагир в Дулбе или же Булгуняхе сказал он, детей бы крестил, был бы посредником между людьми тундры и богом, призывал бы всех к добрым делам и смирению… Этот совет Курилю очень понравился. Однако он сразу подумал о больших трудностях, без которых ничего не удастся сделать. Парень начнет учиться, а тем временем надо церковь строить. Поставить же церковь одному не под силу, значит, нужно искать компаньона. Хорошо сговориться бы с Петрдэ, но Петрдэ неразворотливый и мелочный… Стало быть, надо искать других. А скажи об этом Каке или даже Мамахану – Другу, сразу начнется спор: почему в этой церкви будет петь и крестить юкагир, а не чукча и не якут.
Как бы то ни было, а пришлось открыть свои мысли. И выбор Куриля пал на Мамахана. Купец и богач Мамахан Тарабукин сразу смекнул: дело и нужное, и выгодное.
Разговор о постройке церкви произошел после большого камлания. И Мамахан не дал Курилю поговорить: попом будет якут. Но ведь не ему же первому русский священник сказал обо всем этом – так почему же якут? Поспорили, но ни на чем не сошлись, а строить церковь все же решили твердо. Потом они ездили в Средне – Колымск, в Верхний и даже Нижний остроги. Божьи дома были огромные – глянешь на крест, малахай потеряешь. А строить поменьше, видно, нельзя. Спросили, сколько надо песцовых шкур, чтобы такой же дом поставить в тундре. Городские сказали: двести мало, надо четыреста. А исправник даже с мягкой красивой скамейки вскочил: «Что? Четыреста? Да если в шестьсот обойдется – это вам бог просто уважение сделает…» Вернулись домой невеселыми. Собрать столько пушнины с людей, да ничего за это не дать – попробуй, помотайся по стойбищам. Бедно люди живут, у многих ровдуги дырявые, в день всего по две трубки выкуривают…
Но и Куриль, и Мамахан понимали, что строить церковь все равно надо. Светлая вера не только очистит людей от грехов, но и сделает их послушными, а кроме того, она отнимет власть у шаманов и разорит шаманов – жуликов, которых развелось больше чем надо. Но главное – построить церковь на свои деньги и попа посадить в нее местного, своего. Если же за все это возьмется губернатор или исправник, то попом станет русский или нездешний якут, которые будут на город оглядываться, и тогда туго придется неграмотным богачам, не говоря уже о мелких купцах.
Время шло, а Куриль с Мамаханом никак не могли собраться и обо всем подумать по – настоящему. И вот наконец решили: пусть эта зима станет началом. А раз церковь выгодней строить здесь, в Булгуняхе, то и решать все лучше на месте.
За ползимы много горькой воды выпили два богача друга, много чохона[53] поели. Но не без пользы для дела. Условились твердо: Куриль возьмется за сбор пушнины, а потом, когда Мамахан продаст ее в городе и купит все нужное для постройки, он привезет материалы на место по якутско – колымскому тракту. У Мамахана были большие связи с якутскими, индигирскими, иркутскими купцами и даже с ветвью какого – то купца из Москвы, а Курилю было все же сподручней иметь дело с простым народом: немало людей он выручил в трудное время, хапугой его не считали.
Все хорошо и складно решили они, но тут до Булгуняха долетели страшные и непонятные вести, из – за которых пропала охота пить горькую воду. Шаман Сайрэ будто бы внушил Мельгайвачу сделать надрез на животе, чтобы при грехомытии обрести власть над духами, а тот перестарался – не то задел кишки, не то смешал кровь с шерстью, стал опухать и чуть не умер. Голова же чукчей шаман Кака, говорят, спас его и получил за это подарок – половину всего огромного стада. Такие серьезные слухи быстро опровергаются или подтверждаются. Эти подтверждались надежным нарочным, посланным в Халарчу.
Призадумались Мамахан и Куриль. Пока они годами собираются отколоть людей от шаманов, шаманы действуют, да еще так, будто они вот – вот возьмут всю целиком власть над тундрой. Это не просто новая свара, на которую можно плюнуть: один богач совершил глупость, а другой нагло ограбил его. Люди знают, что богачи вовсе не глупые и что добро им достается не даром. И только совсем непонятная сила может заставить их резать себя, отдавать за камлание половину богатства. Как же им – то, простым, совсем темным, малоимущим людям, не бояться этой силы, не почитать ее и не подчиняться ей…
Несколько дней Куриль и Мамахан не встречались. Каждый заново обдумывал затею с попом и церковью, каждый прикидывал, побьет ли светлая вера черную веру. Купец Мамахан, знавший, что на строительстве он кое – что заработает, рассудил в конце – концов просто: церковь будет готова года через три или четыре, а к тому времени история с Мельгайвачом заглохнет и опасаться, стало быть, нечего. Куриль пришел к такому же заключению, однако он был головой юкагиров и вовсе не хотел, чтобы эти три – четыре года с ним считались меньше, чем с шаманом Сайрэ. А еще он сильно переживал неудачу во время большого камлания, когда шаманы не посчитались с ним, не пошли на сделку ради добра, из – за чего все теперь обернулось вот так нехорошо для него, для юкагиров и чукчей. И он решил тоже действовать.
Зайдя к Мамахану и отказавшись выпить горькой воды, Куриль сразу заговорил:
– А ты, догор, знаешь, почему мы слабы? Потому, что у нас нет ни шестисот шкурок, ни денег. А если было бы это, то как раз бы время сейчас завозить лес, говорить о светлой вере и божьем доме, о своем попе и еще о том, что шаманы – черти…
– Ты, Куриль, накинул аркан на собственную руку, – сказал Мамахан. – Ты все эти дни прицеливался?
– Нет. Я приглядывался к ветвистым рогам шаманов – чертей… Я в конце зимы проведу большое оленегонное состязание. Поставлю на первый приз половину своего табуна, другие богачи поставят по стольку же, и я выиграю этот приз. Выиграю – или отдам печать кому угодно.
– А я продам этих оленей, куплю бревна, ты привезешь их – и в Булгуняхе или на берегу Большого Улуро застучат топоры, – договорил Мамахан.
– Это не главное. Главное, я скажу всем людям, что отдаю выигрыш светлой вере.
– Хорошо. Но кроме этого, ты еще соберешь шкурки – и божий дом будет готов? А как же я? Может, ты без меня справишься?
– Глупому все это я рассказал бы не так…
– Догор Куриль! До чего же у тебя умная голова! – Мамахан даже вскочил на ноги. – Я, значит, тоже должен провести состязание? Конное? Я на первый приз ставлю двадцать! Хватит! А выиграю сорок или больше… – И он добавил вкрадчиво, с расстановкой: – Сегодня мы пьем водку…
И покатилась вторая половина зимы под уклон, на ровное поле гонок.
Не мешкая, Афанасий Куриль отправил посыльных к богачам индигирской и восточной тундры. Мамахан послал вестовых во все якутские заимки. А как только дни начали удлиняться, Куриль покинул свой Булгунях, перекочевал к Большому Улуро и на едоме Артамона поставил огромный тордох.
Жаркими, хлопотливыми были эти дни у богатых друзей, решивших бросить вызов шаманству.
Куриль первым делом подобрал гонщика. За три луны до состязаний он пришел в тордох Пурамы и спросил:
– Пурама не забыл, кто он такой?
– Я? Твой шурин и первый охотник, у которого в мешках вместо шкурок гуляет ветер.
– Шкурки надо менять на порох и железные капканы. А Пурама рыбу и мясо отдает шаманам, а потом шкурки на еду меняет.
– Я не пойму, зачем ты ко мне пришел и что хочешь сказать.
– Пурама не забыл, что его близкий родственник два раза подряд выигрывал на состязаниях? Хороший гонщик – вот кто такой Пурама!
– Теперь понимаю. Я, значит, должен выиграть тебе еще одно стадо и тоже умереть? Смотри, Куриль… Мельгайвач жирел, жирел – и лопнул. Кака ограбил его – и тоже лопнет. Всем богатством тундры одному человеку завладеть нельзя – бог не разрешит.
– Пурама прав. Я назначил большое состязание. Но гонки проведу по старому правилу: приз выигрывает хозяин оленей, а не гонщик. И ему незачем будет умирать… А за меня переживать нечего: если лопну, то не сейчас. Сядем, шурин, поговорим спокойно.
В тордохе было тепло. Пурама отличался огромным трудолюбием, без дела не мог сидеть, а лазить с иводером[54] по снегу мог сколько угодно. Но хоть и любил Пурама жить в тепле, был он, однако, настоящим сыном тундры. Худой, с сухим обветренным лицом, он казался человеком, которого не может взять никакой мороз. Да в тундре все зависит от подвижности и трудолюбия – ленивых она жестоко наказывает. А Пурама побывал в таких переделках, что иной и не выдержал бы. К тому же характер у него был вспыльчивый, и жил он в постоянном напряжении, словно дикий зверек. Куриль, знавший его гордый и независимый нрав, редко бывал у него и мало ему помогал. Но сейчас он пришел – ему нужен был человек – пружина, человек – стрела.
– Я скажу кое – что важное, и Пурама сам поймет, почему об этом пока не надо рассказывать никому… Я и купец Мамахан решили поставить в тундре большой божий дом… – Куриль замолчал в надежде узнать, как воспримет главную новость простой человек.
И то, что последовало за этим, обрадовало его. И без того узкое лицо Пурамы стало вытягиваться – рот его открылся от удивления, а быстрые маленькие глаза будто ушли куда – то назад, чтобы издали разглядеть человека, знакомого и вроде бы незнакомого.
– Мы поставим божий дом, – продолжал Куриль, – а божьим человеком, попом, станет не приезжий, а свой юкагир. Мы его пошлем в острог на обучение. Но божий дом будет для всех, и строить его должны все. Я приду к Пураме первому и попрошу хотя бы одну песцовую шкурку.
– Я дам две! Нет, я дам три! – выпалил Пурама.
– Две хорошо, три не надо – пусть другие тоже дадут… А я и Мамахан богаче вас всех, и потому мы должны больше внести. Мы внесем, но мы хотим еще больше внести – чтобы дело шло скорей и надежней.
– Я понял тебя, Апанаа, кажется, хорошо понял, – сказал Пурама. – Призы отдадите? И их надо взять? – Но тут лицо охотника неожиданно переменилось, стало обыкновенным, злым и недоверчивым. – Я понял тебя, – повторил он, но уже иным, недобрым голосом. – Я дам песцов, я погоню оленей. Однако с условием: перед самой гонкой ты скажешь людям, что весь выигранный табун отдашь божьим работникам, которые сделают божий дом. Согласен? – Пурама привычно искоса посмотрел прямо в глаза Курилю, будто прицелившись в него из ружья. – Не сердись, Апанаа: дело такое – сразу не сообразишь. Тебе я верю. Ты добрее других богачей. Но все вы обдумывали с Мамаханом? А вдруг Мамахан не выиграет приз и ничего не даст? И тогда тебе одному отдавать будет обидно…
– Он меня с наглым Какой равняет! – вспыхнул Куриль, забыв, что стоит ему согласиться с условием, как зятю крыть будет нечем.
– Почему ж я равняю? – спокойно сказал Пурама. – Приз будет честно выигран… Да кто же поверит тебе, – сорвался он с мягкого тона, – что в тундре богачи захотели поставить божий дом, как в остроге? Да еще захотели попом посадить юкагира, чтобы он с самим богом и царем разговаривал! Нет, не поеду я.
– Ну и ладно. К чертям! – встал Куриль и нахлобучил шапку. – Найду другого. Я сам хотел сказать, что оповещу народ: приз – для божьего дома. Найду гонщика. А Пурама пусть идет и прислуживает Сайрэ. Может, шаман посоветует охотнику из ружья себе в живот выстрелить. Погляжу я, как зятю совестно перед богом будет, когда железный крест к облакам на ремнях потянут…
Он зло расшвырял обтрепанные полы ровдуги и, конечно, ушел бы, если б слова его не убили наповал все неверие и подозрительность Пурамы.
Охотник вскочил и с ловкостью затравленного песца втиснулся в дверь между жердью и напрасно обиженным гостем.
– Апанаа, постой, – залепетал он, – зачем же ты так. Ну какой ум у меня? Что я видел и что понимаю? Выкинь из сердца мою обиду – мне твою выкинуть будет трудней…
И Пурама взялся исполнять такое неожиданное, такое важное и страшноватое поручение зятя.
Тайна, которой была покрыта его подготовка, напрягала и ум, и силы его до предела. Он сам отобрал оленей, переглядев всех потомков тех самых оленей, которые принесли Курилю богатство. Первый раз он выехал в тундру после полуночи, когда меньше всего бывает опасность встретить каюра или посыльного – сплетника. Уже на другой день после пробной объездки Пурама пришел к Курилю и сказал, что нарта не годится для состязаний – она тяжела и груба. Куриль велел пока ездить на этой: пусть олени привыкнут к тяжелой, и тогда легкую они понесут как на крыльях.
Катаясь на нарте, Пурама часто крестился, а еще чаще разговаривал с богом. Нет, он не просил его помочь выиграть приз, который оказался очень большим. Он просил его сделать сердца Куриля и Мамахана твердыми, чтобы из них не ушла добрая воля и чтобы в них не проникла ни обида, ни зависть.
Новую нарту взялся выстругивать лучший мастер Нявал. С Нявалом разговор был короткий: зима перевалила за середину, и его семья, как всегда, нуждалась в еде, чае и табаке. Ну, а насчет тайны договариваться не пришлось – Нявал по необходимости – то не умел толком сказать двух слов. Нарта у него получилась сказочной – он сам съездил к купцу Мамахану, и вместе с ним они выбрали самые стройные, без сучка и извилины, молодые березки, а тесал, гнул, сушил и подгонял он каждую рею с великим терпением. Готовую нарту можно было поднять рукой и повертеть ее в воздухе.
А Пурама продолжал гонять по тундре оленей. Он гонял их и днем, и ночью, не щадя ни их, ни себя. И за три луны олени сбросили жир, исхудали, но зато и окрепли.
Первым из богачей, приехавших на берег Большого Улуро, был Тинелькут – владелец огромного стада в восточной тундре. Тинелькут потребовал, чтобы в призовом табуне Куриля были ламутские важенки и быки: он надеялся на выигрыш, который позволил бы ему распространить кровь ламутских, самых лучших оленей на восточную тундру, то есть на свое стадо, состоявшее из каргинов. Куриль согласился.
Вторым, из Халарчи, пожаловал голова чукчей Кака. Встретив его, Куриль тотчас подумал: «Ага, богатеет без меры и уже зарывается. Проиграет, нет – лопнет», – вспоминал он предречение Пурамы. Но оказалось, что Кака не будет играть: он лишь привез послание от Мельгайвача, который почему – то решил поставить на приз последнюю половину своего стада. «Нет, тут все правильно, – сообразил Куриль. – Кака его в это втравил. Хочет смягчить свою вину перед ним и сам будет готовить гонщика. Да! Гонщик – то у них – Кымыыргин. Это же черт, а не гонщик… Ладно… Ну, а если Мельгайвач проиграет, то что ж: разориться на гонках – это почет и слава, не то что разориться из – за неспособности управлять богатством…»
Условились так: на три якутских шагания, от едомы Артамона до берега Малого Улуро и обратно. Все три стада соединяются в один приз, и его целиком получает хозяин.
Второй приз – десять оленей, третий – пять. В гонках будут участвовать все желающие. На том и разъехались.
Прошло еще две луны. Дохнуло сырым ветром и запахами земли. Высокие едомы сняли белые шапки, обнажив глиняные залысины. Солнце начало высоко подниматься над горизонтом. Совы стали прятаться в тень, а песцы веселиться, играть, радуясь свету.
В один из таких солнечных дней Куриль приказал разделить свое стадо надвое. Пастухам он велел проследить, чтобы ламутская важенка была в паре с ламутским быком. Куриль все делал честно, боясь прогневить светловолосого бога, которого видел нарисованным на доске с золотыми краями: бог заметит обман и тогда найдет других людей, которым позволит поставить церковь в тундре… Через несколько дней пастухи пригнали табун Мельгайвача и соединили его с табуном Куриля. Еще через несколько дней показалось третье стадо, которое гнал вместе с пастухами сам Тинелькут.
К едоме Артамона длинными вереницами потянулись караваны богачей и купцов. Сразу начали ставить яранги и тордохи, растапливать очаги, готовить еду, приглашать гостей и ходить в гости. Ожил, зашумел берег озера, еще недавно слышавший грохот трещавшего от мороза льда, свист пурги и вой волков.
Приехал самый богатый человек тундры старик Тинальгин. Ему уже некуда было богатеть, но ему хотелось посмотреть, как играют в удачу и неудачу другие властители Севера. Позже всех прибыл худой и бледный Мельгайвач – его везли не спеша, чтобы не потревожить едва зажившую рану. Встретил его один Кака да еще гонщик оленей Кымыыргин. Только они ушли, оставив приехавшего на нарте, как из маленького тордоха выскочил кривоногий старичок Сайрэ. Шаман быстро, хлопотливо заковылял прямо к Мель – гайвачу.
– Мэй, мэй…. – скрестил он по – женски на груди руки. – Как же так угораздило – то тебя? Почему же не дождался весны, как я говорил?
– Оставь в покое меня, – попросил, отворачиваясь, Мельгайвач.
И Сайрэ повернул назад, продолжая сокрушенно ахать и приговаривать.
Ни шумные встречи, ни пересуды мужчин, ни пьянки богачей, ни ребячьи игры – ничто не интересовало гонщиков. Все светлое время они проводили со своими оленями, то и дело выезжая на ровное место, чтобы опробовать снег, оглядеться, приноровиться друг к другу. Каждый день они совершали пробные гонки, выстраиваясь в ряд и стремительно исчезая в клубах снежной пыли. Их было более двадцати, но жарче всего люди судачили о главных соперниках. Заранее предугадывали неудачу гонщика Тинелькута, его младшего сына Нутувги. Да он и сам не был таким уверенным, как отец, – его низкорослые каргины не могли равняться с ламутскими беговыми оленями. Но было три – четыре гонщика, заставлявших людей чесать затылки и горячиться. Особенно привлекал к себе внимание индигирский гонщик Едукин: его олени были чистой ламутской породы – рослые, широкогрудые, со стройными сильными ногами и острыми копытами – во время езды этих копыт нельзя было видеть, и казалось, что олени летят по воздуху. Но олени оленями, а вот чукча, гонщик Мельгайвача Кымыыргин, уже во время пробных заездов вытворял настоящие чудеса. Приземистый, веселый, взявший немало призов на гонках, он без конца вырывался вперед, вырывался так далеко, что останавливался, поджидая, будто дразня других, и снова летел вперед. Вот эти – то двое – Едукин и Кымыыргин – создавали горячку: все знали, что гонки назначил Куриль, а его ездок Пурама казался угнетенным, каким – то слишком задумчивым. После пробных гонок он быстро скрывался в своем тордохе, будто злясь на ламута и чукчу. Поговаривали даже, что он не очень здоров.
А Пурама между тем действительно был угнетен. С каждым днем он все яснее чувствовал, что состязания пройдут точно так, как обычные состязания. Богачи пьют горькую воду, пьют и Куриль с Мамаханом. И совсем никто не говорит о самом главном – о том, зачем юкагирский голова, человек суровый и умный, вдруг затеял такую большую игру. Хуже того, Пурама предвидел, что если Куриль и скажет в последний день, как он поступит с выигрышем, то это ничего не изменит: одни примут слова за шутку и посмеются, другие – хозяева приза, почуяв недоброе, подстегнут и без того опасных для Пурамы гонщиков. А он ожидал иного. Он ожидал, что все люди будут серьезными, что многие станут молиться за него и желать удачи ему, что гонщики или рассвирепеют и дадут понять Курилю, что игра есть игра, или наоборот, охладят пыл – как – никак, а богу уступить надо. Если б все это случилось так, то Пурама выжал бы из себя все силы. А сейчас что ж получается? Все думают лишь о том, вернется ли к Мельгайвачу богатство или он станет простым безоленным чукчей, повезет ли Курилю, разбогатевшему на чужих гонках… Пураме уже давно было небезразлично – шепотом Куриль скажет о своих намерениях или громко в кругу богачей. Сейчас выходило так, что можно совсем не говорить ни о чем: игра и впрямь есть игра. «Все они, богачи, такие, – махал он в своем тордохе рукой. – Мутят, мутят воду, других заставляют мутить, а вытащат рыбу и на свою жердь повесят…»
Вот только еще не решил Пурама, отказаться ли ему от гонок, если Куриль промолчит, или поехать. Не поехать – скажут, что струсил.
День гонок выдался солнечным, тихим. На том месте, откуда умчатся упряжки в путь, уже стояла высокая жердь с веревкой, привязанной за конец, – свалят жердь, гонщики дернут вожжи; здесь же лежали три кучи дров – это зажгут костры: три приза. Уже воткнули в снег и три кольца, согнутых из тальковых прутьев, – победитель должен зацепить ногою одно из них.
Пурама запрягал оленей трясущимися руками. Он медлил и все поглядывал в ту сторону, где торчала жердь. Народу там еще не было – люди толпились вокруг гонщиков, которые собирались к выезду у своих тордохов или яранг. Вон пляшет с бубном в руках сам Тинелькут. Он шаманит. И Кака шаманит, но его за ярангой не видно, слышен лишь звон бубна. Все это странно – перед состязаниями так редко кто делает, а тут сразу двое… «Пусть шаманят», – неопределенно подумал Пурама и опять начал смотреть на жердь, возле которой уже появились ребята.
– Гляди, Пурама, – раздался голос Нявала, проверявшего свою новую, но уже обкатанную нарту. – Сайрэ наш… это… туда… вроде с бубном пошел…
– Куда? Смотри: правда, идет… К гонщику Мельгайвача, к Каке…
– Гы, чего это он?
– Н-не знаю… – рывком затянул Пурама узел постромки. – Ну – ка, дай и я отойду.
Он сделал несколько шагов, чтобы лучше увидеть то, что происходит за ярангой, но махнул рукой и вернулся.
– А, все понятно, – сказал безразлично он. – Виноват перед Мельгайвачом – вот и пошел шаманить ему. Пнул ногой, а теперь хочет погладить.
Нявал, сидя на нарте, вынул изо рта трубку и постучал ею о полоз.
– Чего это ты… значит… вроде как это – злой на Сайрэ, – спросил он, спотыкаясь на каждом слове.
– Злой… – спокойно повторил Пурама. – Когда детей он спасал – больше, чем я, кто ему помогал? А только ум сам по – разному поворачивается. Если сказали, что Мельгайвач не виноват, а виноваты духи, так духов и надо уничтожать. А зачем же его самого – то резать?
На нарте, рядом с Нявалом, сидел еще и Хурул – лучший бегун стойбища. Хурул обычно был разговорчивым, а то и вспыльчивым. Но сейчас он сидел и молчал, разглядывая следы копыт на снегу. Это его молчание Пурама хорошо понимал: бегун, знающий толк в состязаниях, наверно, не ждал удачи. Но все же он заговорил:
– А как, по – твоему, Пурама, – подойдет Сайрэ к тебе или нет? Как – то получится нехорошо. Мельгайвач – чукча и к тому же безбожник, а он побежал вдохновлять его на победу. А ты свой, юкагир, да еще на такое божье дело идешь – и он, почитающий бога, не пошаманит тебе…
Пурама в это время разглядывал копыта оленей, и слова Хурула, будто лопнувшая тетива лука, выпрямили его. Жар ударил в лицо, но с языка не успели сорваться вопросы, потому что Хурул повернулся к нему и продолжал говорить:
– …А пошаманит тебе – Мельгайвач обидится: приз – то большой один! Слышь, Пурама, – как – то так получается… – Он красноречиво поерзал на нарте. – Хоть и втихую все они делают, а люди – то знают! Нет, Сайрэ должен тебе пошаманить. Схватишь приз ты – что он будет делать тогда! Люди скажут, против божьего дела шел.
– А ты думаешь, что Куриль все – таки будет божий дом ставить? – показывая себя спокойным, спросил Пурама.
– Да если бы слух после гонок прошел, люди, может, и не поверили бы. А теперь куда же ты денешься? Играть божьим именем? На это никто не решится. Как ты считаешь, Нявал?
– Это… конечно. Да ведь… смотря какой дом? Из чего делать будут? Если из бревен, так это… сто топоров будет мало. И топоры нужны из железа…
– А, топоры, топоры! – махнул на него Хурул. – Игровой табун, глянь, какой: больше половины едомы занял. Согласишься и роговым топором бревна тесать. Не об этом я говорю.
– А ты сам слышал? От Куриля? – спросил Пурама.
– Нет. Это вчера Мамахан горькой воды напился – и кому – то в ухо сказал… А вон, глянь, и Куриль идет.
Хурул и Нявал поднялись с нарты, а Пурама стал нервно перебирать вожжи.
Куриль был одет в новенькую чукотскую кукашку[55], каких юкагиры еще не носили, на ногах – новые саскэри[56]. С ним рядом шел Мамахан в пушистой медвежьей шубе. Оба они были веселы: Мамахан что – то рассказывал, жестикулируя толстым кулачком, а Куриль щурился в улыбке, важно глядя прямо перед собой.
– Пурама! – бодро и громко сказал Куриль. – Где ты прячешься тут? Выезжай – покажись людям. Пусть поглядят на твоих высокогрудых, широкогрудых оленей…
На дорогу уже выезжали другие гонщики. Сразу стало людно и шумно. Народ начал метаться из стороны в сторону, боясь пропустить мимо глаз хоть что – нибудь в этот переполненный радостным возбуждением миг. Не часто бывает такое в тундре, далеко не каждому выпадает счастье видеть все это… Как дробь из ружья, выскочила вперед всех стайка ребят.
А Куриль подошел к Пураме вплотную и стал говорить тихо, но быстро:
– Один глаз – на Едукина, а другой – на Кымыыргина! Едукин не зря приехал, готовился с хитростью, себя не показывал. А чукчей надо остерегаться. – Он поглядел на нож Пурамы, висевший у него на боку. – Чукчи могут зло пошутить… Подойдут возле костров шаманы – уехать нужно от них – пусть на пустом месте пляшут. Пурама! Я все сделал, как говорил, перед богом чист. Народу сказал, но потихоньку: испугался, что другие откажутся ехать.
– Все уже знают, – сказал Пурама.
– Да, знают. И Кака, и Тинелькут. Потому тяжело будет. Ну, пусть светлый бог поможет нам!
Он стукнул зятя по спине, и тот натянул вожжи.
Ярко светило солнце на пустом синем небе.
Рядом с жердью зажгли костры, и сизый, клубящийся дым тремя веревками потянулся вверх, образовав одну общую тучку – розоватую сбоку и синюю, мутную снизу.
У костров шумела и пересыпалась толпа, окружавшая добрую полусотню упряжек. У одного из костров опять звенел бубен, взлетевший над головами людей, – это снова шаманил богач Тинелькут, которому так было нужно угнать в свою тундру ламутских оленей. А недалеко от него звенел и второй бубен – только шамана не было видно. Пурама проехал мимо старика Тинальгина, сидевшего в окружении богачей на нарте. Рядом с ним стояла другая нарта, на которой торчал, как высокий пень, Мельгайвач, укутанный шкурой. Пурама сделал крюк, чтобы посмотреть на второго шамана. А когда подъехал – увидел Сайрэ, скачущего возле упряжки Едукина.
«Так. Меня не искал. Значит, и он знает все», – сказал себе Пурама и повернул прямо к черте на снегу, означавшей начало большой и трудной дороги.
Двадцать три упряжки наконец выстроились в одну линию. Сорок шесть оленей, натягивая и отпуская постромки, топтались на месте. Накренив на один полоз нарты, все гонщики замерли, глядя на жердь и только на жердь, к которой шагали трое – Куриль, Тинелькут и чуть сгорбившийся Мельгайвач.
Вот богачи остановились, осторожно потянули веревку – и тоже замерли. Затихла толпа. Треск сучьев в кострах и мягкий скрип снега под копытами нетерпеливых оленей сейчас казались невероятно громкими.
Богачи пошептались, глянули в сторону гонщиков. Потом попятились, дернули разом веревку – и высокая жердь хлестнулась о снег.
Все, как одна, упряжки рванулись вперед, но сразу же сбились в кучу. Началась борьба за дорогу. В снежной пыли ничего нельзя было разобрать. А когда суета ослабла, люди увидели далеко впереди бурые комочки, настигающие друг друга. За каждой упряжкой вилась пыль – и уже казалось, что огромную тундру, как белую шкуру, быстро вспарывают из – под снега ножами.
Впереди было много времени: три якутских шагания – это не близко[57]. Самое интересное начнется тогда, когда гонщики повернут обратно, к стойбищу, и начнут приближаться к дымным кострам. Но волнение все равно нарастало: сейчас юкагирский богач Куриль прикажет пастухам пригнать сюда стадо, которое трудно окинуть одним взглядом, и тогда у каждого совсем уж бешено заколотится сердце и станет понятней борьба и переживание гонщиков, в вихрях снега рвущихся к цели.
Проводив упряжки, богачи сели на нарты, поставленные в ряд. Никто из них не хотел выдавать того, что было на сердце. Но сохранить спокойствия сил не хватало. Тинелькут, показывая свою уверенность, которую будто бы никто не может понять, начал есть жирное мясо. Однако первый же кусок он не донес до рта: а вдруг этому Курилю и в самом деле поможет бог? Как же заранее он не узнал, из – за чего назначены гонки! Просто проиграть и то страшно. А тут еще проигрышем помочь прославиться юкагиру… Не меньше Тинелькута волновался Куриль. По его лицу, по крепко сжатым губам могло показаться, что он спокоен. Но его выдавали резкие движения. Он то пристально глядел на Сайрэ, сидевшего прямо на снегу недалеко от Мельгайвача, то резко отворачивался от него в сторону Тинелькута; потом он начинал вставать, отыскивая глазами кого – то из своих людей. Все богачи, купцы и простые люди знали, как ему будет плохо, если Пурама приедет не первым: именем бога нельзя шутить… В противоположность ему, Мельгайвач сидел очень смирно, однако представляться больным и безразличным к своей судьбе терпения не хватало – глаза его сами собой перекатывались из стороны в сторону. И у Куриля замирало сердце, когда он перехватывал встречные взгляды его и Каки. Ему казались недобрыми эти взгляды, этот бессловесный разговор чукчей – шаманов.
Куриль встал и обернулся назад.
– Нявал! Тебе вызывать призовой табун. Иди. Пригоните его сюда и передайте в руки тем, кому повелит бог…
Куриль перекрестился, а сам подумал: «Если проигрывать, то лучше всего ламуту Едукину».
Нелегко ожидать победу, но куда трудней добывать ее.
Как только упряжки вырвались на простор и перестали мешать друг другу, тундра огласилась криками двадцати трех здоровых отчаянных гонщиков. Каждый старался определиться, где выгодней ехать. Едукин, Кымыыргин, двое чукчей и еще гонщики ламутских оленей решили быть впереди – они мчались густой кучкой, но сильно не отрывались от остальных. Нашлись такие, кто предпочел быть последним: израсходовать силы – это не хитрость. Пурама ехал посередине и считал это самым верным: когда знаешь, кто впереди, кто сзади – легче бороться. Найдя себе место, Пурама успокоился. Позади сильных противников не было – сын Тинелькута выехал на каргинах, а разве можно каргинов принять в расчет! Чуть тревожил его Ланга, гнавший ламутских оленей. Но Ланга не три луны готовился к состязаниям…
Так, изредка меняясь местами, гонщики одолели четвертую часть пути. Кымыыргин и Едукин часто оглядывались. Видно, их беспокоило то, что Пурама выжидает и не теряет ума. Они тоже не теряли ума, и гонка пока что устраивала всех – продлилось бы так до поворота и еще немного на обратном пути… Все знали, однако, что этого не случится.
Совсем неожиданно Пурама увидел мелькнувшую мимо него упряжку Ланги. И он не успел сообразить, что же случилось, как вслед за Лангой на одном полозе проскочил Нутувги – сын Тинелькута. Словно пуля через кусты, промчался Ланга между упряжками головной кучки – и погнал, погнал оленей, все уменьшаясь и уменьшаясь. На какое – то время все растерялись. Но Пураму обогнали первого, и он быстрее других сообразил, что делать. «Это не страшно, – подумал он. – Но не подразнить ли передних?» Он натянул вожжи, олени шире метнули ноги. И вот уже позади остался сын Тинелькута. А Пурама взмахнул вожжами, крикнул; олени еще прибавили ходу – и суетившиеся на нартах Кымыыргин, Едукин и все остальные уплыли назад.
Если бы в это время возле дороги оказался слепой человек, он мог бы подумать, что целое стойбище, бросив жилье, рванулось к какому – то рубежу, где всех ожидает великое счастье, или, напротив, несется от страшной беды, преследующей по пятам. Топот копыт, свист вожжей, удары полозьев о снежные заструги, звон постромок, натянутых будто струны, гиканье гонщиков… Пурама не видел этого охватившего всех порыва. Он оглянулся позже, когда сзади творилось что – то невообразимое. Задние нагнали передних – и началась потеха – неразбериха. Одни стегали оленей, крутя вожжами над головой, другие били их палками, кто – то свалился с перевернутой нарты, чьи – то упряжки спутались, и возле них суетились, ругались гонщики… Пурама так громко захохотал, что олени вздрогнули и еще набавили ходу.
А вот и едома Норенмол. Вот она, долгожданная! Теперь – поворот. Перегнать бы еще Лангу, да он недалеко, и олени его устали.
Опередив всех, Пурама перевел оленей на рысь и, вздохнув, начал думать о том, как ехать дальше – подождать ли других, чтобы передохнуть, или постараться быть первым. Осилена лишь половина пути, и торжествовать еще очень рано: многое может перемениться… Ничего еще не придумав, он натянул левую вожжу, поворачивая оленей, – и вдруг съежился от неожиданности. В лицо ему полетели ошметки снега, по ногам чуть не стукнула нарта – пулей мимо него проскочил Кымыыргин. Пурама тряхнул головой, а в это время, словно стрела, мелькнула вторая упряжка – это Едукин чуть ли не по воздуху пролетел. Дробно стуча копытами, на поворот выскочили и каргины гонщика Тинелькута.
Ошеломленный, бессмысленно перебирая вожжи, Пурама только моргал, глядя, как впереди одна за другой отмахивают дорогу упряжки. Но у него были верные стражи – глаза. Они – то и решали все за него: впереди оказался подъем, и совсем незачем было сейчас что – то делать – выскочить наверх на большой скорости, значит, многое потерять.
Так оно и случилось. Сверху вниз Пурама полетел как ветер. Отдохнувшие его олени не испугались разгона и понеслись, понеслись, оставляя позади одного, другого, третьего гонщика.
А теперь можно было вздохнуть по – настоящему и приготовиться к самому глазному, к борьбе за победу, к борьбе с теми, кто сумеет сохранить силы оленей. Пурама уже видел сбоку остановившиеся упряжки – это бросали игру гонщики, понявшие, что бороться дальше расчета нет. Безнадежно отстает и сын Тинелькута…
Три противника оставались у Пурамы – Кымыыргин, Ланга и Едукин. Все они недалеко, и вместе с Пурамой они набираются сил.
Пурама ожидал, конечно, что задние еще настигнут его, может быть, даже немного опередят. Но случилось самое худшее. Кымыыргин с одной стороны, Едукин с другой промчались мимо него. А тут еще подоспел Ланга – он тоже обошел Пураму и встал как раз перед ним. А первые двое – ламут на сильных оленях и дьявол чукча тоже на сильных оленях все удалялись и удалялись. Не помня себя, Пурама с такой силой врезал одному и другому оленю ремнем, что сразу весь утонул в непроглядной снежной пыли. Каким – то чудом он не столкнулся с Лангой. Но, даже обогнав первого, он нисколько не успокоился и все хлестал и хлестал оленей, не щадя ни их, ни себя. Вот он, Кымыыргин, – близко. Он с ног до головы закидан снегом, как пень в лесу. И олени его от инея белые – пар у них из ноздрей вырывается тучами. А Пурама бьет и бьет вожжами и наконец перегоняет его. Но впереди Едукин. Его разглядеть невозможно – он тоже купается в клубах пыли и пара. Только догнать бы Едукина, только догнать бы! А там… Но сбоку храпят олени дьявола чукчи.
Какой – то миг Пурама и Кымыыгрин летели рядом, не понимая, кто из них хоть чуть отстает: ошметки снега из – под копыт и вихри пыли заставляли глядеть только вниз. Но тут что – то произошло. Кымыыргин вдруг как – то сразу скользнул вперед и исчез, а левый бур – олень Пурамы с разгона свалился в снег, правый же дернулся, словно наткнувшись на стену, и медленно поволок нарту.
Пурама соскочил на снег – и в руках у него оказалась лямка, разрезанная наискосок возле постромки. От гнева у него не было сил заскрипеть зубами или назвать сирайканом чукчу. Сердце в его груди так колотилось, что от напора крови потемнело в глазах. Дрожащими руками, ничего не видя перед собой, Пурама привязывал лямку к постромке. Он привязывал ее долго, так долго, что уже слышал крики людей, встречавших победителя гонок. Не спеша он взял вожжи и сел на нарту. И только теперь понял, что ни Едукин, ни Кымыыргин еще не успели выскочить на равнину едомы.
И Пурама проскрипел наконец зубами. Дико крикнув, он хлестнул изо всех сил левого, затем правого оленя. Потом выхватил из – под сиденья кенкель[58] и начал бить им и того и другого. Он уже хорошо видел три тонких дымка, скрестившихся в небе, видел даже толпу людей, стеной стоявших на самом высоком месте едомы. А левый олень его мучился – лямка было узковатой, с узлом, она мешала ему, и правый не мог приспособиться – то заворачивал в сторону, то отставал, несмотря на удары.
А впереди теперь было трое – Ланга тоже успел обогнать его. И Пурама от досады, наверно, заплакал бы, но глаза его уловили что – то такое, отчего снег опять сделался белым, небо синим, а солнце красным. Может, его оленей потихоньку подталкивал бог, а может, напротив, бог придерживал тех, что были ближе к кострам? Бог – не бог, но Пурама явственно видел, что расстояние между ним и Лангой сокращается и что две остальные упряжки вовсе не летят, как на крыльях. «Да ведь на взволок идем… – догадался он, трясясь будто в ознобе. – Мои отдохнули, пока стояли, – олени мои… И нарта моя самая легкая…»
Он вдруг выкинул палку – лишнюю тяжесть и с такой силой опоясал вожжами левого, что тот пригнулся и прыгнул; тотчас же он опоясал и правого – и сам едва удержался на нарте. Олени теперь летели прыжками, а Ланга наплывал на него, наплывал – будто ехал назад, в обратную сторону.
Проскочил Пурама мимо Ланги – и пошел нагонять второго. Едукина. Но лямка… Как же мешает узкая лямка оленю! И как она не развяжется!..
Поплыл на него и Едукин. Бьет Едукин палкой оленей, а они будто не чувствуют боли – все так же медленно бросают ноги.
Еще шагов двести, а там равнина. Догнать бы Едукина!
А народ кричит, машет руками, топчется, пляшет…
Есть! Уплыл Едукин назад. Но впереди Кымыыргин. «Сирайкан Кымыыргин, сирайкан! Срезал мне лямку, срезал – я всем покажу… А оленей этих я тебе, Куриль, не отдам, не отдам, если даже и проиграю…»
А у оленей нет уже сил. Они не чувствуют боли, они, наверное, знают, что все равно упадут и подохнут…
Последний перелом тундры – дальше ровное место. Пурама соскочил с нарты, побежал рядом с упряжкой.
Ха! Да ведь и олени чукчи не бегут, а тащатся! Языки – то красные вывалили – словно собаки, и дышат совсем по – собачьи. И это – на ровном месте… Пурама разбежался, прыгнул на нарту и подтолкнул ее. Стегнув по бокам своих многострадальных оленей, он начал кричать на них и крутить ременными вожжами над головой.
С победным шумом он и хотел промчаться мимо гонщика Мельгайвача, но вдруг дернул вожжу и отвалил в сторону. В руке Кымыыргина ярко блеснул на солнце прижатый к рукаву нож.
Бешеным зверем глянул шаманский гонщик на Пураму – сорвалось у него и в такой момент. И он насел на оленей – начал хлестать их по чем попало.
А толпа орет, прыгает, расступается.
– Олени мои, олени, – дрожащим голосом вслух лепечет Пурама и уже не бьет их, а только из последних сил натягивает ремни. – Немножко, еще немножко… Во – от, во – от. Отстал. Отстал, сирайкан!.. Родные мои… Выдержали… Выдержали! Выдержали!
Он ногой ловко зацепил кольцо из тальника, к которому был привязан красный лоскут – знак первого приза, – и влетел в прогалок ликующей, шумной толпы.
Бросив оленей и закрыв руками лицо, Пурама поплелся, не зная, куда и зачем. Во всем его теле от головы до пят что – то стучало, вырывалось наружу, а перед закрытыми глазами то разгоралось, то гасло желтое лучистое солнце.
Объятие дрожащих рук остановило его. Пурама открыл глаза и тихо засмеялся, глядя прямо в лицо Курилю.
– Ну, не умирай, Пурама, – весь светился, как предвесенний день, Куриль, богач Куриль, теперь слишком большой богач Куриль. – Молодец. Какой же ты большой молодец, Пурама!
– Одарить его надо, хорошо одарить! – бил его рукой по спине Мамахан.
– Можно, Апанаа, умереть. После такого дела можно! – сказал Пурама, которого вместе с богачами толпа тискала, сбивала с ног. – Только не от радости – это брехня. От стука в грудях! Да, Куриль, а Кымыыргин – сирайкан – срезал лямку на правом. Иди – погляди. И второй раз срезать хотел…
Куриль и Мамахан сразу освободили гонщика, раздвинули толпу – зашагали к упряжке.
А люди в это время ласкали оленей – кто целовал их в мокрые носы, кто прижимался щекой к их глазам, кто гладил спину, брюхо, бока.
Растолкав всех, Куриль сразу увидел узел с торчащими острыми концами и, взявшись за этот узел, решительно повернул упряжку, повел ее за собой – к тому месту, где стояли упряжки Мельгайвача и Каки.
Совсем сгорбленным сидел Мельгайвач на нарте. Перед ним, опустив голову, тяжело дыша, стоял Кымыыргин. А Кака шагал туда и сюда по вытоптанному снегу. Сайрэ возле них уже не было.
У Куриля на языке крутились такие слова, от которых и Мельгайвач и Кака, наверно, провалились бы в нижний мир. Но вид совсем недавно страшно богатого чукчи мог разжалобить даже медведя: теперь Мельгайвач был никем – просто чукчей, может быть, пастухом Каки. И язык у Куриля не повернулся.
Правый олень является главным в упряжке.
Зато у Пурамы с новой силой вспыхнула злость, и он, толкнув рукой в бок Кымыыргину – в то место, где висела пустая ножна, со счастливой издевкой спросил:
– Мэй, а где же ты ножик – то потерял?
Кымыыргин схватился за ножну, но тут же опустил руку и с такой ненавистью скосил глаза на Пураму, что Курилю пришлось встать между врагами.
А Мельгайвач, не выпрямляясь, повернул голову, увидел лямку, завязанную узлом, и тихо сказал:
– Плохо… Все плохо. Теперь еще и позор. Зачем Кымыыргин сделал так? Все равно бы тебе не отдали стадо, если б и первым приехал.
– А кто доказал бы? Может, он сам разрезал…
Заметив, что Кака куда – то исчез, Куриль догадался: не Мельгайвач, а Кака натравил гонщика. И он вдруг пожалел чукчу, на которого сразу свалились такие тяжкие беды.
– Может, Мельгайвач, ты обратно возьмешь хоть немного оленей?
– Нет, нет, Апанаа, – замотал тот головой и вытер варежкой слезы. – Я рад, что мои олени попали к тебе. Не хотел я, чтобы их на восток угнали. А ты, может, и вправду употребишь их на хорошее божье дело. И грехи тогда мне отпустятся… Да если бы ты состязания не назначил, я назначил бы сам, и все равно ты выиграл бы.
– Ну, живи с богом, – сказал Куриль и отвернулся. К нему навстречу шел Тинелькут, но он заметил медленно подъезжавшую упряжку – сильно заиндевелых оленей и усталого каюра – ламута. – Гость? – спросил он. – Издалека? Опоздал, мэй. Кончилось все.
– Нет, Апанаа! – крикнули из толпы. – Он ищет Едукина, чтобы помочь ему стадо гнать.
– Куда гнать? – удивился Куриль.
– На Индигирку…
Толпа грохнула таким дружным и неожиданным смехом, что приезжий вздрогнул и растерялся; ламут, однако, смекнул, в какой просак он попал, – и под еще более раскатистый смех завернул оленей, щелкнул вожжой и скрылся с глаз.
– Хорошие у тебя, Куриль, олени, – сказал Тинелькут, смущенно улыбаясь. – И гонщик у тебя лихой. Если нынешняя удача поможет тебе в хороших делах, я не буду жалеть, что проиграл, По обычаю все богачи и гонщики – победители собрались у костров, набросали в них мозгов и сала, а потом расселись на снегу, стали закусывать и пить чай.
Едома Артамона, наверное, никогда не была такой оживленной. Вся она кипела оленями и людьми; над этим подвижным, шумящим морем клубились дымы огромных, жарко горящих костров, уже хорошо заметных издалека в наступающих сумерках.
Когда чаепитие кончилось и настала пора всем расходиться, к богачам подошли пастухи и Нявал.
– Вот, значит, Куриль… – начал как будто ничего толкового не обещавшую речь Нявал. – Как ты приказывал, значит. Бог отдал тебе стадо. А мы тут говорили, что, может, через него бог и к нам ближе окажется…
– Хорошо, складно ты говоришь, – перебил его Куриль, поднимаясь. – Теперь что ж – остается проводить стадо…
Эти слова заставили Мельгайвача сильно вздохнуть и совсем согнуться над обглоданными костями. Бывший шаман и бывший богач тихонько толкнул локтем Кымыыргина – иди, мол, ты за меня. И Кымыыргин поднялся. Встали и остальные.
Проходя мимо костров, Куриль, Мамахан, Пурама сразу увидели запропастившегося Сайрэ. Они ничего не сказали друг другу, только переглянулись, но удивлению их не было меры. Шаман Сайрэ, улыбаясь и что – то бурча под нос, нюхал, целовал лежавших возле костра оленей, – тех самых оленей, к которым не подошел утром и на которых Пурама победил всех остальных – даже слышавших звон бубна, бубна Сайрэ. Сейчас шаман желал им долго жить и далеко бегать…
Все прошли молча мимо него, каждый по – своему думая о старике…
И погнали выигранное стадо Куриль, Тинелькут, Кымыыргин и Мамахан. Погнали, чтобы соединить его со второй половиной стада юкагирского головы.
На другой день, когда взошло солнце, все увидели, как сильно разбогател Куриль. Раньше стадо его занимало половину едомы, а теперь не умещалось на всей едоме.
Утром Мамахан отослал своего конюха в Булгунях и велел ему перегнать двадцать коней на хорошее пастбище, а также снова отправить посыльных на Алазею и к городу: пусть желающие готовятся к состязаниям конников.
А Куриль в это время одаривал всех своих близких. Кто получал двух оленей, кто пятерых, а кто и целый десяток.
Кака уехал, не попрощавшись. Когда уехал – никто не знал. Он ничего не сказал об этом Мельгайвачу, бросил его.
Зато пришел попрощаться сам Тинальгин. Он молча пожал Курилю руку да по – стариковски важно, покровительственно улыбнулся.
53
Чохон, или хаяк – коровье масло, очень дорогой продукт в тундре тех времен (якут.).
54
Иводер – крюк из рога молодого оленя, приспособленный для добывания топлива.
55
Кукашка – глухо сшитая доха; верхняя, более удобная, чем юкагирская, одежда; впоследствии была признана и юкагирами (чукот.).
56
Саскэри – обувь со щеточной подошвой.
57
Примерно 15 км.
58
Кенкель – длинная палка.