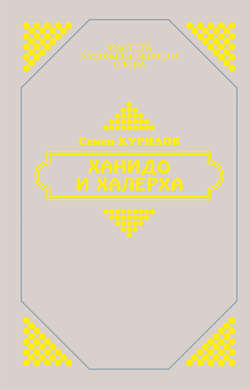Читать книгу Ханидо и Халерха - Семен Курилов - Страница 9
Книга первая
ЛЮДИ «СРЕДНЕГО МИРА»
ГЛАВА 8
ОглавлениеСовсем другие мысли мучили в это же время шамана Сайрэ. Он – то уж точно знал, что чукча вернулся вовсе не по его воле. Просто он одумался – не захотел обижать юкагиров и решил все – таки хоть что – нибудь привезти своим женам. Мысль промелькнула быстро: мешок – юколы да несколько шкурок отдать не жалко, но придется сделать подарок и Токио – и он сделает хороший подарок, только будь он проклят, этот шаманчик – выродок – не Мельгайвач, а сатана приволок его на берег Улуро!
Оправдаться перед людьми – это еще не значит оправдаться перед всевышним судьей и повелителем – богом. Если б так неожиданно не озлобился Токио, все бы кончилось сказочно хорошо. Сайрэ оставалось бы подыскать случай освободить Пайпэткэ, а это теперь облегчилось в тысячу раз – и во искупление всей вины перед богом сделать ей еще какое – то доброе дело. Вот и прожил бы он без страха остаток лет, и принял бы его бог к себе, и вернул бы его в средний мир в третьем поколении. Может быть, Сайрэ поступил бы как – нибудь по – другому, но только сам, один, без обещаний и постороннего любопытства. Токио заставил искупать вину на людях, искупать быстро да еще одним – единст – венным способом. Какие унижения он, старик, перенес сегодня, как смеялись ему в глаза при людском сборище, как ковыряли его живое мясо! И впереди то же самое, а разобраться, так еще более нестерпимое – он сам будет унижать себя: муж ищет для жены мужа, потому что стар и немощен телом – настолько немощен, что можно сойти с ума…
Мельгайвач и Токио спали рядом, подложив под голову хорошо мятые шкуры, подаренные Сайрэ за камлание, – а Сайрэ сидел у очага, курил трубку, смотрел в огонь, и выпитая горькая вода не мутила ему головы. Думал старик, курил и думал. Порывистый ветер налетал на тордох – и жерди каркаса скрипели, ровдуга стучала о них, как отсыревший бубен, а дым шарахался внутрь, повисая над головой старика клубящейся тучей… Ах, если б у чукчи была только одна жена, да если б он вдруг оценил любовь Пайпэткэ! Какие у него жены – дрянь, а не жены. И бросить их не грешно. Особенно младшую, с которой кто только из заезжих купцов не спал. И среднюю можно отдать Каке без жалости – она, говорят, так и липнет к нему, да она и сама теперь, наверно, ушла бы к чукотскому голове – от такой жизни…
Время шло, гости и жена беспробудно спали – и мысли шамана Сайрэ все упорней вертелись вокруг Мельгайвача и его жен. Старик припомнил все, что знал по слухам и неожиданно понял, почему еще так упорно думает только об этом. Да ведь вернувшийся из Халарчи Пурама сказал кому – то, что Мельгайвач совсем обеднел и будто бы поэтому хочет одну жену передать Каке! Сильно обрадовавшись, Сайрэ начал искать ходы. Ему, правда, сразу же стало ясно, что внушать Мельгайвачу ничего нельзя: такой ход бог не примет. Стало быть, надо по – человечески поговорить. А как?
Сайрэ не успел ничего придумать: спокойствие в тордохе нарушилось – из – за полога выбралась Пайпэткэ. Старик не повернулся к ней. Однако он умел «видеть» затылком. Вот Пайпэткэ бросила взгляд на него – и сейчас же повернула голову в сторону, туда, где спали гости. Она увидела Мельгайвача, насторожилась, потом засуетилась на месте, как будто раздумывая, что делать, – и вдруг быстро юркнула обратно, за полог. Сайрэ изо всех сил прислушался – и немедленно догадался, что она воровато расчесывает волосы. Сердце старика застучало сильней: со дня помешательства она даже слюни не вытирала.
И все совсем ожило кругом, когда Пайпэткэ опять выбралась из – за полога и решительно подошла к пуору. И только теперь Сайрэ украдкой взглянул на нее. Она искала еду – она не ела целых полсуток. Ее движения говорили о том, что сам бог гладит ее по голове. Пайпэткэ начала резать юколу.
– Надо бы оленины сварить – гости скоро проснутся, – осторожно сказал Сайрэ.
– Тачана приходила к нам? – вместо ответа спросила она. – Я ее голос сквозь сон слышала… А второй кто приехал? Вы горькую воду пили?
– Пили, ке, пили. – У Сайрэ неожиданно покатились слезы; он отвернулся. – Токио к нам приехал. И Мельгайвач. Дела у них к Курилю – не нашли в тундре, сюда завернули. – Сайрэ поднялся, взял котел и пошел наколоть льда.
В это время в дверях показалась легкая на помине Тачана. Сайрэ чуть не сплюнул. Дьявол ее принес!
Кто – кто, а Сайрэ хорошо знал Тачану. И сейчас он без ошибки понял, зачем она приковыляла к нему.
В годы молодости Тачаны юкагиры и чукчи кочевали вместе. А среди чукчей было много мужчин, искавших себе жен. Получилось так, что все люди Улуро оказались родственниками Тачаны, и она стала надеяться на жениха из чукчей. И вот тут – то она и узнала себе цену. Ее старание завлечь хоть какого – нибудь жениха походили на прихорашивание совы перед уткой. Чукчи отворачивались от нее. Маленькая, колченогая, с непомерно длинным лицом, она была еще и сплетницей. Годы шли, жених не находился – и тогда она вышла замуж за подслеповатого, тупоумного и безвольного юкагира Амунтэгэ, на которого вообще никто не смотрел. Замуж – то она вышла, но не успокоилась, затаив злобу на многих сверстниц. Потом эта злоба перешла на всех смазливых девушек и привлекательных женщин; она стала мстить им, как только могла. Косой Сайрэ помнит, как однажды она сказала ему, рассчитывая на поддержку: «Раз не одарил меня дух земли ростом и хорошим лицом, так я за это всех счастливых красавиц оплевывать буду». Но красавиц появлялось все больше, особенно от участившихся браков юкагиров с ламутами, – и понемногу шаманившая Тачана стала талдычить другие слова, которым в конце концов и сама начала верить: «Обличье мое – не наказание. В девках была – не понимала. Это – шаманское обличье».
Десять зим Тачана ждала тяжести в животе. Не дождалась. И тут она окончательно обозлилась и на красивых женщин, и на тех, у кого рождались дети – особенно, если ребенок оказывался здоровым и хорошеньким. Каких только сплетен она не распускала, каких гадостей не говорила! И в это же время Тачана принялась усиленно вызывать своих духов – она без конца колотила в бубен, прыгала, визжала. Добро, что Амунтэгэ все это сносил безропотно. Люди стали бояться ее глаз, ее слов, ее голоса. Наконец, вмешался Сайрэ: ей от рождения шла тридцатая зима, когда шаман сказал людям, что Тачана добилась своего и теперь обладает шаманской силой. Но только стала она шаманкой, как умерла ее соседка. А у соседки осталась девочка – Чирэмэде, будущая мать Халерхи. Тачана взяла к себе девочку – и сразу же поползли слухи, что бесплодная шаманка съела ее мать, чтобы обзавестись ребенком. Чирэмэде уже все понимала, и когда в эту же зиму умерла вторая женщина – сестра Амунтэгэ, у которой тоже осталась дочь, Пайпэткэ, Чирэмэде убежала от страшной старухи, поедающей матерей.
Амунтэгэ привел в свой тордох племянницу – сироту. Но это уже не обрадовало шаманку. Ужасные слухи о ней передавались от стойбища к стойбищу – и звон бубна из тордоха Амунтэгэ стал доноситься все реже и реже. Тачана испугалась. Шаманство ее оборачивалось людской ненавистью к ней. Примолкла она.
Сайрэ хорошо помнил те годы: тогда он очень боялся, что люди пересилят боязнь злых духов и разорвут шаманку. И он дал себе слово быть осторожным…
А дальше история с Тачаной была уже не шаманской историей. В отличие от тихой и простенькой девочки Чирэмэде, которую она успела полюбить сильно, по – матерински, Пайпэткэ оказалась красивенькой, да еще и проказливой. Бедная Пайпэткэ! Разве она была виновата, что родилась такой, что тетка боялась изливать злость на людей, а злости надо было вырываться наружу?.. Сайрэ видел, как по приказу жены Амунтэгэ долго и спокойно выстругивал и скручивал плетку, как дергалось от удовольствия морщинистое лицо Тачаны в ожидании счастья взять в руки плетку и как сверкала глазенками бедная девочка, предчувствуя жгучую боль…
…Разбивая култышкой оленьего рога лед, Сайрэ почувствовал, что руки его замерзают. И это оборвало его воспоминания. Да, он знает, зачем опять пришла Тачана. Знает, хорошо знает! Она хочет заступить Пайпэткэ дорогу, она не выдержит, если ей улыбнется счастье. Она тогда изойдет бешенством и не сможет ни есть, ни спать. Но она заступит дорогу не только ей, но и ему…
Когда Сайрэ вернулся в тордох, гости уже сидели на шкурах – подстилках и, настороженно наблюдая за Пайпэткэ, курили трубки.
– Хорошие сны, гости, видели? – назло Тачане добродушно осведомился Сайрэ. – Я крепко спал…
Токио и Мельгайвач закивали головами:
– Все хорошо – выспались…
– А у меня радость, – сообщил Сайрэ, – у дочки моей много дней голова болела, а нынче ей стало лучше. И от этого в тордохе стало светлей…
– Это какая ж она тебе дочь? – перекосила свое длинное лицо Тачана, рассевшаяся на самом видном месте, у очага. – Жена тебе она, а не дочь.
У Сайрэ лицо в момент сделалось таким же холодным, как окоченевшие руки. Все мысли выскочили из его головы. Только на языке само собой завертелось слово, которое не выражало и малой части нахлынувшего потом бешенства: «Живодерка. Не человек – живодерка…» Повесив котел на крюк – сускарал и опомнившись, Сайрэ, однако, нашел в себе силы не выдавать бешенства.
– Я мог бы дважды быть ей отцом. И потому должен бы называть ее не дочкой, а внучкой, – сказал он со вздохом. – Правда ведь, ке? Разве обижаются на добрую правду?
– Ох, какие ты речи заводишь, хайче! – укоризненно повертела головой Тачана. – Чудные речи. Подождал бы: гости только проснулись… Я вот зашла – и гляжу: жена твоя причесанная, со стола все убирает, а вон и оленину достала – варить да гостей привечать собирается. А ты не одумался, видно…
«Мерзавка. Хочет, чтоб она сумасшедшей осталась. С тем и пришла». И старик решил сразу заткнуть ей рот – чтоб она больше не лаяла и не мешала ему.
– Митрэй! – обратился он к Токио. – Ты во время камлания все говоришь людям? Или самое важное только?
– Все говорить – люди устанут слушать, – ответил якут.
– Я тоже так делаю. Но один раз в жизни я скрыл от людей важную весть… – Сайрэ повернул глаза на Тачану, как бы спрашивая ее – продолжать или нет. Старуха не знала, что творится в душе шамана, а догадки ее были не полными – и потому она приготовилась лезть на рога, надеясь лишь на семейную ссору. Она вызывающе подалась вперед. Сайрэ решительно повернулся к ней. – Думаешь, духам отца Мельгайвача было так просто разгадать тайну рождения юкагирского богатыря Ханидо? Какое у Пайпэткэ было тело, когда она оставляла следы? Может, ты вспомнишь, какое? Кровавое, чуть зажившее – вот какое. А била ее ты, кровь своего мужа била, а значит, и свою кровь…
– А я об этом сказал бы людям! – вмешался Токио. – Я бы сказал.
– Пожалел. И без этого люди были злы на нее. Но и теперь можно сказать. И бог простит меня, что я ей сейчас затыкаю рот… С плохим разговором ты пришла нынче ко мне, неродная теща. С плохим. И я могу тоже плохо закончить такой разговор. Да… Вот оно как…
– Господи! Духи земные и неземные! – хлопнула руками по своей впалой груди Тачана. – Да чего ж я плохого сказала? Тьфу, тьфу, тьфу… Не сказала я, не сказала. И в мыслях дурного не было ничего. Не было, не было, не было!
– Было!
– Хвалить свою дочь – это зло? Да ведь я перед ней виновата. Добро я ей делать должна?
– Хвалить Пайпэткэ нечего: гости и так не слепые и знают ее давно. Только твоя хвальба – хуже аркана. Мы все трое не паутиной сшиты, и перед нами вертеть языком, как вожжами, – дело пустое.
Старик зло бросил прутья в костер и направился к Токио и Мельгайвачу, не слушая больше шаманку, оторопело и униженно бормотавшую что – то невнятное.
Подсев к гостям, Сайрэ сразу приметил в глазах Мельгайвача что – то новое, никогда еще им не виденное. Чукча как – то слишком живо переводил взгляд с Пайпэткэ на Тачану, с Тачаны на него; вот он совсем уж подозрительно уставился на шамана Токио, будто впервые увидев его. Сайрэ насторожился, но, чтоб никто не заметил этого, стал вытаскивать из кармана засаленный до блеска кисет и трубку с сильно выгоревшим чубуком. Старику шаману догадаться было не трудно, что на Мельгайвача подействовала ссора. Как подействовала? Хорошо или плохо? Кукул его знает… Сперва Сайрэ подумал, что схватка с неродной ненавистницей матерью Пайпэткэ обернулась в его пользу: уж нашлепал – то он ее от всего сердца. Но он был слишком опытен, чтоб поверить первой догадке, тем более приятной догадке. С другой же стороны получалось совсем плохо. Мельгайвач плут и богатство нажил плутовством. И он вполне может подумать, что Сайрэ затеял какое – то новое и скорое дело, а потому и сорвался. Ведь так срывается человек, забывающий все на свете ради своей нужды. Уж не хочет ли великий шаман просто отделаться от сумасшедшей жены, сплавить ее поскорей?
Сайрэ знал, что в таких случаях надежней всего иметь в виду не хорошее, а плохое. И он сумрачно проговорил:
– Вот так я и живу, гости мои дорогие… На старости лет мне бы по силе – возможности делать людям добро да почести получать, а я вот барахтаюсь в семейных делах, как в сугробе. А получаю подзатыльники и пинки… – Сайрэ вздохнул, по – свойски потянулся к Мельгайвачу за трубкой, взял ее, наскреб сухой былинкой в свой чубук огоньку, затянулся, слезливо сощурился. – А почему так у меня вышло? Я расскажу вам случай. С Пурамой это было. Сами знаете – Пурама человек с десятью глазами, не то что я. Один раз увидел он оленя дикого и пошел на него. Олень далеко, место ровное. Подкрался на выстрел – и бултых в болото. Еле выкарабкался… Так и я. Под ноги себе не глядел. А оно вон, что у меня под ногами… Зря я вчера самому Пураме не напомнил об этом. А, ладно! Я привык уж сносить обиды… Но ты, Мельгайвач, теперь видишь, как сами люди на злое дело толкают? Даже родственники…
Чукча приподнял бровь:
– Родственники… Но родственницу ты решился одернуть, а меня тогда – нет.
«О себе думает», – заключил Сайрэ, а вслух сказал:
– Ох, Мельгайвач, не жалей. Ох, не жалей о той прежней жизни…
Сказал это старик и замолчал. Замолчал потому, что на язык ему налетела целая туча слов, потому что подвернулась возможность заговорить о самом главном. Но он был настороже и не хотел ошибаться.
Если бы знал шаман, какие мысли текли в голове чукчи!
После тяжелой дороги, после хорошей еды и выпивки Мельгайвач спал в тепле как убитый. А когда проснулся – голова его была светла и чиста, как голубой летний день. Увидев Пайпэткэ и поняв, что с ней как будто бы все хорошо, он закрыл глаза и, не поднимаясь, стал думать. Как бы сложилась теперь его жизнь, если бы он вдруг третьей женой взял ее? И Мельгайвачу показалось, что все было бы также плохо, а может быть, даже хуже. Он – то уж знал, о чем Пайпэткэ мечтала в те времена. С купцом Потончей она собиралась плыть к американцам, а с ним – с богатым шаманом – хотела ездить в Средне – Колымск, на ярмарки – чтобы видеть много разноязыких людей, покупать красивые вещи. Такие ее порывы напугали Мельгайвача. А тут еще ее красота, ее безудержная страсть… Да, он бы любил ее больше, чем других жен, потакал бы ей. Но сейчас, вот в такой жуткой беде и нужде она обернулась бы сатаной и не сама потеряла бы ум, а его лишила ума…
Обо всем этом чукча думал так, не всерьез, поневоле. Но если б даже об этих несерьезных мыслях мог догадаться Сайрэ!..
А потом пришла Тачана, и юкагирский шаман в сердцах сказал, что эта мерзкая старуха нещадно била сироту Пайпэткэ. И вот только тут Мельгайвач испытал какое – то страшное чувство, испытал первый раз в жизни. Ему вдруг стало тесно в одежде, а между тихой, молчаливой Пайпэткэ и ним появилось какое – то невидимое, но живое существо, которое ткнуло пальцем в его переносицу – и куда бы он ни поворачивал голову, палец этот не отставал от лица. Не знал Мельгайвач, не мог знать, что хрупкое тело молоденькой Пайпэткэ было тогда сплошной, чуть зажившей раной. Он обнимал это тело, гладил, мял, сдавливал – и было ему так хорошо…
Он еле скрыл от знавшего это все старика дрожь, пронизавшую спину.
С удивлением Мельгайвач уставился глазами в лицо якута – шамана: «Еще каким жалостливым станешь!» – вспомнил он слова Токио, сказанные перед сном. «Как он мог это узнать? И почему так быстро сбылось его предсказание?.. Может, они вдвоем околдовывают меня? Надо скорей уезжать…»
Не догадался Сайрэ и о пробудившейся в чукче жалости.
А между тем Пайпэткэ собрала на стол и подошла к мужчинам. Мельгайвач поглядел ей в лицо – и поспешил поймать за спиной косу, чтоб отвернуться, проверяя пуговку. Ух, какой же красивой стала Пайпэткэ за эти годы! Лицо округлилось, нос выровнялся, губы припухли, а сдвинутые брови похожи на крылья парящей птицы – замерли, но в любой миг могут вздрогнуть. Только маленькие глаза совсем уже не бегают, даже вроде притухли, как огонь под пеплом, – но ведь она уже женщина. И это все – после болезни, да еще одежда на ней – обноски покойной жены старика… Пайпэткэ ничего не сказала – только тронула за плечо мужа, развела руками, давая понять, что еда небогатая, – и поплелась к пуору.
Над Улуро гулял легкий верховой ветер. Снег успокоился – мягкой белой шкурой он лег на землю, словно прикрыв ее от мороза, который теперь усилится после пурги. А сейчас было тепло, бестревожно, уютно.
Умывшись снегом, Токио услышал ребячьи голоса на холме, за стойбищем, озорно насторожился, потом отряхнул руки и скорее зашел в тордох.
– Нет, не усижу! – сказал он, ни к кому не обращаясь. – Пойду покатаюсь на санках. Дома теперь мне вроде нельзя: вторая жена…
– Сперва водочки выпьем, – охотно предложил Сайрэ, обрадовавшись возможности остаться наедине с Мельгайвачом и уже обдумывая, как выпроводить из тордоха вовсе уже лишнюю Тачану.
– Я думаю, поедим – и запрягать надо, – со вздохом сказал Мельгайвач, перекидывая кверху дном весь котел желаний и намерений обоих. – Пора. Пока тепло и тихо. А то затрещит на озере лед, да пурга начнется… Хайче Сайрэ, ты хорошо угощал, и вот опять хлопочет твоя жена. Спали в тепле, отдохнули, поговорили. Все хорошо обошлось – и ты доволен, и мы… Поедем Куриля искать, – чукча улыбнулся, давая понять Сайрэ, что он слышал его разговор с Пайпэткэ. – Не знаю, как Токио, а я, наверно, в эту зиму еще заеду. А по весне и ты бы заехал к нам в Халарчу… – Здесь Мельгайвач подмигнул: это он говорил для успокоения Пайпэткэ. – Вот так и начать бы нам жить в дружбе и уважении…
Они стояли друг против друга и украдкой поглядывали на Пайпэткэ, которая молча, будто ничего не слыша, убирала постель.
Кажется, пронесло: Пайпэткэ не вздрогнула, не насторожилась.
Мужчины помолчали, продолжая следить за ней, а потом почти разом вздохнули – Мельгайвач с облегчением, а Сайрэ тяжело. Вздохнув, старик потряс головой, опустил плечи, опустил голову. Все кончилось. Уговаривать Мельгайвача никакой возможности не было.
К столу уселись совсем чужими – каждый возвращался к своим делам, к своей жизни, к своей судьбе.
Перед тем как сесть, Сайрэ достал откуда – то плоскую бутылку с горькой водой, но на стол не поставил – замешкался, раздумчиво ощупывая ее.
– Не надо, хайче, – сказал Токио. – Побереги до другого раза…
А Мельгайвач уже ел. Он показывал, что спешит, хотя на уме – то у него было еще и другое – покрепче наесться: дорога дальняя, и в родной яранге оленя в честь его возвращения не зарежут… Сайрэ сел рядом с ним, неуверенно поставил бутылку и, не раскупорив ее, принялся за еду. Он отрезал кусок оленины, выложенной из котла прямо на доску, начал дуть на него и вдруг вскочил, что – то вспомнив. Мельгайвач не пошевелился: он знал, что хозяин забыл собрать подарок. «Пусть собирает, – подумал он, еще полней набивая рот мясом. – Довезем потихоньку».
Токио уже закурил трубку и наблюдал за Тачаной, которая тоже вертела в руках пустую трубку, зло поглядывая на Сайрэ, набивавшего рыбой мешок, – а Мельгайвач еще пил чай. Наконец он насытился, надел шапку и встал, чтобы идти к оленям. Но тут хозяин неожиданно повернулся к нему. Пайпэткэ, спокойно державшая край мешка, тревожно подняла голову. Ее маленькие глаза стали внимательными, колючими.
– Мельгайвач! – сказал Сайрэ, приближаясь к чукче. – Ты должен знать, когда и, как это случилось. – Лицо старика было решительным, напряженным – даже испорченный глаз приоткрылся, – Что случилось? – не понял гость.
– Ее сумасшествие. Первый раз это было в то утро, когда ты от меня уехал… Она не слушает шаманских разговоров, но спала она или не спала – а наш разговор о крови дошел до нее. Она поднялась и начала хохотать посреди тордоха. Она босиком вышла искать следы от твоих ног и твоей нарты. А ты помнишь, какой тогда был мороз…
– Это брехня! Ты выдумываешь! – Раскрасневшийся после чая, потный, Мельгайвач так тряхнул головой, что с лица отлетели в стороны капли пота.
– Нет! Так было. Вот тебе крест перед светлым богом. – Старик решительно перекрестился. – Она снова потеряет ум – я знаю. Знаю, что второй раз ты не приедешь ее спасать. А меня бог не простит, если я утаю что – нибудь.
– Гы! – вскочил на ноги Токио. – Что ж получается это? Ты, значит, все знал, а людям говорил другое?
– Не по – моему, а по – твоему, Митрэй, получается, – спокойно ответил Сайрэ. – Вы спали – а я сидел думал. И если сейчас моя правда не верная, то и твоя не верная. Потому как я твою правду признал и все по – другому увидел.
Якут отлетел, как колотушка от бубна.
– Тьфу! – в сердцах сплюнул он. – Запутали все! Запутались! Да ты женись на ней, Мельгайвач!
– Осатанели! Осатанели вы все! – подскочила к ним Тачана. Ее длинная голова вертелась на морщинистой шее, будто приделанная.
– Пусть сумасшедшей лучше останется? Так? Сумасшедшая – лучше? – напер на нее Токио. – Ну, если мать этого хочет, тогда дело другое. Тогда поехали, Мельгайвач…
Возбужденный, взъерошенный якут, однако, не сдвинулся с места. Его по – мальчишески злые глаза как – то вдруг сузились, похолодели, вроде бы спрятались далеко внутрь. Токио с удивлением обнаружил быструю и резкую перемену, происшедшую с юкагиркой и чукчей. Тачана ворочала языком, а слова у нее не получались, и глядела она на него уже мягко, угодливо; Мельгайвач побледнел и смотрел на него бессмысленно, будто постаревшая лайка, у которой нет никаких желаний. В последнее время Токио все чаще и чаще замечал подобные перемены в людях, когда он смотрел им в глаза и говорил неотступную правду или давал советы, которые казались ему единственно верными. Он давно знал, что умеет внушать, и это прежде не удивляло его, потому что отец его был настоящим шаманом. Однако сталкиваясь с беспомощностью многих других шаманов и видя, как люди верят их глупым или корыстным советам, Токио усомнился и в своей силе, начал внимательнее следить за собой. Нет, ему верили и ему подчинялись совсем не так, как другим…
Пока Токио осмысливал происшедшее, Сайрэ переживал торжество. Он понимал, что гость шаман подавил волю Мельгайвача и старухи. Но ведь это сделал не он – сделал якут, а бог – то уже знает, что якут не друг ему и не угодник. А раз враги заодно, то дело их, стало быть, богоугодное.
Между тем Токио сообразил, что играет опасно, вмешиваясь сразу в судьбы стольких людей, – это снегов пять назад он не подумал бы о последствиях…
– Кукул бы вас всех сожрал! Решайте сами, – сказал он. – А я чаю попью и пойду кататься.
Он отошел к очагу и стал поправлять костер под чайником.
Сжав ладонью лоб и закрыв глаза, Мельгайвач покачнулся, но протянул другую руку, нащупал жердь и устоял на ногах. В голове его комариной тучей закувыркались мысли. Но сразу же среди них обрисовалась одна прямая и неподвижная, как жердь, возле которой крутятся комары: «Не так жил, не так жил. Я не так жил…» Придя в себя после головокружения, он всем своим нутром почувствовал, что мимо него пронеслась какая – то неведомая жизнь. В этом мире существовал человек, который был ему ближе отца, ближе брата и друга. Человек этот мог быть лишь живой половиной его самого – иначе как же так получилось, что он не слышал, как ухает от мороза лед, не видел бьющей в глаза пурги, забыл, что ноги босы, – но помнил о чьих – то следах?! Было наверняка и другое. И все это кончилось сумасшествием… Да разве такой человек скулил бы сейчас, когда его единожилец оказался в беде, ссорился бы и соглашался уйти в другую ярангу?!
Неужели человек этот женщина, неужели она здесь, рядом? Какая она? Мельгайвач открыл глаза – и испуг заставил его скорей отвернуться, искать взгляд шаманки, Токио, Сайрэ – кого угодно. Он даже не успел разглядеть эту новую Пайпэткэ – шевелящиеся ноздри ее, вытаращенные глаза, ее частое дыхание подсказали ему, что она сейчас или закричит нечеловеческим голосом или зачем – то метнется к нему… Но Токио ковырял головешки в костре, Сайрэ стоял спиной к Пайпэткэ, а Тачана подслеповато моргала, морщила лоб, блуждая в потемках своих отупевших мыслей.
Все молчали, и ничего не случалось. Мельгайвач глянул на Пайпэткэ еще раз – и обомлел от ее красоты. Неужели вот этими красными, как распухшая рана, губами она прижималась к его щекам, неужели эти маленькие, все понимающие, а потому и раскрытые широко глаза когда – то были рядом с его глазами и от страсти и счастья заволакивались туманом?.. Да нет, она вовсе не хочет метнуться к нему – она ненавидит старуху, его, старика Сайрэ, только не знает, какие слова сказать, каким голосом их сказать…
Медленно отвернувшись, Мельгайвач перевел взгляд на стол и почему – то остановил его на нераспечатанной бутылке с горькой водой. Сколько вот таких же бутылок он отшлепал ладонью по днищам за свою жизнь!.. Бутылки, бутылки, песцовые шкурки, клыки мамонтов, шкурки морских зверей… Потный, косматый, бессовестный Кака обнимается с младшей женой, какой – то купец спит со второй, а он – рядом со старшей, со старой… И счастлив. Дыхание тысяч оленей доносится до него сквозь ровдугу…
Далеко не всегда Сайрэ угадывал мысли людей. Но сейчас, наблюдая за чукчей, он мог бы точно пересказать его мысли.
– Эх, Мельгайвач… – сказал он со вздохом и тряся головой. – Ты постарел не от возраста и еще можешь помолодеть. Мне бы годы твои да любовь такой вот красавицы… В твои сорок лет настоящая охота к жизни только приходит… Что собираешься дальше делать? Трех жен не прокормишь, к работе они не приучены; оглянешься – и припасов никаких нет. А?.. У вас, у чукчей, насчет жен дурные привычки. И потому ты не знаешь цену любви и верности. Сломай большую ярангу свою. Сломай – и так, и этак ее ломать. Только мук больше, если будешь тянуть да надеяться… Помню, Пайпэткэ дитем была еще – осень, холод, бывало, дождю конца нет, а она, мокрая вся, и ночью рыбу таскала с озера; оскользается, падает, рыбу роняет – но уж ни за что не заплачет… Да с такой работящей и с ее любовью к тебе ты к весне все беды свои забудешь! Даже удивишься, что счастьем считал дурную, богатую жизнь. Где любовь – там и лад. Детей народите, здоровые да веселые будете…
– Ой! Ой! – прервал речь старика негромкий голос, сразу отдаливший все разговоры. Пайпэткэ отпустила мешок – он упал, юкола рассыпалась; вцепившись пальцами в свое лицо, она дико расширила глаза, будто собираясь заорать на все стойбище. Ничего не понимая, мужчины повернулись к ней, и лица их вытянулись в ожидании. Только надолго оцепеневшая Тачана вдруг завертела длинной своей головой, точно нехороший крик Пайпэткэ возвратил ей разом и рассудок и бодрость… Но Пайпэткэ не закричала. Однако ее тихий и здоровый голос и сами слова ее оказались неожиданней истошного крика: – Иде Тачана, иде![63] Меня, меня муж отдает замуж… Да что ж ты молчишь? Свою жену он отдает другому – как варежку. Ой, стыд – то, стыд – то какой! Сам муж отдает замуж жену… Да когда ж было такое на юкагирской земле? – Пайпэткэ перешагнула через кучу юколы. – Нет, не пойду. Не пойду из тордоха!
– И не ходи! И я говорю – не ходи. Не пойдешь! – У будто подстегнутой вожжами Тачаны изо рта сразу выбилась белая пена. – Не пущу. Скличу людей – не пущу! Определилась судьба ее, определилась!
– Да погоди, Пайпэткэ, погоди, – залепетал Сайрэ, часто и напряженно моргая глазом. – Ты же сама хотела так… ты все время хотела… ты ребенка хочешь… А мы от болезни спасаем тебя, мы счастья и здоровья желаем тебе!
– Здоровье? А кому нужно мое здоровье? – подступила к нему Пайпэткэ. – И не хочу я ребенка. Ничего не хочу я! Жить я хочу? Нету мне счастья! С ребенком, без ребенка, с красивым мужем, с уродом, с богатым, с бедным – нету мне счастья, проклята я! И чего собрались вы, чего рвете меня на куски? Уйду, уйду от людей я, в норе буду жить, в лесу. К медведю уйду! Нет в тундре счастья! – Голос ее вдруг переломился, сделался мужским, хриплым, противным. – Отпустите меня, а то удавлюсь! – Она развела в стороны руки, будто мгновенно ослепнув и будто одновременно поняв, что надо скорее куда – то бежать.
И снова, как и сутки назад, Тачана быстро и ловко обхватила ее сзади руками. Опять началась борьба.
– Пусти, пусти, сатана! – кричала Пайпэткэ, скрипя зубами.
Мельгайвач поймал одну ее руку, поймал другую.
– И ты хватаешь меня? И ты? Звери, все звери! Голову мою хватайте, голову… У меня нет головы…
Токио громко стукнул кружкой по столу.
– Довели, опять довели! Ш-шаманами называются… – Он встал и пошел прямо на Пайпэткэ, вытаращив на нее глаза, – холодные и страшные, как два ружейных дула.
Якут мог бы схватить Пайпэткэ за локти, которыми она вертела изо всех сил, но он только упрямо смотрел ей в лицо, стараясь поймать ее взгляд. И он поймал его, а потом как – то быстро притянул к своему лицу. Сумасшедшая перестала вертеть локтями, и грубые путаные слова застряли у нее в горле.
– Сядь, Пайпэ, сядь, – спокойно, но твердо сказал якут. – Сюда сядь – на землю. Вот. Успокойся. Я один здесь великий шаман; это я хотел, чтобы ты к другому ушла. А теперь я не хочу. А они будут делать то, что захочу я… Отпусти ее, Тачана! – крикнул он. – Отпусти и иди в свой тордох. Сейчас, Пайпэ, Мельгайвач уедет. Плюнь на все разговоры. Мы с тобой чаю попьем, ты отдохнешь, а потом пойдем кататься на санках. Слышишь – ребята кричат на горе? Ты хочешь кататься? Давно ты каталась?
Старик Сайрэ стоял под самой ровдугой. Он был похож на дряхлого горбуна, который пытается разглядеть звезды Хуораала[64] над головой. Руки его висели, как неживые, спина будто переломилась, а морщинистое лицо он выпятил вперед, широко раскрыв желтозубый рот. Зрячий глаз его не моргал. Старик увидел сотворенное шаманом – якутом чудо, но как раз перед этим рухнули все его надежды и все затеи.
Морозы все крепче брали над тундрой власть. Уже не возвращались теплые дни. Озера уснули под толстым льдом, а потом и лед засыпало снегом. С каждым днем солнце все ниже и ниже поднималось над горизонтом, пока наконец и оно не уснуло под белыми шкурами… Наступило самое тяжкое для жителей тундры время. Круглые сутки тьма – и морозы, морозы, морозы. Начнется пурга – станет немного теплей. Но куда же в пургу пойдешь или поедешь! А ехать или идти надо каждому здоровому мужику: зима длинная, припасов на долгие месяцы не заготовишь, и стоит побояться мороза – пропала семья. Голод беспощадней самого страшного холода. Голод – то и гонит юкагира, чукчу, ламута из стойбища, гонит на опасную и малоудачливую в потемках охоту. Обмораживая носы, щеки, пятки, сиротливо бродят по тундрам люди, без конца отгоняя жуткую мысль о гибели. Дома их ждут – ждут их шагов, их тяжкого от ноши дыхания… Это хорошо богачам да купцам: голод не стоит у них за спиной, а ехать на добрых оленях тепло одетым, сытым и пьяным, да еще не в одиночку, а цугом, с каюрами, можно в любой мороз и в любую пургу.
Шаманам тоже нет нужды выходить в тундру. Даже самый бедный из них всегда переживет и голод и холод, вовсе не подумав о том, что следовало бы самому сходить на охоту. Шаман – больше, чем человек. Поэтому он и не должен жить, как другие. Да разве он в состоянии сам прокормить и себя и своих духов, разве он сможет бороться со злом, питаясь, как смертные, или, хуже того, голодая?! И уж совсем нельзя допустить, чтоб шаман подвергал себя риску замерзнуть, попасть в лапы медведя, упасть с обрыва.
63
Иде – тетка.
64
Xуораал – Большая Медведица.