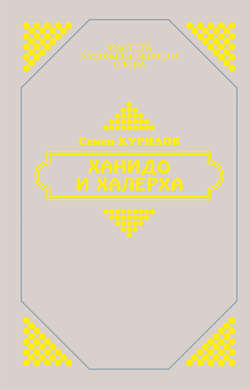Читать книгу Ханидо и Халерха - Семен Курилов - Страница 7
Книга первая
ЛЮДИ «СРЕДНЕГО МИРА»
ГЛАВА 6
ОглавлениеКак ни храбрился Хуларха, как ни старался, а пришлось ему признаваться в бессилии. Нет, Хуларха мог каждый день дергать тальник и таскать его на спине, мог носить из озера воду, кипятить чай, чинить и вязать сети, мог даже уплывать далеко на своей ветке, ловить чиров, а потом потрошить их, готовить юколу. Он все мог делать – даже без передышки, но ему не хватало дня и не было хоть маленькой, но постоянной помощи. Жизнь, однако, никак не считалась с тем, что ему не хватало. И стоило Чирэмэде, не вставая, проваляться на шкуре только одну луну, как Хуларха понял, что так он долго тянуть не сумеет. Он уж и тордох – то поставил совсем близко к воде, и спал очень мало, и не отказывался от помощи соседа Нявала и все же чувствовал, что ничего не выходит.
Иногда он бросал все, уходил далеко по берегу озера, садился под обрывом едомы – и долго глядел пустыми глазами на мутные волны, на стонущих чаек, на весь угрюмый, неласковый мир, который уж если невзлюбит кого из людей, так невзлюбит до самой смерти. Хулархе в такое время казалось, что стоит ему заплакать, заплакать навзрыд, громко, отчаянно, так, чтобы от слез напухли глаза, – как после этого наступит какая – то перемена. Вот он встанет, вытрет глаза, на что – то решится, придет в тордох, а там, у пуора, стоит жена, с хрустом режет юколу, ругает плаксивую Халерху и говорит ему твердым голосом: «Сходи, Хуларха, к озеру, умой эту грязнулю, а потом помоги мне принести шкуры в тордох…» Вот тут – то к нему и вернулась бы сила, и он – то уж знал бы, что дальше делать, как жить… Но слезы не появлялись. И медленно плелся старик домой с опущенными руками. Он останавливался перед дверью тордоха и долго думал о том, напоить ли горячим чаем больную жену и голодную дочь, сходив сначала за тальником, или заставить их потерпеть и попытаться поймать рыбы, которой слишком уж мало на вешале…
Однажды, когда Хуларха стоял на берегу вот в такой нерешительности, к нему подошел Пурама.
– Хайче, – сказал он, – может, тебе один мой совет поможет? Больно уж трудно тебе.
– Не – ет, – затряс лысой головой Хуларха, – никакой совет мне теперь не поможет. Года бы три протерпеть, дочь подросла бы – тогда уж другое дело.
– А вот я про это и собирался сказать. Давай сядем, отец. Нет, не в тордохе. Пойдем к воде – у воды голове прохладней и уму спокойней.
Идти к воде – три шага. Они сели. Пурама набил трубку и отдал ее Хулархе.
– Покури, хайче, и послушай меня… Заходил я по старой дружбе к Сайрэ. Ну, сам знаешь, слухи прошли – будто он ламутам и чукчам на гонках желал только не умереть, а на победу не вдохновлял. Да и Куриль говорит, что он делал больше добра, чем зла. Наверно, тут правда: детей защищал – потому, может, перестарался. И не безбожник он… Сели пить чай, попили, начал Сайрэ вспоминать страшные случаи. Я-то шаманскую речь понимаю – и думаю: может, обо мне что сказать хочет? Нет, вроде не получается. И тут он зачем – то вспомнил сказку о том, как молодая девушка и пастух убежали от своих родителей, стали жить в медвежьей берлоге, как родился у них ребенок и как они жалели потом, что не послушали мудрых людей. Кончил он сказку, замолчал, а Пайпэткэ все смотрит на него, все смотрит. И как польются у нее из глаз слезы!.. Сама вроде не плачет, а слезы льются. «Что с тобой, – спрашиваю, – Пайпэ?» – а сам все уже понимаю… Да это что – Сайрэ потом рассказывал, что она принесет хворост, увидит корень, похожий на человечка, обязательно обрежет лишние ветки, а человечка куда – то спрячет… Детей у них нету – вот она и страдает. А жить они стали неплохо – голодные не сидят, как ты… Я говорю Сайрэ: «А вы взяли бы на прокорм девочку или парнишку. Ланга трудно живет, Хулархе нелегко, есть и другие». А он отвечает: «Взял бы. И кормил бы досыта. И Пайпэткэ было бы веселей. Да только как же спросить?»… Я скажу тебе, Хуларха, что после случая с Мельгайвачом Сайрэ будет стараться…
– Ланга, говоришь, может отдать? – спросил Хуларха спокойно – будто речь шла не о его ребенке.
– Да ты сам подумай, – сказал Пурама, – что тут страшного? Попроси его тордох переставить поближе – Халерха будет и мать и тебя видеть, а есть – пить у соседей дети легко привыкают.
– Э, нет… Ее же надо через кольцо передать! – немного отодвинулся от Пурамы старик. – А пройдет через тальниковый круг – плачь тогда или не плачь, а дитя не твое. Нет, не отдам.
– Послушай, – наклонился Пурама к его уху. – А что Сайрэ – тридцать лет от роду? Или сорок? Останется Пайпэткэ одна, замуж выйдет, и возмешь свою дочь к себе.
– Нет. Ждать смерти Сайрэ не буду. И дочь не отдам. – Хуларха возвратил Пураме трубку и встал.
– Я как есть говорил, – вздохнул Пурама. – На грех не толкал. А обиду на меня не держи.
И они разошлись.
Легко давать советы. А легче всего – несчастному. Пурама быстрей других проехал три якутских шагания – и получил за это полтора десятка оленей – от богача шурина, а если бы захотел, то получил бы и больше. Ему можно ходить по тордохам, раздавать советы, как Куриль раздавал после гонок оленей… Так рассудил Хуларха, утешая плачущую Халерху и собираясь идти за дровами.
И все – таки о предложении Пурамы он рассказал жене, когда напоил ее и дочь жиденьким чаем и задумался о завтрашнем дне. Рассказал не затем, чтобы узнать заранее известный ответ матери и этим подкрепить себя. Потеря всяких сил ожесточила его, и он хотел наконец услышать, думает ли она выздоравливать. Ответ Чирэмэде был, однако, таким, что Хуларха сначала не поверил ушам. Но вздоху облегчения и улыбке на болезненном, прозрачном и теперь очень скуластом лице не поверить было нельзя.
– Это было бы хорошо, – сказала она. – Сайрэ всегда желал нам добра. И видно, добрые люди подсказали тебе.
– Пурама приходил… – Хуларха подполз на четвереньках к спящей дочери, посмотрел на нее, а затем попятился и быстро ушел из тордоха.
Настала наконец перемена в жизни бедной семьи. Хуларха воспрянул духом. Выгребая ветку к рыбному месту, он веселей поглядывал вдаль, руки его действовали проворнее, чем в прежние дни. Он понимал, что жене очень плохо – раз она не видит другого выхода. Но дочь – то будет сыта, ему станет легче – и, глядишь, жена пойдет на поправку. А там будет видно…
И через несколько дней Хуларха привел девочку к тордоху Сайрэ. Халерха уже все понимала; она давно не носила ару[59], играла с Ханидо в оленя и волка, а то и одна убегала на холм за стойбище. От раны на ее животе остался лишь белый шрамчик… Игра взрослых ей не понравилась. Хоть дедушка Сайрэ и присел на корточки, улыбаясь и расставив руки, чтобы поймать ее, хоть красивая тетя Пайпэ и манила ее к себе, она уперлась в колени отца, начала озираться, как дикий зверек, и не хотела пролезать через кольцо, согнутое из прутика. А когда отец нагнулся, прижался щекой к ее щеке, а потом подтолкнул в кольцо – Халерха стала брыкаться, выкручиваться и вдруг завизжала, заплакала, хватаясь за руки и ноги отца.
С трудом удалось вручить девочку новым родителям. Несколько дней Халерха ничего не ела и не пила. Она или кричала, или спала. Сайрэ попеременно с женой пришлось сидеть и охранять дверь.
А в тордохе Хулархи стояла жуткая тишина: больная мать, вперив глаза в ровдугу, часто дышала, приподнималась на локтях, чтобы убедиться, не обманывают ли ее уши. И плач – то доносился до нее еле – еле, но она все слышала. Старик Хуларха жил беспокойно – то брался за любое дело с горячностью молодого мужа, то вдруг надолго цепенел и не замечал вокруг себя ничего.
Но время успокаивает кого угодно. Халерхе захотелось есть, а потом и понравилось быть всегда сытой. Да тут еще ласки и разговоры, по которым она успела соскучиться.
Сайрэ был до глубины души тронут людским доверием. Ему отдали ребенка! Слава сильного шамана – тяжелая слава. В ней перемешаны и добро и зло. И видно, сам бог надоумил людей передать ему в дочери Халерху, чтобы они поменьше думали о его первой в жизни жестокости и чаще вспоминали о детях, которых он защищал. Пусть и Куриль теперь скажет, что все шаманы – черти: детей на воспитание чертям не отдают… Впрочем, старику Сайрэ и без того надоела безрадостная жизнь, и не просто безрадостная, а переполненная еще и тревогой. Никогда и ничего шаман так не боялся, как сейчас боялся беды Пайпэткэ. Если с ней опять случится несчастье, он пропадет. Невиновный, в сущности, Мельгайвач, так страшно искупавшийся в своей крови, разоренный до конца, ставший простым пастухом Каки, а потом сумасшествие Пайпэткэ – это слишком много, чтобы люди думали о нем как о добром шамане. Тут уже одно к одному; глядишь – и в доброте увидят корысть. Быть жестоким Сайрэ не хотел – потому что жестоких бог не принимает к себе. И страшней всего было то, что сколько бы он ни камланил в последнее время, к нему ни разу не приходила догадка – чем оправдать беду Пайпэткэ, если беда случится при людях, во второй раз…
Теперь, когда он часто держит на коленях названую дочь, рассказывает ей сказки и кладет ее на ночь не сбоку, а посередине, между собой и Пайпэткэ, – дышать стало легче и тяжкие думы растаяли, как на ветру комариная туча.
И уж совсем неожиданной была эта радость для Пайпэткэ. Стояли как раз теплые летние дни, и когда Халерха накричалась вдоволь, потом до того наелась, что живот натянулся, как бубен, – они вместе ушли из тордоха далеко на берег Улуро. Тут Халерха и заснула на коленях красивой молодой тети, которая гладила ее по голове, прогоняла веткой злых комаров и, напевая, смотрела на синее озеро и на чаек в голубом небе. Хуже было, когда возвращались к стойбищу. Халерха захотела идти к маме, а не к хайче. Пришлось взять ее на руки, уговаривать и пообещать отпустить к маме завтра.
Ее и отпустили назавтра. Но она быстро вернулась – потому что дедушка Сайрэ велел Пайпэткэ шить ей одежду из новых и мягких шкур.
Пайпэткэ с утра бегала по стойбищу в поисках подходящей одежды, чтобы по ней выкроить для Халерхи шубку и все остальное.
Так и потекли летние дни, полные семейных хлопот и радостей. А однажды в тордох явился весь испачканный глиной Косчэ – Ханидо и серьезно сказал, что хочет поиграть со своей женой. И тут первый раз за все годы Пайпэткэ и Сайрэ рассмеялись, рассмеялись дружно, с какой – то прорвавшейся безудержностью – точно все прошлое было зряшной игрой в неудачную жизнь.
Сайрэ стал ходить по стойбищу как молодой – немного подпрыгивая, а его жену люди заставали озабоченной или веселой – она за шитьем пела песни, ловко орудовала у пуора, даже сплетничала. Дети играли вокруг тордоха, а если уходили на берег, к родителям Халерхи, то возвращались как ни в чем не бывало. И хоть однажды старик Хуларха сказал, что его жене вроде становится лучше, это не насторожило ни Пайпэткэ, ни Сайрэ. Потому что дело сделано полюбовно, да и было условие, что девочка может встречаться с родными, когда захочет.
Лето перевалило за середину. С каждой ночью солнце все глубже и глубже цеплялось за горизонт. Стойбище жило заботами о зиме и еще разговорами о божьем доме, который будто бы с покрова собираются строить Куриль с Мамаханом.
В эти дни в тордох Хулархи пришла коварная радость: поднялась на ноги Чирэмэде. Подняться – то она поднялась, и хорошо ей было узнать, что муж заготовил, наверное, больше других юколы, но вот дочери теперь у нее не было.
А для ее дочери между тем будто только теперь наступила весна. Лицо ее округлилось, ребрышки уже не прощупывались, как прутья в холщовом мешке. А сколько радости ей доставляли обновки! Сперва в одной пышной шубке, потом обутая и, наконец, одетая с ног до головы, она выходила каждый раз из торхода с застенчивой важностью, улыбаясь и тете, и дедушке, и каждому встречному.
Такой одетой по – зимнему, полненькой, очень довольной и увидела ее мать, случайно проходя мимо тордоха шамана. Чирэмэде не удержалась – схватила дочь, подняла мягонького, пухленького медвежонка на руки, прижалась щекой к лицу, начала нюхать, но вдруг опустила на землю и быстро – быстро пошла вниз, к своему пустому тордоху.
Что ж: мать остается матерью. И случай этот пришелся бы к ряду других – если б ночью не произошла беда, словно свалившаяся с неба и заглушившая всякие прочие разговоры и сплетни стойбища.
Со сложными чувствами легли в этот вечер спать Пайпэткэ и Сайрэ. Им было приятно, что долг перед бедной семьей они исполняют как надо, и в их сердцах даже стучала гордость: вот видите – они не могут, а мы без труда можем. Но горе матери и отца, так поспешивших с решением, заставляло молчать. С двух сторон обняв спящую девочку, они лежали не двигаясь, боясь поправить одеяло или покашлять, потому что любое движение или звук могли стать началом неловкого, тяжкого разговора о людской беде, заставляющей делать страшное дело.
Лишь к середине ночи Сайрэ захрапел. Только храпенье его тут же и оборвалось. Тихий, недетский плач, словно холодной водой, окатил его с ног до головы.
– Пайпэ – ты? Чего это ты? – спросил он, не зная, что и думать.
В ответ на это Пайпэткэ вдруг закатилась рыданием. Она стала крутить головой по свернутой в валик дохе, метаться, точно в жару.
– Да ты что, Пайпэткэ? Никак заболела? Ох, несчастье – то…
– Где несчастье? Здесь несчастье! – она постучала рукой по своей груди. – Ребенка мне дай!.. Да ты не поймешь… Одноглазенького, как ты, малюсенького. Однорукого, одноногого! Дайте ребеночка мне! Моего! Жалко вам, что ли? – Она захрипела и опять начала метаться.
Халерха вскочила, прижалась к Сайрэ, а тот, гладя ее дрожащей рукой, онемел, не зная, что делать и что сказать.
Прикрыв рот руками, Пайпэткэ голосила, шумно набирала воздух и опять голосила, не переставая крутить головой.
Сайрэ знал, что если как – нибудь не утешить ее, то может произойти самое худшее. С ней уже было это – тогда, морозной и вьюжной зимой, он успокоил ее обманом, а потом напоил горькой водой – и вернул рассудок. А что придумать сейчас? И медлить нельзя – разойдется, вскочит, начнет хохотать и побежит по стойбищу… Сайрэ решил как можно ласковей и спокойней заговорить с Халерхой – ничего другого в голову не пришло.
– Видишь, – заболела наша тетя Пайпэ… Заболела… Все болеют. И у меня спина болит, и давно болит. Только я мужчина, а мужчины не плачут… – Он прицепился к мысли о своей трудной стариковской судьбе, стараясь разжалобить и девочку, и жену.
И это подействовало. Пайпэткэ начала прислушиваться, прислушиваться и наконец замолчала.
Так они и забылись, придавленные невыносимо тяжелыми мыслями. По – настоящему заснула лишь Халерха. А старик только дремал, будто повиснув в густом тумане. Он не спал – и все – таки не слышал, как Пайпэткэ ушла из тордоха.
Вскочил Сайрэ, ничем и никем не разбуженный, – и сразу бросился к выходу.
То, что увидел Сайрэ, могло бы лишь рассмешить, если б это не было самым страшным. Пайпэткэ сидела на старой, ненужной нарте и выгибала из прутиков человечков. Она уже сделала двух – они лежали перед ее глазами на вытоптанной земле – и сейчас трудилась над третьим, высунув набок красный язык. Шаман сразу обмяк, плечи его обвалились, как подгнившие жерди. А Пайпэткэ повернула к нему лицо и улыбнулась. Гадкой и жалкой была эта улыбка, и старик весь передернулся.
– Что же ты делаешь? – тихо, дрожащим голосом заговорил он, зная, что никаких слов теперь и не нужно. – Ты ведь чертей делаешь… Вселятся в них злые духи… Ты спать хочешь, Пайпэ… Пойдем… – и вдруг Сайрэ повернулся, сгорбился и, беззвучно плача, подергивая плечами, ушел в тордох.
Он вытащил из мешка бубен, повертел его в руках – и бросил: застучать – значит разбудить Халерху, разбудить стойбище. Но, может, еще обойдется, может, повременить?
Утро было ужасным. Совсем не зная, что делать, шаман сидел возле двери, бубнил что – то себе под нос, не выпуская жену на люди. А тут поднялась Халерха. Ее надо было покормить, но старик лишь прижал ее к себе и гладил по косматой головке, продолжая шептать заклинания.
А Пайпэткэ рылась в мешке, выкидывая шкурки. Она зачем – то искала и складывала в кучу обрезки, которые остались после шитья. Потом она расстелила пыжик, сложила в него обрезки и начала делать сверток. Поднявшись, прижав этот сверток к груди и покачав его, как ребенка, она вдруг выскочила из тордоха. Сайрэ успел только рот раскрыть.
Оборвалась одна жизнь – начиналась другая… Схватив бубен, старик закричал, затопал ногами…
И стойбище засуетилось, народ потянулся на звон тревожного бубна.
А Халерха потихоньку выбралась из тордоха. Никем не замечанная, она увидела разложенных на земле человечков, села и начала с ними играть.
От этой игры ее оторвал суматошный шум. Прямо к ней шли люди, держа под руки громко кричавшую, терявшую обрезки шкурок тетю Пайпэ.
Увидев Халерху и в руках ее человечков, Пайпэткэ вырвалась, бросилась на колени, мгновенно выхватила человечков, прижала их к груди и заплакала. Но сразу же оборвав плач, она заскрипела зубами, перекосила лицо, Халерха побледнела, заморгала часто – часто, но не сдвинулась с места.
– Покалечила… Детей моих покалечила! – хрипло проговорила косматая Пайпэткэ, выпуская изо рта пену. – Смотрите – у этого ручки нет…
Еще миг – и она вцепилась бы в Халерху. Но ее схватили, потянули назад.
– Шубу я не отдам! Не отдам! Не для нее шила. Для своих детей шила. А знаете, сколько детей у меня! Три мешка… – И она захохотала.
Халерха бросилась со всех ног. Она упала, поднялась и опять побежала.
К середине дня Халерха не вернулась. Ее не было ни в тордохе шамана, ни в тордохе настоящих родителей.
Хуларха и Чирэмэде начали метаться по стойбищу. Заскочили они и к соседу Нявалу, хотя к нему надо было прийти в первую очередь. Халерхи здесь тоже не было. Старик Нявал беспокойно вязал сеть, дергая нитку; на вошедших он и не взглянул – нынче все шныряли из тордоха в тордох. Да и сам он только что был у Сайрэ.
– Ханидо! – обрадовалась Чирэмэде, увидев сына Нявала. – Ты с Халерхой не играл?
– Играл.
– Где играл?
– Там.
– Где там? Покажи.
Нявал швырнул челнок.
– Это… что? А? Беда какая опять?
– Халерха пропала.
– Не пропала, – сказал Ханидо. – Она теперь жить будет одна.
– Как – одна? Где? Покажи.
Они все вышли из тордоха, и Ханидо протянул руку, указывая на небольшой холм с обрывом:
– Там она будет жить.
– Ой, как же так? Ой, чует сердце беду, – запричитала Чирэмэде, бросившись бежать прямиком к холму.
Сил у Чирэмэде после болезни было немного, и она быстро отстала даже от мальчика, не поспевавшего по траве за мужчинами.
Холм голый, как лысина Хулархи. Кое – где на нем виднеются кучки мусора, осмотреть которые очень просто. Правда, весь он изрыт песцами и волками, но песцовые норы узкие, в них ни за что не пролезет ребенок, а волчьи хоть и пошире, но в них тоже нельзя забраться, да они неглубокие и немного их. Здесь трудно было б найти щенка. Но Халерха ведь большая…
Поднявшись на холм, Хуларха и Нявал стали кричать и оглядываться. Потом разошлись в разные стороны. Они продолжали звать Халерху, останавливаясь, ковыряя ногами мусор, заглядывая в широкие норы. Девочка не показывалась и не отзывалась.
Когда Ханидо и Чирэмэде подошли к Хулархе, тот уже тяжело дышал и был растерян, словно ребенок.
– Нету? – спросила Чирэмэде, сжимая грудь растопыренными пальцами. – Я знала, что нету. Что же теперь делать, что ж теперь будет?
Хуларха беспомощно вздернул плечи, развел руками.
– Ханидо, где ты оставил ее?
Сынишка Нявала сдвинул брови и начал осматривать землю вокруг себя. Для такого маленького человечка холм был слишком велик, чтобы не растеряться, да и примет – то никаких нет – пойди, отыщи среди тысяч норок и ямок одну! Ханидо закусил губу и мучительно, словно взрослый, припоминал.
– Там! – вдруг сказал он, показывая на землю в двадцати шагах от себя.
Он с такой же уверенностью мог бы ткнуть пальчиком и в противоположную сторону. Если бы он имел в виду обрыв или кучу мусора, родители Халерхи, конечно, сейчас же полетели туда. Но нет – он показывал на голое ровное место, и Чирэмэде лишь скривила губы.
– Ну, иди, – сказала она упавшим голосом мужу.
Ханидо побежал первым, и Хуларха безнадежно поплелся за ним. Мальчишка сразу же упал на землю, – там, наверно, была нора.
– Халерха-а! – пропел он. – Халерха!..
Но отец даже не наклонился: нора, в которую кричал Ханидо, была такой узкой, что туда могла бы пролезть лишь нога до щиколотки.
Подошла Чирэмэде. Она поглядела и отвернулась, поняв, что надеяться на ребенка нечего.
– Халерха! – уже сердито крикнул Ханидо. Он растерянно скосил черные глаза на отца пропавшей подружки и пожал плечами.
– Она сказала тебе, что будет жить в норке? А может, там, где озеро? – спросила Чирэмэде, удивившись упрямству мальчика.
– Нет – здесь, здесь она будет жить! – твердо сказал Ханидо, вставая; для убедительности он потопал ногой по самому краю норки. Глядя прямо в глаза Чирэмэде, он рассудил со вздохом: – Шубку мама Пайпэ отняла у нее, и ни одной мамы теперь у нее нет. А в норе тепло; там очень тепло – я знаю. И зимой будет тепло…
Он продолжал рассудительно и сочувственно глядеть в глаза матери Халерхи, не замечая, как все лицо ее наливается бледным бешенством.
– Кукул… – прошептала Чирэмэде, а потом захрипела: – Кукул… Кукул! Ты подсказал ей, ты!.. Все из – за него, из – за него! Дочке моей в земле будет тепло… В земле! Ты, Хуларха, слышишь, что говорит этот кукул? Из – за него все – и кровь, и болезни, и наши несчастья.
– Что причитаешь, что клянешь маленького? – одернул ее муж. – Не искали еще. Поищем – найдем.
– Ты… это… значит, сестра, зачем? Бога гневишь зачем? – вступился подошедший Нявал. – Бог послал его нам, а ты – кукул говоришь. – Он погладил сына по раскосмаченной голове. – Пойдем, Ханидо, в стойбище – людей позовем. Ты это нехорошо сделал – Халерху бросил.
Притихший, испуганный бранью, Ханидо исподлобья, как связанный зверек, поглядывал то на Чирэмэде, то на отца. И все – таки у него хватило духа сказать:
– Здесь Халерха – я знаю.
– Ладно, пойдем, – взял его за руку отец.
Оставив шамана Сайрэ наедине с помешанной, все стойбище от мала до велика потянулось к холму и к ближней едоме. И сразу же тундра, прибрежные обрывы и озерная гладь огласились протяжными криками.
Старик Сайрэ криков этих сначала не слышал, а может, слышал, да не обращал на них никакого внимания: девочка – не трубка, которую можно навсегда потерять в траве. Однако время шло, шло и шло, а люди не возвращались. И то удалявшиеся, то приближавшиеся голоса начали стегать его все больней и больней – пока он с ужасом не понял, что ему на плечи карабкается еще и вторая беда.
В углу тордоха сидела растрепанная, безобразно чесавшая ляжку жена; все лицо ее, искаженное глупой улыбкой, было измазано кровью – следами от раздавленных комаров. Стойбище словно вымерло – в нем остались лишь древний, глухой старик, две женщины с грудными детьми да он, попавший в ловушку шаман. И Сайрэ, как очутившийся в тундре ребенок, которому никто не может помочь, заплакал по – старчески, по – детски, во весь голос, навзрыд.
Но вдоволь наплакаться ему не пришлось: Пайпэткэ подобралась к нему на четвереньках – и, высунув набок язык, сопя, начала гладить по голове. Он оттолкнул ее изо всех сил и перестал плакать, зло заиграв желваками.
Прошла середина дня. Люди не возвращались, девочка не находилась.
А к вечеру он узнал, что люди обошли берег, облазили ближние скалы, оглядели почти все тальники и каждую норку на холме и берегу, но от Халерхи не было ни следа, ни звука.
Голодный, совсем убитый этой вестью, Сайрэ чуть забылся, а когда очнулся – увидел спящую Пайпэткэ и потемневший онидигил. Ничего не соображая, он выбрался наружу и быстро заковылял к озеру, туда, где стоял тордох Хулархи. Над стойбищем проплывала грязно – синяя туча и из – за таежного горизонта тоже ползли лохматые чудища дождевых туч; в мутно – красном свете жалобно пели комары – точно вдалеке плакали женщины; Малое Улуро морщилось волнами, а берег был белым от пены, как губы шамана во время камлания… Не дойдя до тордоха, Сайрэ вдруг повернул обратно. Но и до своего тордоха он не дошел – снова заковылял к озеру. Так мечется человек, который боится мертвеца, но которого все – таки к мертвецу тянет. Впрочем, шаман и в самом деле боялся подступиться к жилью Хулархи – туда вот – вот могли принести маленький трупик.
И у Сайрэ едва не подкосились ноги, когда он услышал тяжелое дыхание мужчин, а затем увидел толпу, что – то несущую на руках. Он шмыгнул за ближний тордох и с колотящимся сердцем начал подглядывать, топчась на одном месте. Нет, несли не девочку – несли женщину. Мать Халерхи несли, верней, волочили. У Сайрэ отлегло от сердца: волочат – значит, жива. «А где же девочка? Может, ее другие несут?» – Старик опять насторожился и начал всматриваться в даль. Нет, люди плелись с холма поодиночке, по двое и, кажется, ничего не несли.
«Не нашли девчонку», – решил Сайрэ и быстро, стараясь не столкнуться с кем – либо из людей, засеменил к своему тордоху.
Много горьких, тяжких и страшных ночей пережило бедняцкое стойбище. Но эта была особенной, не такой, как другие. Ужас черной птицей кружился не только в тордохе несчастных родителей. Люди в беде привыкли надеяться на шаманов, привыкли узнавать от них тайну, получать совет, а то и избавление от беды. Но на этот раз беда ворвалась и в тордох шамана, да не одна, а две сразу, да еще в тордох не простого шамана, сильнейшего и прославленного. И люди, вдруг лишившись надежды, растерялись, не зная, что делать, что думать. К тому же ночь была хмурой, ветреной и дождливой и тянулась она не по – летнему долго, будто нарочно растягивая тревогу.
Поздно вечером, в самую темноту, перед утром люди подходили то к тордоху бедного Хулархи, то к тордоху Сайрэ. Но лучше бы и не подходили. Под вой ветра и шум кипящего озера мать пропавшей девочки жутко кричала или причитала, словно помешанная, а Хуларха метался, без конца выбегая к берегу, о который хлестали тяжелые волны, – с ног до головы мокрый, он ни с кем не разговаривал, боясь выпустить изо рта трубку и в отчаянии разреветься. Зайти к шаману Сайрэ, потолковать с ним было страшно и безнадежно: укрывшись шкурой, старик лежал возле двери, вертелся, будто от нестерпимой боли, и громко, без перерывов стонал. Один раз к шаману все же зашли.
Муки Сайрэ совсем растревожили стойбище. Люди знали, что ему тяжело, но старик не просто страдал – он корчился, не мог говорить – и это казалось третьей бедой. А три беды, да еще таких, вырастали в напасть, которая неизвестно куда ведет и чем кончится.
Шамана, однако, не пожирали духи и корчила его не болезнь. Правда, его беспощадно грыз голод – так сильно, что сердце стучало будто не в груди, а в желудке, и совсем ничего не видел его воспалившийся зрячий глаз, но все это старик перенес бы без звука. Сайрэ подкосили видения. Как только хлынул дождь, он невольно представил себе одинокую девочку в тундре, мокрую, потерявшую голос от крика и холода, – и едва не закричал сам. А в следующий миг случилось настоящее чудо – Сайрэ почувствовал, что из – под ноги его выскочил камень, а тело ринулось вниз. Тоненький корешок, за который схватилась рука, остановил падение, но Сайрэ повис над обрывом и явственно увидел внизу острые камни и тинистую воду меж камней… Все это было давно, в тот день, когда сокол раскровавил ему лицо и когда к нему пришло вдохновение. Нет, он сейчас висел над обрывом, сейчас – не может же быть, чтобы спустя пятьдесят лет рука чувствовала, как сползает с корешка кожура, а носок ноги лихорадочно ищет опору!.. Испугавшись видения, старик сбросил шкуру, сел и перекрестился. Но вдохновение не пропадало. Глядя в кромешную тьму тордоха, Сайрэ вдруг увидел восходящее солнце со срезанною тучей макушкой, увидел девушку, робко шагавшую с подстилками на плече. И ему опять, как и в то хорошее утро, показалось, что солнце садится, но что сам он смотрит на землю сверху, из облаков… Видение это, однако, быстро сменилось другим: буран и мороз, и Пайпэткэ босиком бредет по сугробу – ищет следы. Громко и страшно ухает лед на озере. А вот уже и тот, чьи следы она ищет, – в огромной теплой яранге он кувыркается по лужам своей крови и обливает кровью богатые полога – серые, пятнистые, с подпалинами…
Чавканье грязи под ногами идущих людей оборвало видение. Сайрэ быстро лег, рывком накинул на себя одеяло – шкуру и, укрывшись с головой, застонал.
С вошедшими он не стал разговаривать. Он принялся стонать все громче и громче, пока не разбудил Пайнэткэ. Люди смолкли, пошептались и тихо ушли.
Они просили покамланить старику Хулархе – поискать следы девочки. Они надеялись, что великий шаман поднимется над своей личной бедой, а потом поднимется выше – и из верхнего мира посмотрит на стойбище и на всех юкагиров: может, не в духах дело, а в сатане, может, надо ехать к попу и просить у него защиту?.. Сайрэ слышал каждое слово, но он еще не успел опомниться от страшных видений и вгорячах едва не закричал людям в спины: «Да, я во всем виноват, я! Как же не видите этого? И пусть меня одного покарает бог…» Но нет, он не закричал так. Потому что понял: люди лишь испугаются, уйдут – и сейчас же скажут, что он, как и жена, тоже теряет ум… Рассудив так, Сайрэ неожиданно успокоился: «Чего это раскряхтелся я! – скинул он с себя шкуру. – Беда с девчонкой – беда отдельная. Тут нету моей вины. Плохо с ней обращался? Еду и шкуры жалел? Все видели, что не жалел… – Старик на четвереньках пополз к мешкам, в одном из которых хранились бубен и амулеты. – К Тачане камланить пойду», – решил он, и рука его быстро нащупала ободок бубна.
Нет, старик шаман только храбрился: никуда идти он не мог, а камланить за эти сутки пытался не раз. Сайрэ недаром часто крестился, недаром вспоминал светловолосого бога. Еще прошлым утром, когда Пайпэткэ навсегда потеряла ум, он почувствовал на себе спокойный, но упрямый взгляд верхнеколымского старца шамана. С тех пор он почти беспрерывно видел его лицо – от мудрости помутневшие глаза, уверенно перекошенный рот и важно отвисшую нижнюю губу. Это он, безымянный шаман – якут, умевший глядеть далеко вперед, оставил ему врага, врага самого страшного и самого нужного – бродячего духа Мельгайвача. Он знал все, он и Сайрэ видел насквозь, как ледышку… И Сайрэ в этот тяжелый день тысячи раз свалил бы обе беды или одну из них на духа чукчи – потому что другого выхода у него не было. И люди поверили бы. Поверили – да не все и не надолго. Язык Лэмбукиэ иглой не проколешь. Пурама теперь наверняка дышит огнем: он советовал Хулархе отдать дочь, он и ищет ответ – почему все так получилось. Но, кроме них, есть еще и Куриль. Этот рассвирепеет, как весной медведица, – растопчет и заплюет тордох… Люди, однако, людьми: возненавидят – простят, убивать не станут, голодом не замучают. Перед богом страшно. А ведь была прямая дорога к нему, и была надежда вернуться после смерти на землю…
Озираясь по сторонам, Сайрэ сидел возле мешка и напряженно угадывал, какие слова придут ему на язык после того, как он распалится под грохот бубна. Так он никогда не делал: он считал нечестным, не достойным шамана заранее придумывать речи. Но сейчас он боялся самого себя. Не будет, не может быть иного видения, кроме того, которое знают все, – Халерху испугала сумасшедшая Пайпэткэ. Эта картина выплывет из черно – красных бликов, и никуда от нее не уйдешь. Придется сказать. Но тогда придется сказать и о том, почему Пайпэткэ – его жена, жена такого большого шамана – лишилась ума. Что начнет лепетать язык, что?
И тут Сайрэ вдруг закрыл руками лицо, заголосил, все сильней и сильней раскачиваясь из стороны в сторону. Он понял, что вдохновение было уже и все видения были; под грохот бубна видения эти лишь повторятся – только более ярко и более живо. След к девочке Халерхе потянется от его тордоха – другого начала нет и придумать его нельзя. Где и как оборвется след? А может, уже оборвался? А если утром мутные волны Улуро выбросят на берег мертвую девочку? Что скажут люди? Почему не помог, почему не камланил? И почему вообще такие страшные беды цепляют близких к шаману людей, близких и совершенно невинных?..
– Халагайуо![60] – выкрикнул Сайрэ и запричитал: – Всемогущий светловолосый бог! Найди и спаси девочку. Она не виновата ни в чем. А с меня и того хватит, что малый ребенок ушел в тундру из стойбища, ушел от шамана дряхлого и отца плохого…
После дождя сучья горели плохо, но люди поливали костры рыбьим жиром, бросали в него рыбьи пупки – и густые дымы из тордохов дружно тянулись в серое подвижное небо. Шли третьи сутки, как у бедного рыбака Хулархи бесследно пропала дочь, как сошла с ума жена у шамана и как сам шаман не показывался на глаза. И людям ничего не осталось, кроме обращения с мольбами и заклинаниями к властелину – огню Мэру[61]. Много судачили перед этим, в чем только не искали причину жестоких несчастий, какие ужасы не предсказывали на будущее. Но в конце концов сошлись на мысли, что юкагирам мстит бродячий дух Мельгайвача и другие чукотские духи и что надо ждать новых бед. Особенно усердствовали старухи и старики, знавшие грозную правду о тундре, о мстительных духах и не ожидавшие от жизни никакого добра.
Не все в этот день кормили огонь. Одни мужчины бродили по берегам, иные по ивнякам, по кочкарнику, по раскисшей тундре. А Пурама вроде бы ничего не делал – он слонялся по стойбищу и шептался с людьми. У Пурамы, однако, был замысел, но он побаивался говорить о нем вслух. Собрался он разрывать волчьи и песцовые норы – там, на холме, где играли дети. Ну, а кто ж сочтет его за умного человека: холм не кочка, нор не перечтешь, сырую глину костяными лопатами и топорами не очень – то раскидаешь. Да и как это можно раскапывать нижний мир?!
Зашел Пурама в один тордох – а там старые муж и жена по очереди поливают костер рыбьим жиром и по очереди бубнят заклинание:
– Кушайте, великие чукотские духи, кушайте! Мы преклоняемся перед вами. Не шаманы мы, а простые люди. Мы знаем, что вы не слепые и не глухие. Пусть ваши уши услышат нашу мольбу, а глаза посмотрят на нашу бедность. Видите наш тордох? Он пустой внутри и дырявый. А жалкую нашу посуду видите? Она чистая, потому что в ней давно ничего не лежало… Не трогайте нас, великие духи…
Берет муж из рук жены костяную ложку, берет черный котелок с жиром и тоже начинает кормить огонь и духов:
– Залатал бы я тордох свой, великие духи, да ровдуга вся прогнила, безоленный я человек. А на вешалах моих уже давно не висит ни одной юколы: вся съедена да променена. А как же зиму – то жить, великие духи? Зачем вы боретесь с нами, с такими бедными и слабыми? Пожалейте нас. Боритесь с сильными, а нас пожалейте, великие духи…
Послушал – послушал Пурама – да и ушел. Тут, видно, не до чужой беды – маленькая беда ворвется сюда, и пропала семья. И сил у мужика, наверное, нет, чтобы землю копать.
А рядом тордох старухи Лэмбукиэ. Вот здесь иной разговор будет. Пурама в дверь, а ему навстречу Пайпэткэ и старуха.
– Хороший у тебя сын, хороший, – выталкивает Лэмбукиэ сумасшедшую. – Вот счастье – то шаману Сайрэ!.. Ты только закручивай его лучше, а то маленькому после дождя холодно…
Высунув набок язык, несчастная красавица Пайпэткэ неловко пеленает дощечку от ящика, и дверь запахивается за ней.
– Уходите – ка, мужики, наружу: я одна заклинать буду, – прогоняет Лэмбукиэ мужа и гостя.
Кряхтя, старик поднимается от костра.
Стоя возле тордоха, мужчины безмолвно смотрят вслед Пайпэткэ, пошагавшей дальше хвастаться сыном – красавцем… Слова на язык не приходят.
А старуха уже причитает:
– Ой, великий огонь Мэру! Угости чукотских духов и передай мою просьбу. Пусть они не трогают нас, плохих и бедных людей, пусть не дразнят и пожалеют наших глупых, сопливых детишек, пусть они не повалят наши нищенские тордохи. О, великий хайче, огонь Мэру! Послушай меня и передай духам слова мои. Пусть чукотские духи нападают только на гордых людей, которые называют себя хорошими, пусть душат детей шаманов и богачей – сытых, чистых и довольных, пусть они повалят на землю огромные, как холмы, тордохи жадных людей. Огонь Мэру, передай бродячему духу Мельгайвача – пусть он мстит, но не близким к шаману нашему людям, которые не виноваты ни в чем, а самому шаману Сайрэ. Пусть поиграет с ним…
– Сирайкан старуха! – чуть не подпрыгнул на месте старик. – Что ты болтаешь там! – он откинул дверь и на четвереньках юркнул в тордох. – Грешные слова говоришь, безумная. Хайче, огонь Мэру! Моя старуха настоящая дура…
Мешать человеку во время кормления огня, однако, нельзя, и старик застонал.
Пурама не ушел. Он дождался конца кормления, а вместе с этим и конца ссоры.
– Бабушка Лэмбукиэ, выйди наружу поговорить, – попросил он.
– Что Пурама скажет? – вынула старуха изо рта трубку. – А чего не в тордохе сказать? Заходи.
– Лопата есть у тебя?
– Лопата? – глаза Лэмбукиэ с неодинаково нависшими веками сверкнули белками, а рука с трубкой начертила в воздухе перед грудью крест.
– Нет, что ты, старая! Совсем другое сказать пришел. Думаю, жива, может, девчонка еще. Не духи беду принесли, не от духов и помощи жди. Волчьи норы хочу на холме расковырять. Да одному тяжело. Хожу вот – людей зову. Пойдем и ты, Лэмбукиэ!
– А я не мужик. И какая копальщица я! – старуха протянула сухие морщинистые руки, но быстро убрала их. – На грешное дело зовешь! Холм копать, пробивать землю. А бог?
– Грехов на нашем стойбище мало? – вмешался старик. – Ты еще живым хочешь войти в нижний мир…
– Грехи, грехи! – разозлился Пурама. – А кто из юкагиров толком о боге что – нибудь знает? Будет церковь и поп – тогда и узнаем, что грешно, а что нет. А если не знаем, то за что же будет наказывать бог?.. Все пойдем. Может, девчонка в норе задыхается. За спасение, думаю, бог не накажет… Пойдете вы – и другие пойдут.
– Как ты сказал? От человека беда пришла? – спросила Лэмбукиэ и другим голосом пробормотала: –
Я на Сайрэ всю жизнь косо гляжу…
– Оттого и косая, – вставил старик.
– Косая, да не слепая…
Дымы над стойбищем потихоньку начали исчезать, и люди с роговыми лопатами, пешнями и топорами потянулись к холму. Старики шли молча, воровато оглядываясь назад, будто прося прощения у своих очагов, молодые тоже молчали, поглощенные ожиданием чего – то неожиданного, может быть, страшного, а детвора, запуганная стариками, жалась к матерям и отцам.
Пурама и Нявал решили раскапывать старые волчьи норы, заваленные мусором и сохлым бурьяном. Оба в свое время играли здесь и потому знали, что именно тут можно спрятаться. Они взяли лопаты, разом перекрестились – и ударили выше одной и той же норы. Грудка глины обрушилась.
– Это птичка клюнула, это птичка сделала! – проговорила выскочившая вперед шаманка Тачана. Она бросилась к другим мужчинам, начавшим рыть землю, и снова проговорила: – Это птичка сделала, это птичка клюнула. – Шаманка заклинала духов не беспокоиться и не злиться.
То, что увидели люди, когда мусор был раскидан, а старые волчьи норы раскопаны, никому из них и во сне не снилось. Там, в глубине холма, оказался настоящий песцовый город. В стойбище, наверное, не было человека, который в детстве не играл бы на этом холме, но никто и подозревать не мог, что внутри он дырявый, как оленье легкое. Ходы пронизывали его и так и сяк, пересекались, образуя большие ямы, расширялись, раздваивались. Увидев этот странный подземный мир, люди сперва оторопели, но потом с новой силой, с азартом взялись за дело. Никто уж не сомневался, что девочка где – то здесь.
Боязнь натолкнуться на мертвую и желание скорее помочь, если девчонка жива, сделали людей непохожими на себя. Они копали и рубили землю со злостью, с остервенением. Многие из них не так давно молились огню, думали только о духах и боге, но сейчас живой человек – Пурама – был для них и умней, и нужней любого шамана. Какой шаман подсказал бы, какой решился проломить нижний мир?! Правда, вслух говорили, что Пураму вразумил бог.
Почуяв, что люди напали на верный след, старик Хуларха побежал в стойбище за женой. Однако вернулся, смекнув, что жена тут же умрет, если дочь найдут мертвой.
Но Чирэмэде уже и без него обо всем сказали – и она сама кое – как добралась до холма.
Увидела Чирэмэде развороченный холм и дружно работающих людей – схватилась руками за голову, закричала не своим голосом:
– Не надо, не надо больше копать! Маленькая она, маленькая, а яма такая большая… Зачем ей такая большая могила?
Ноги у нее подкосились, и она упала, начав биться в судороге.
Ее подхватили и поволокли в стойбище: живого человека нельзя нести на руках – поднятый, он похож на покойника.
Взрослым с охотой помогали мальчишки. Они залезали в норы, исчезали там, кричали, звали Халерху, а когда выбирались наружу, – говорили взрослым, надо копать дальше или не надо. С ног до головы был измазан глиной и сынишка Нявала. Старик не щадил Ханидо: он заставлял его пролезать в узкие норки и часто вытаскивал обратно за ноги. Старику очень хотелось, чтобы именно его сын, а не чей – либо другой, первым нашел девочку. Человек темный, забитый до крайности, он, однако, хорошо понимал, что к чему. По его разумению, Халерха не должна умереть, потому что все норки в конечном счете выходят наружу, и дышать под землей, стало быть, можно. Ханидо предрекли большую судьбу, и кому, как не Ханидо, обрадовать стойбище. Да и Чирэмэде перестанет скулить, что его сын родился на погибель ее дочери.
Старался отец – и не замечал, что парнишка давно уже хнычет. Там, под землей, Ханидо звал Халерху не с надеждой, а с настоящей злостью. Но ведь это же под землей! А если он вылезет, то принимался усиленно ковырять пальцем в носу и скрывал слезы.
Когда дело подошло к сумеркам, а холм был порядком распотрошен, надежды погасли. Люди крепко устали. Начали говорить о неудаче, о том, что надо возвращаться к своим очагам. И тут вдруг обнаружилось, что исчез Ханидо. Нявал отмахнулся: сын, видимо, проголодался и убежал в стойбище. Однако неожиданно среди людей появился куда – то уходивший старик Хуларха, который остановился над ямой и, покачав лысой коричневой головой, проговорил:
– Зря. Все зря. Не тут копаем. Поговорить бы надо с твоим парнишкой…
– А это… Как его… Он ушел.
– Не теперь. Сначала бы. Вон там, на той стороне холма он кличет ее.
Подняв лопаты, пешни и топоры, люди разом двинулись на вершину – и сразу остановились. Ханидо ничком лежал недалеко на ровном месте и громко причитал:
– Дура ты, дура. Чего не вылезаешь? Не будешь есть – умрешь. Халер – ха – а-а… Энэ[62] кушать зовет!
Все бросились вниз, тут же оттащили парнишку и, не раздумывая, стали копать. Теперь уже никого не удивляло, что Ханидо кричал в узкую норку: голова пролезет, значит, и плечи пролезут, а дальше может быть яма – лежбище.
Хуларха и Нявал вспомнили, что и три дня назад Ханидо показывал это же неприметное место. Они стали швырять лопатами землю, стараясь как можно быстрей расширить нору. Другие работали рядом.
Но люди напрасно отдавали последние силы. Углубившись, они видели то же самое – сплошь дырявую землю. Стали кричать, звать Халерху. Ничего не услышав в ответ, снова взялись за лопаты. А тем временем быстро смеркалось: тучи, едва показавшие в своих трещинах зарево, как – то сразу соединились, и скат холма почернел, почернела под лопатами и бурая глина. То ли радуясь тьме, то ли озлобившись, то ли на ветру лучше почуяв запах пота, комары набросились на людей, как бешеные собаки.
Весь холм раскидать не было сил. И потащились улурочи по своим тордохам с дрожащими, напрасно натруженными руками и с опустошенными от неудачи душами.
Дурное настроение, однако, быстро и неожиданно попятилось от людей. Ветер донес от стойбищ грохот бубна. Звуки были сильными, бодрыми и все уже издали догадались, что камланит Сайрэ. Кому он камланит, откуда пришли к нему силы, что он хочет узнать и сделать – все это было загадкой, но все это было не так уж и важно. Сайрэ ожил и камланил – значит, произошла какая – то перемена. Люди стойбища сильно устали за эти дни, и для них уже было радостью то, что жизнь вроде бы возвращается в свою протоку. Пусть в стойбище будет одна помешанная, пусть не найдется ребенок – с этим придется смириться, и люди смирятся, но жить без бубна, в тревоге, так, как прошли эти дни, невыносимо.
А в стойбище ничего не случилось. Халерха не пришла, Пайпэткэ сидела возле чужого тордоха и впотьмах что – то чертила на земле пальцем. И все – таки хорошо, что Сайрэ застучал в бубен…
Тучи сплошной ровдугой неслись по небу до самой зари. Сквозь них не проглянуло ни единой звезды, но они и не уронили ни капли дождя. К восходу солнца уже не тучи, а облака быстро плыли по холодному синему небу… Детвора спала в этот раз крепко и долго. А когда высыпала из тордохов, радостные голоса будто согрели холодный день: земля просохла, солнце то исчезало, то появлялось, меняя окраску тундры и умиротворенного озера. Первым делом ребятня бросилась к своему холму – надо же было им поглядеть, что там вчера понаделали взрослые. Все собрались, конечно, у самой большой ямы – и пятилетние и пятнадцатилетние. Не было среди них одного Ханидо: он слишком много лазил по узким норкам, и теперь у него болели кости.
Все, как есть, оглядели детишки и направились было ко второй яме, как вдруг кинулись вниз. Нет, они не побежали, а бросились сломя голову – все сразу, с дикими криками; те, кто побольше, мгновенно оказались внизу, меньшие падали, визжали, ползли, катились беспомощно – кувырком.
Из тордохов повыскакивали матери и отцы, а потом и все остальные.
– Там, там!.. – боясь оглянуться назад, бестолково кричали бежавшие. Даже не останавливаясь возле взрослых, они понеслись дальше, к своим тордохам.
Со свирепым визгом и лаем выскочили и бросились через луг собаки. Словно дробь из ружья, они полетели прямо к холму, оставив далеко позади мужчин, бежавших узнать, в чем дело. Но тут произошло непонятное. Детей кто – то преследовал. Мужчины остановились, замешкались, не веря своим глазам. Самых маленьких уже догоняло какое – то чудище. На голове у него что – то торчало в разные стороны, руки с растаращенными пальцами были разведены и готовы вот – вот схватить отставшую девочку, лицо и все тело покрывали желтые клочья шерсти. Пока мужчины топтались на месте, в стойбище поднялась настоящая паника. Крестившиеся изо всех сил старухи и старики, услышав крики «Дух!», «Мельгайвач!», «Пропали!» – начали прятаться. Чтобы их не увидел дух, они упали на колени – и на четвереньках, ползком скрылись в тордохах. Визг, крики, непонятное бормотание неслись по стойбищу. И никто не знает, чем бы все это кончилось, если бы не собаки, которые, как оказалось, безошибочно отличают духа от человека. Правда, тут еще так получилось, что страшное существо споткнулось и упало самым беспомощным образом. И вот собаки, с яростью налетев со всех сторон, не стали разрывать на части упавшего духа. Напротив, они ласково завизжали, завиляли хвостами и сразу же разбрелись по холму…
Халерху несли на руках. Была ли она бледной, была ли поцарапанной, этого никто бы не смог определить, потому что все лицо ее покрывала засохшая глина. Глиной были напрочь забиты уши, глаза – песком, волосы слиплись клочьями, одежду ни за что не узнала бы шившая ее Пайпэткэ, будь она трижды нормальной. Не плакала Халерха, а урчала, как беспомощный новорожденный теленок.
Мать Чирэмэде пришла в себя лишь после того, как женщины отмыли ее дочь, одели во все чистое и дали поесть.
Ни о чем девочку не расспрашивали – точно ничего не было, а если и было, то лишь во сне.
Тут в тордохе и появился Сайрэ. Он вошел тихо, кивнул Чирэмэде и Хулархе, осторожно сел в сторонке и, закрыв глаз, точно задремав, начал негромко, медленно постукивать в бубен. Он не обращал внимания на толпившихся людей и ничего не ответил, даже не открыл глаза, когда Чирэмэде сказала:
– До смерти буду благодарить тебя, хайче Сайрэ. Один ты мог показать ей дорогу из нижнего мира…
Под мерный звук бубна Халерха и заснула.
А к вечеру вешало Сайрэ отяжелело, прогнулось от жирных юкол.
59
Ара – съемный клапан из мягкой шкурки, нечто вроде подгузника.
60
Халагайуо! – «Ой!» – междометие (от юкагир. «халиго» – «боязно»).
61
Мэру – ритуальное название огня.
62
Энэ – мама.