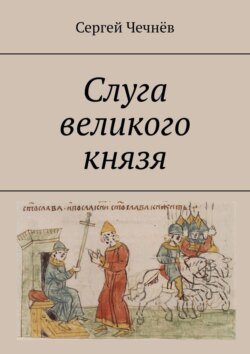Читать книгу Слуга великого князя - Сергей Чечнёв - Страница 2
Глава 1
Оглавление13 февраля 1446 г.
Обитель Св. Троицы близ Радонежа
Никита очнулся от гулкого стука над головой. Три низких, раскатистых удара прозвучали где-то сквозь сон, отозвались в холодных каменных стенах и долго не смолкали, словно повиснув в воздухе. Никита приоткрыл тяжелые от дремоты глаза. Темень. Хоть глаз выколи. Что сейчас: уже утро, или еще ночь? А хоть бы и утро – веки словно пудовые камни, сами так и закрываются. Ничего, можно еще немного поспать. До заутрени. Или до обедни. Да нет. Стучат. Надо вставать, узнать, что там…
Глаза сомкнулись сами собой, и Никита почувствовал, как погружается в блаженную полудрему. Вот так можно лежать, ни о чем не печалится, никуда не спешить, в сладком небытие между сном и явью.
Только нет, почему-то стало неуютно. Никита почувствовал во всем теле ноющую ломоту. Холодно. Как же здесь холодно. Никита поджал ноги и свернулся калачиком, пытаясь унять озноб. Нет, не помогает. Не спасает ни овечий зипун, ни шапка на собачьем меху, ни валенки, ни рукавицы. Холод подступал откуда-то изнутри, то и дел сковывая все тело.
Полудрема превращалась в пытку. Ломота сменилась тупыми, деревенящими судорогами. Никита продолжал упрямо держать веки сомкнутыми, надеясь, что холод все же отступит, но задремать он уже не мог. В голове, словно хоровод на Масленицу, завертелась череда вчерашних событий, унося с собой остатки сна, возвращая его в суровую, холодную явь, в которую возвращаться совсем не хотелось. Он вспомнил, как оказался здесь: как вчера вечером, прячась от отца игумена, забрался в подклеть Троицкой церкви, решил, что переночует тут, чтобы назавтра снова явиться к нему, снова просить о милости – отец игумен тогда точно поймет, что Никита все решил твердо, не погонит – как примостился под каменной лестницей, между сундуками, подстелив на пол какую-то найденную тут же рогожку, и не заметил как уснул…
Над головой снова раздался стук. Гулкий, гудящий. Словно кто-то бил тараном в железную дверь. Раз, два… Никита открыл глаза. Теперь он совсем проснулся. Вздрагивая от холода, он приподнял голову, посмотрел вверх, туда, где в конце лестницы сквозь узкую щель в потайной двери пробивалась полоска тусклого света, и напряженно прислушался. Голоса. Приглушенные, низкие. Слов не разобрать. «Неужели это за мной», – промелькнуло в голове у Никиты. «Нет, не может быть. Отец игумен хоть вчера и кричал, что если еще раз увидит, велит выпороть, да разве знает, что я остался? Разве станет искать, тем более здесь? Он про меня наверное и думать забыл.» Голоса смолкли, но Никита продолжал вслушиваться в тишину, стараясь дышать через раз. От этого дыхание становилось еще учащенней. Нет, надо успокоиться. Глубокий вдох – выдох, глубокий вдох – выдох.
«Отворяй!» – донеслось сверху. Пронзительный, истошный крик. Никите показалось, что прокричали именно так: «Отворяй!» Его сердце бешено заколотилось. «Это за мной!» – застучало в висках. Нет! Он никуда не пойдет. Пусть хватают. Пусть бьют, хоть до полусмерти. Уж лучше розги, чем унижение, чем смертная обида, чем на всю жизнь клеймо! Предательская слеза навернулась на глаза. Ну где же в этом мире справедливость?! Прожил он на свете семнадцать лет и еще до вчерашнего дня считал себя счастливым: еще бы, кому из дворовых так повезло – сам боярин Семен Плещеев, на Москве не последний человек, чашник великого князя, взял его к себе в отроки, вместе с сыновьями своими грамоте и ратному делу обучил, при себе держал, в походы брал. Что и говорить – жилось как у Христа за пазухой. Эх, матушка, матушка! Зачем рассказала все, зачем в один миг разбила ему жизнь? Верно сказано в Писании: «во многой мудрости много печали, и кто умножает познания – умножает скорбь!»
Никита силился сдержать слезу, но к горлу уже подступал комок отчаяния. Вот так же билось его сердце, когда вчера позвали его на двор, сказали, что матушка вдруг занемогла, захотела повидаться перед смертью. И так же заплакал он от горя и обиды, когда услышал из матушкиных уст признание: не сын он ей! Отец его – боярин Семен Плещеев, а кто его мать, она не знает; когда он родился, боярин приказал ей взять его в дом, да наказал никому об этом не рассказывать, и прежде всего – самому Никите. Да только не может она перед смертью молчать, не простит ей Господь такой грех…
Никита обхватил голову руками, не в силах справиться с бешеным галопом воспоминаний. Вот так же и вчера, выбегая со двора в слезах, он вдруг увидел то, чего не видел семнадцать лет, почувствовал то, чего раньше и не замечал. Что он, сын боярина, был не ровня своим сводным братьям. Что он всегда был холопом, из милости приживающимся на боярском дворе. Что в детских играх он всегда был отроком или кащеем («Еще дворовому князем быть!»), за столом с боярскими детьми не обедал, в походы ходил пешцем («Не место дворовому на коне!»), да и жил не на боярской половине, а вместе с ключником Акимом. Пока считал себя дворовым – знал: так в мире заведено, холопское дело – сносить обиды. Но если ты боярский сын, и твой отец тебя не признает, как с этим прожить?!
Никита отпустил голову, поправил шапку, еще раз взглянул наверх. Кому нужна вся эта боярская наука, когда ему суждено оставаться холопом? Считать отца господином, видеть его только когда позовет, ни разу в жизни не услышать от него ласкового слова, не поговорить с ним по душам, всю жизнь притворяться, оставаться чужим – одним на всем белом свете!
Никита смахнул рукавицей со щеки все-таки пробившуюся слезу и всхлипнул. Это наверное самое страшное в жизни – когда тебя никто не любит, когда никому, даже самому родному человеку, ты не нужен.
Нет, не вернется он на Москву. Как вчера решил – так и будет. Не жить ему в миру. Единственное, что спасет его от себя – это постриг. Напрасно что ли сто верст по снегу и сугробам, в мороз и ветер пробирался до Троицкой обители, коня загнал. И игумена он не боится. Вчера тот назвал его полоумным мальчишкой, велел домой убираться. Но не тут-то было.
Никите вдруг стало так обидно, что даже в Божьей обители не нашлось для него справедливости, что он и сам не заметил, как напряглись его скулы и заходили ходуном желваки.
«Хватит! Не стану отсиживаться!, – скомандовал он себе. – Вот сейчас пойду и скажу ему, что он хуже татарина – христианскую душу гонит из райского приюта. Пусть вспомнит святителя Сергия. Тот, говорят, принимал всех, всем у него место находилось, а я, видите ли, Богу не нужен?!»
Никита резким движением привстал и, оперевшись рукой о ступеньку каменной лестницы, распрямился. Посмотрел наверх. На мгновение прислушался. Тихо. Никита забрался на лестницу и, вздрагивая от холода, начал почти на четвереньках, опираясь то и дело на руки, подниматься по ступеням.
Добравшись до потайной двери в полу, он примостился под нее плечом, чуть приподнял тяжелую железную створку, просунул голову и, придерживая створку рукой, откинул ее назад. Створка отворилась мягко, даже не скрипнула.
Потайная дверь выходила рядом с алтарем, почти на солею, слева от амвона. Отсюда было трудно разглядеть остальную церковь, поскольку амвон образовывал как бы отдельную клеть – слева и справа от прохода в неф были устроены раки с мощами святителей Сергия и Зиновия, каждая под пышной сенью с колоннами. Ухватившись руками за края узкого отверстия, Никита поднялся еще на несколько ступеней, пока не вылез по пояс. От алтаря пахнуло теплой волной от десятков горящих свечей и лампад. После подклетной темени полумрак амвона показался Никите ярким светом.
Быстро оглядевшись, Никита, однако, к своему удивлению обнаружил, что у алтаря никого не было. Как же так? Этого не может быть. Он же слышал голоса. И стук. Неужели, почудилось? Или это засада? Вот вылезет он сейчас, станет выходить, а с той стороны за проходом отец игумен с монахами спрятались – хвать! и повязали ослушника… Никита почувствовал, как снова заколотилось его сердце. На мгновение он замер, встретившись глазами с иконой Спасителя на Царских Вратах. Да нет же, все решено. Схватят, не схватят – теперь это уже не важно.
Никита выбрался наружу и тихонько притворил потайную дверь. Снова прислушался. И в эту секунду легкий холодок пробежал в его груди. Он снова услышал голоса, вернее, один голос, очень близко, за проходом с амвона, с той стороны, где устроена была рака святителя Сергия. Голос тихий, но твердый, даже властный: «Что решил, государь?»