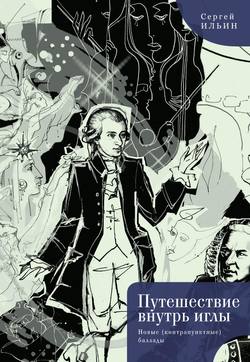Читать книгу Путешествие внутрь иглы. Новые (конструктивные) баллады - Сергей Ильин - Страница 24
XXIII. Баллада о Слепой Женщине
Оглавление1
В те же часы и на том же углу:
чужда добру, а тем более злу,
что так сближает всех зрячих людей —
точно съестное случайных гостей —
пела – одна перед пестрой толпой —
женщина, что от рожденья слепой,
как утверждают зеваки, была.
Рядом собачка в корзинке спала.
Был ее голос слегка грубоват.
Жест полных рук также чуть угловат.
Голову к солнцу она подняла —
нежит безглазье слепящая мгла.
Тихо в пустых и зеркальных зрачках
небо плывет в надувных облаках.
Да и весь город с его суетой
там приумолк – за нездешней чертой.
А между тем из снующих людей
каждый задерживал взгляд свой на ней:
что ж, к негативу слепого лица
склонны присматриваться без конца
мы – любопытство нам трудно унять:
душу без глаз невозможно понять.
Кто-то монетку ей в блюдце бросал.
Кто-то словцом остроумным блистал.
Кто-то, ее пародируя, пел.
Кто-то еще на собачку глядел.
В общем, людей и вещей длинный ряд,
к ней прикоснувшись, как будто обряд —
низкий? высокий ли? но – исполнял,
и только вид напускной сохранял,
что они нынче от мира сего,
и в них неясного нет ничего.
Если бы пестрая знала толпа:
женщина, что от рожденья слепа,
здесь не за тем, чтоб людей удивить —
кошечек дома ей нужно кормить.
Сам я, едва лишь об этом узнал,
разом нашел, что так долго искал:
там, где сочувствия полного нет,
тайны игривой мерещится свет.
Если ж сочувствием сердце полно,
к тайне любой безразлично оно.
Это к тому я упорно клоню,
что для начала в себе на корню
я бы ту склонность хотел упразднить,
что заставляет нас больше ценить
тайну, чем близких вокруг нас существ,
тайну как сгусток тончайших веществ…
Разве не грех – отдавать веществам
больше любви, чем живым существам?
Как никогда на слепую смотрел
я – и впервые, быть может, прозрел.
2
Приходилось ли вам замечать, любезный читатель, что лица слепых людей по причине отсутствующего выражения глаз выглядят почти всегда для нас, зрячих, отчуждающе и безобразно, но при всем этом вызывают, как правило, безотчетное чувство общечеловеческого, я бы даже сказал, космического сострадания, причем достаточно интенсивного порядка, так что слезы сами наворачиваются на глазах?
Иной раз приходится видеть несчастья неизмеримо большего масштаба, а глаза не плачут, в чем причина? причина, думается, в кратковременном исчезновении привычной иерархии в оценке вещей: ведь когда мы смотрим в глаза другому человеку, мы встречаемся – или думаем, что встречаемся – с его душой, а душа эта по самому своему определению настолько сложный и многогранный феномен, что мы вынуждены поневоле на него настраиваться и под его воздействием даже перестраиваться, то есть все наши психические чувства – коим нет числа, а еще пуще производным от них возможностям – никогда не выступают в своей исконной целостности, но, как железные опилки в магнитном поле, в зависимости от контакта, выстраиваются в определенном и своеобразно оформленном порядке, то есть чужая душа, будучи сама по себе загадочным явлением, является вместе с тем источником отнюдь не загадочного – и гигантского по своим масштабам комплекса причин и условий.
И вот все это опускается во время наблюдения над слепым человеком, – иными словами, вместо того чтобы отдаться сложнейшему конгломерату осмысления чужого страдания и своему отношению к нему – кто этот человек? каким образом постигло его горе? заслужил ли он его? не кармической ли оно природы? как он его переносит? могу ли я ему помочь? как он будет реагировать на мою помощь? нужна ли она ему? не притворяется ли он, желая моей помощи, и не использует ли меня? и так далее и тому подобное – итак, вместо всей этой невидимой, обременительной, мелочной и по большому счету унизительной работы, предшествующей практически любому акту альтруизма, в нас вдруг возникают сочувствие и сострадание в их чистом, незамутненном, исконном виде: как если бы вместо золотого песка, который нужно еще отмывать и отмывать, явился вдруг чистейший слиток золота.
Да, когда мы смотрим на слепую женщину, которая, чтобы прокормить своих кошечек, выходит с собакой на улицу петь и даже пытается совершенствовать свое пение профессионально, – мы испытываем ощущение, будто наши сочувствие и сострадание к ней на мгновение отделились от всех прочих чувств, налились плотью и кровью и, точно наскоро выструганные папой Карло, выглянули боязливо из души: немного неуклюжие, неприспособленные для жизни, но вполне самостоятельные, то улыбчивые, то плачущие, а главное, монументальные в размерах, – и в этом есть что-то буддийское: так можно сочувствовать только существам из другого мира, так мы сочувствуем животным, так мы сочувствуем иным особенно полюбившимся литературным персонажам, – и если бы я во время какого-нибудь греческого отпуска увидел где-нибудь в пещере истекающего кровью циклопа, которого бы заживо поедали муравьи и мухи, но который бы нашел в себе силы взглянуть на меня единственным своим глазом, и что-нибудь проворчать угрожающее и бесконечно жалостливое одновременно, то, я думаю, какими бы нечеловеческими ни были этот его предсмертный взгляд и это его последнее рычание, я не сдержал бы слез: как и глядя на ту слепую женщину.
3
Она стояла на углу и – пела,
и сколько рядом ни было людей:
застывших на трамвайной остановке,
сидящих праздно в уличном кафе,
снующих взад-вперед по перекресткам
иль высунувших голову в окне, —
а также с ними связанные вещи:
как небо, скажем, в легких облаках,
как в нем же ослепительное солнце,
и как под ним – в предвечной суете —
этот родной и надоевший город
(ибо с природой он несовместим,
а человек желал бы быть с природой
в единстве полном, правда, на словах), —
итак, в тот час как люди, так и вещи
не то что были заворожены
тем, как слепая женщина им пела
(как будто бы хотела и могла
она в своем сомнительном искусстве
Орфея подвиг дерзко повторить), —
но как бы все они вдруг приумолкли,
стараясь и не в силах осознать,
что значило – не столько даже пенье,
сколь непривычный облик весь ее:
этот правдивый, неизящный голос,
и грации неженской торжество,
достоинство в движеньях угловатых,
но главное – незрячие глаза:
они что-то такое излучали,
что трудно было выразить в словах, —
так, говорят, есть в сердце мирозданья —
оно иначе и не может быть,
если к ночному небу присмотреться
с внимательностью полной хоть бы раз, —
так вот, там есть невидимое солнце,
чьи смертоносны для людей лучи,
да и, пожалуй, для всего живого, —
за исключеньем разве тех существ,
в ком воплощение духовной жизни,
мы не сговариваясь признаем,
да, солнце темное лишь им нестрашно:
теперь оно нестрашно также ей,
но по другой, болезненной причине…
двусмысленность всегда томит людей
и как-то странно, непонятно их волнует, —
подобное волненье и сейчас
помимо воли люди ощущали,
внимая пенью женщины слепой,
понять пытаясь, что же это значит…
да, также заторможенность была
во всех их чувствах, мыслях и поступках,
как будто из глубокой фазы сна
их вырвал ненароком чей-то окрик
и, миру бдения и миру сна
одновременно будучи причастны,
но ни в одном себя не находя,
они, лунатикам подобно, бродят,
напоминая кукол заводных…
быть может, если б люди вдруг узнали,
зачем слепая женщина поет:
не для того чтоб прокормить собачку,
на одеяльце спящую у ног
(хотя и этого вполне довольно,
чтоб отвернувшись слезы утереть),
а ради многих кошечек своих —
этаких трогательных капризулей,
что выборочны как назло в еде,
и чье питанье стоит ощутимых денег, —
да, если бы о том могли узнать
все эти заколдованные люди,
то б их оцепенение прошло,
как в сказке об Уколотой Принцессе,
и на слепую стали бы смотреть
они уже прозревшими глазами:
как на почти что равную себе, —
она бы в главном сделалась понятной…
(ведь только то, что непонятно нам,
в нас вызывает страх и восхищенье, —
но оба эти чувства далеки
от жизни самой важной: повседневной,
и потому их нужно избегать,
и разве что в каком-нибудь искусстве,
дабы отвлечься от житейских дел,
ища разнообразья, ненадолго
ими с душой увлечься хорошо)…
так вот, о чем мы говорили?
да все о том же: о мирах иных,
о том, что люди, если разобраться,
по части фантастичности равны
как минимум, гомеровским циклопам,
о том, что только музыка одна
спасает мирозданье от распада,
и что любовь двусмысленна всегда
(в ее груди все чувства приютились,
и злобы подколодная змея
там вековечно и открыто дремлет,
и ревность, и предательство, и гнев,
и месть – все человеческие страсти,
питаясь от источника любви,
сдвигают музыкальные орбиты
вращения людей всех и вещей,
толкая их к великим катаклизмам),
и любящая разве доброта —
сочувствие как ко всему живому —
с присущей ей дистанцией во всем
быть может, сохраняет этот мир
в гармонии… да, музыка одна
лежит в основе всякого творенья, —
и пение той женщины слепой,
подобно лире древнего Орфея,
заставило прохожих в летний день
порядок мироздания припомнить…
как странно, что похвастаться не мог
подобным мощным действием на душу
один хоть симфонический оркестр —
а они много дали здесь концертов! —
(спешили звуки в ухо там войти,
чтоб выйти тут же из другого уха), —
поистине, мне крупно повезло,
что, оказавшись в тех местах случайно,
услышал я кондукторшу: она
сказала пару слов о женщине поющей, —
ведь были-то соседками они…
тотчас я, повинуясь зову сердца,
с трамвая дребезжавшего сошел, —
и до сих пор не только не жалею
об этом, но готов тот день считать
одним из самых лучших в моей жизни:
а было их немало у меня.