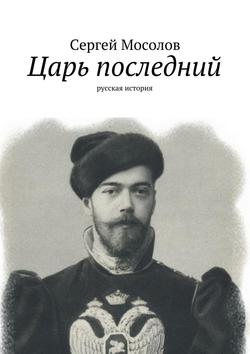Читать книгу Царь последний. Русская история - Сергей Мосолов - Страница 17
Глава вторая. Хозяин земли русской
Трагедия на Ходынке
ОглавлениеНародное гуляние по случаю коронации проходило на прямоугольном участке Ходынского поля площадью около одной квадратной версты. Это поле служило учебным плацем для войск московского гарнизона и ранее неоднократно использовалось для народных гуляний. По его периметру были построены временные «театры», эстрады, балаганы, лавки, в том числе – 20 деревянных бараков для бесплатной раздачи 30000 вёдер пива, 10000 вёдер мёда и 150 ларьков для раздачи бесплатных сувениров, «царских гостинцев» – 400 000 подарочных кульков, в которых находились:
– памятная коронационная эмалированная кружка с вензелями Их Величеств,
– фунтовая сайка из крупитчатой муки,
– полфунта колбасы (примерно 204 грамма),
– вяземский пряник с гербом,
– мешочек с 3/4 фунта сластей (6 золотников45 карамели, 12 золотников грецких орехов, 12 золотников простых орехов, 6 золотников кедровых орехов, 18 золотников александровских рожков, 6 золотников винных ягод, 3 золотника изюма, 9 золотников чернослива),
– бумажный мешок для сластей с изображениями Николая II и Александры Фёдоровны.
Весь сувенир (кроме сайки) завязывался в яркий ситцевый платок, выполненный на Прохоровской мануфактуре, на котором были напечатаны с одной стороны вид Кремля и Москвы-реки, с другой стороны – портреты царской четы. Помимо этого, устроители гуляний предполагали разбрасывать в толпе жетоны с памятной надписью.
Коронационная кружка
Известный писатель и журналист Владимир Гиляровский (1855—1935) так описывал место народных гуляний: «Днём я осматривал Ходынку, где готовился народный праздник. Поле застроено. Всюду эстрады для песенников и оркестров, столбы с развешенными призами, начиная от пары сапог и кончая самоваром, ряд бараков с бочками для пива и мёда для дарового угощения, карусели, наскоро выстроенный огромный дощатый театр и, наконец, главный соблазн – сотни свеженьких деревянных будочек, разбросанных линиями и углами, откуда предполагалась раздача узелков с колбасой, пряниками, орехами, пирогов с мясом и дичью, коронационных кружек. Хорошенькие эмалевые, белые с золотом и гербом, разноцветно разрисованные кружки были выставлены во многих магазинах напоказ. И каждый шёл на Ходынку не столько на праздник, сколько за тем, чтобы добыть такую кружку. Каменный царский павильон, единственное уцелевшее от бывшей на этом месте промышленной выставки здание, расцвеченное материями и флагами, господствовало над местностью. Рядом с ним уже совсем не праздничным жёлтым пятном зиял глубокий ров – место прежних выставок. Ров шириной сажен в тридцать, с обрывистыми берегами, отвесной стеной, где глиняной, где песчаной, с изрытым неровным дном, откуда долгое время брали песок и глину для нужд столицы. В длину этот ров по направлению к Ваганьковскому кладбищу тянулся сажен на сто. Ямы, ямы и ямы, кое-где поросшие травой, кое-где с уцелевшими голыми буграми. А справа к лагерю, над обрывистым берегом рва, почти рядом с краем её, сверкали заманчиво на солнце ряды будочек с подарками. Во рву горели костры, окруженные праздничным народом. Раздачу царских подарков предполагали производить с 10 часов утра 18 мая, а народ начал собираться ещё накануне, 17-го, чуть не с полудня, ночью же потянул отовсюду, из Москвы, с фабрик и из деревень, положительно запруживая улицы, прилегающие к заставам Тверской, Пресненской и Бутырской. К полуночи громадная площадь, во многих местах изрытая ямами, начиная от буфетов, на всем их протяжении, до здания водокачки и уцелевшего выставочного павильона, представляла из себя не то бивуак, не то ярмарку. На более гладких местах, подальше от гулянья, стояли телеги приехавших из деревень и телеги торговцев с закусками и квасом. Кое-где были разложены костры».46
Начало гуляния было назначено на 10 часов утра 18 мая 1896 года, но уже с вечера 17 (29) мая на поле стали прибывать со всей Москвы и окрестностей люди (зачастую семьями), привлечённые слухами о подарках и раздаче ценных монет. В 5 часов утра 18 мая на Ходынском поле в общей сложности насчитывалось не менее 500 тысяч человек.
Когда по толпе прокатился слух, что буфетчики раздают подарки среди «своих», и потому на всех подарков не хватит, народ ринулся к временным деревянным строениям. Полиция не смогла сдержать натиск толпы. Раздатчики, понимая, что народ может снести их лавки и ларьки, стали бросать кульки с едой прямо в толпу, что лишь усилило сутолоку и давку.
Обратимся снова к Гиляровскому: «С рассветом бивуак начал оживать, двигаться. Народные толпы всё прибывали массами. Все старались занять места поближе к буфетам. Немногие успели занять узкую гладкую полосу около самих буфетных палаток, а остальные переполнили громадный 30-саженный ров, представлявшийся живым, колыхавшимся морем, а также ближайший к Москве берег рва и высокий вал. К трём часам (18 мая) все стояли на занятых ими местах, всё более и более стесняемые наплывавшими народными массами. К пяти часам сборище народа достигло крайней степени, – полагаю, что не менее нескольких сотен тысяч людей. Масса сковалась. Нельзя было пошевелить рукой, нельзя было двинуться. Прижатые во рве к обоим высоким берегам не имели возможности пошевелиться. Ров был набит битком, и головы народа, слившиеся в сплошную массу, не представляли ровной поверхности, а углублялись и возвышались, сообразно дну рва, усеянного ямами. Давка была страшная. Со многими делалось дурно, некоторые теряли сознание, не имея возможности выбраться или даже упасть: лишённые чувств, с закрытыми глазами, сжатые, как в тисках, они колыхались вместе с массой. Так продолжалось около часа. Слышались крики о помощи, стоны сдавленных и умирающих. Детей и подростков толпа кое-как высаживала кверху и по головам позволяла им ползти в ту или другую сторону, и некоторым удалось выбраться на простор, хотя не всегда невредимо. Двоих таких подростков караульные солдаты пронесли в большой №1 театр. Так, в 12 часов ночи принесли в бесчувственном состоянии девушку лет 16, а около трёх часов доставили мальчика, который, благодаря попечению докторов, только к полудню второго дня пришёл в себя и рассказал, что его сдавили в толпе и потом выбросили наружу. Далее он не помнил ничего. Редким удавалось вырваться из толпы на поле. После пяти часов уже очень многие в толпе лишились чувств, сдавленные со всех сторон. А над миллионной толпой начал подниматься пар, похожий на болотный туман. Это шло испарение от этой массы, и скоро белой дымкой окутало толпу, особенно внизу во рву, настолько сильно, что сверху, с вала, местами была видна только эта дымка, скрывающая людей. Около 6 часов в толпе чаще и чаще стали раздаваться стоны и крики о спасении. Наконец, около нескольких средних палаток стало заметно волнение. Это толпа требовала у заведовавших буфетами артельщиков выдачи угощений. В двух-трёх средних балаганах артельщики действительно стали раздавать узлы, между тем как в остальных раздача не производилась. У первых палаток крикнули „раздают“, и огромная толпа хлынула влево, к тем буфетам, где раздавали. Страшные, душу раздирающие стоны и вопли огласили воздух… Напершая сзади толпа обрушила тысячи людей в ров, стоявшие в ямах были затоптаны… Несколько десятков казаков и часовые, охранявшие буфеты, были смяты и оттиснуты в поле, а пробравшиеся ранее в поле с противоположной стороны лезли за узлами, не пропуская входивших снаружи, и напиравшая толпа прижимала людей к буфетам и давила. Это продолжалось не более десяти мучительнейших минут… Стоны были слышны и возбуждали ужас даже на скаковом кругу, где в это время происходили ещё работы. Толпа быстро отхлынула назад, а с шести часов большинство уже шло к домам, и от Ходынского поля, запруживая улицы Москвы, целый день двигался народ. На самом гулянье не осталось и одной пятой доли того, что было утром. Многие, впрочем, возвращались, чтобы розыскать погибших родных. Явились власти. Груды тел начали разбирать, отделяя мёртвых от живых. Более 500 раненых отвезли в больницы и приёмные покои; трупы были вынуты из ям и разложены кругом палаток на громадном пространстве. Изуродованные, посиневшие, в платье разорванном и промокшем насквозь, они были ужасны. Стоны и причитания родственников, разыскавших своих, не поддавались описанию. По русскому обычаю народ бросал на грудь умерших деньги на погребение. А тем временем все подъезжали военные и пожарные фуры и отвозили десятками трупы в город. Приёмные покои и больницы переполнились ранеными. Часовни при полицейских домах и больницах и сараи – трупами. Весь день шла уборка. Между прочим, 28 тел нашли в колодезе, который оказался во рву, против средних буфетов. Колодезь этот глубокий, сделанный опрокинутой воронкой, обложенный внутри деревом, был закрыт досками, которые не выдержали напора толпы. Кроме этого, трупы находили и на поле, довольно далеко от места катастрофы. Это раненые, успевшие сгоряча уйти, падали и умирали. Всю ночь на воскресенье возили тела отовсюду на Ваганькодское кладбище. Более тысячи лежало там, на лугу в шестом разряде кладбища».47
По официальным данным на Ходынском поле погибло 1379 человек, ещё свыше 1300 получили различные травмы.
О случившейся трагедии немедленно доложили великому князю Сергею Александровичу и императору Николаю II. Место катастрофы было убрано и очищено от всех следов разыгравшейся драмы, программа празднования продолжалась. На Ходынском поле оркестр под управлением известного дирижёра Сафонова играл концерт.
К 14 часам прибыл Николай II, встреченный громовым «ура» и пением гимна «Боже, царя храни». Празднества по случаю коронации продолжились вечером в Кремлёвском дворце, а затем балом на приёме у французского посла – Гюстава Луи Ланна, маркиза де Монтебелло.
Некоторые приближённые советовали Николаю отказаться от посещения танцев для того, чтобы хоть как-то показать своё горе по погибшим и раненым. Однако он не стал менять своих планов. Возможно, это было сделано потому, что монарх не хотел обидеть французского посла, которого он принимал на балу. Обратимся снова к дневникам Николая. Вот что по поводу Ходынской трагедии написал он 18 мая 1896 года: « До сих пор всё шло, слава Богу, как по маслу, а сегодня случился великий грех. Толпа, ночевавшая на Ходынском поле, в ожидании начала раздачи обеда и кружки, наперла на постройки и тут произошла страшная давка, причём, ужасно прибавить, потоптано около 1300 человек!! Я об этом узнал в 10:30 перед докладом Ванновского; отвратительное впечатление осталось от этого известия. В 12:30 завтракали и затем Аликс и я отправились на Ходынку на присутствование при этом печальном «народном празднике». Собственно там ничего не было; смотрели из павильона на громадную толпу, окружавшую эстраду, на которой музыка всё время играла гимн и «Славься». Переехали к Петровскому, где у ворот приняли несколько депутаций и затем вошли во двор. Здесь был накрыт обед под четырьмя палатками для всех волостных старшин. Пришлось сказать им речь, а потом и собравшимся предводителям двор. Обойдя столы, уехали в Кремль. Обедали у Мама в 8 ч. Поехали на бал к Montebello (Монтебелло). Было очень красиво устроено, но жара стояла невыносимая. После ужина уехали в 2 ч.».48
Сергей Юльевич Витте, министр финансов, присутствовал на Ходынке в тот роковой день и оставил после себя мемуары, где поделился с читателем своим мнением о произошедшем. Он считал, что давка на Ходынском поле, причины которой заключались в плохой организации мероприятия, ужасно подействовала на императора, который выглядел «болезненно». По мнению министра на царя повлиял его дядя Сергей (великий князь), посоветовавший ему продолжать всё, как и было задумано. Сам же царь непременно провёл бы церковную службу на месте трагедии. Но, однако, он всегда отличался нерешительностью и крайне зависел от своих родственников.
Так или иначе, Николай II был на большом балу у французского посла и открыл его с маркизой Монтебелло (женой посланника), а Александра Фёдоровна танцевала с самим маркизом.
По итогам расследования были привлечены к суду и наказаны московский обер-полицмейстер Власовский и его помощник, которые были сняты с занимаемых должностей. Также был понижен в должности до наместника на Кавказе министр императорского двора Илларион Иванович Воронцов-Дашков, отвечавший за организацию торжества.
Императорская семья пожертвовала в пользу пострадавших 90 тысяч рублей, разослала тысячу бутылок мадеры для пострадавших по больницам. 19 мая императорская чета вместе с генерал-губернатором великим князем Сергеем Александровичем посетила Старо-Екатерининскую больницу, где были помещены раненые на Ходынском поле; 20 мая посетили Мариинскую больницу.
Из воспоминаний великой княгини Ольги Александровны:
«Москва погрузилась в траур. Катастрофа вызвала много откликов. Враги царствующего дома использовали это для своей пропаганды. Осуждали полицию, больничную администрацию и городские власти. И всё это вывело на свет много горьких семейных разногласий. Молодые великие князья, особенно Сандро, муж Ксении, возложили вину за трагедию на губернатора Москвы дядю Сергея. Я считала, что мои кузены к нему несправедливы. Больше того, сам дядя Сергей был в таком отчаянии и предлагал тотчас же подать в отставку. Но Ники не принял её. Пытаясь возложить всю вину на одного из членов семьи, мои кузены фактически обвиняли всю семью, и это в то время, когда солидарность в семье была особенно необходима. И когда Ники отказался отставить дядю Сергея, они обвинили его».49
В 1896 году на Ваганьковском кладбище на братской могиле был установлен памятник жертвам давки на Ходынском поле по проекту архитектора И. А. Иванова-Шица с выбитой на нём датой трагедии: «18-го мая 1896 года».
Трагедию на Ходынке многие сочли мрачным предзнаменованием для царствования Николая II.
После коронации в период с июля по сентябрь 1896 года Николай и Александра Фёдоровна в качестве царственной четы совершили большое европейское турне. Они посетили с визитами австрийского императора, германского кайзера, датского короля и британскую королеву. Завершилось путешествие визитом в Париж и отдыхом на родине императрицы в Дармштадте.
45
Один золотник – 4,266 грамма.
46
«Русские ведомости», 1896, №137.
47
Есин Б. И. Репортажи В. А. Гиляровского. – М.: Изд-во Московского ун-та, 1985.
48
Дневник Николая II.
49
Воррес Йен. Мемуары Великой Княгини Ольги Александровны. – М.:Захаров, 2004.