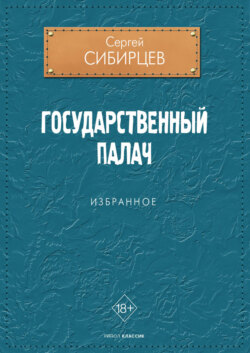Читать книгу Государственный палач - Сергей Сибирцев - Страница 10
Государственный
Палач роман в психопатических этюдах
Этюд пятый
ОглавлениеИ прошел почти год со дня основания нашей утешной семейной фирмы. И я почти привык. И понапрасну не третирую свои воображательные способности.
Зато в последние месяцы самым пунктуальным образом участвую в сновиденческих обрядовых казнях. В этих обрядовых снах мне жить совершенно не страшно, совсем напротив, там я занят или, точнее, привлечен на весома ответственную службу – я служу Государственным исполнителем приговоров, которые исключительно подразумевают смертную казнь через четвертование при прямой телевизионной трансляции.
Я самым тщательным образом, не без профессиональной грации привожу в исполнение высшие наказания, которые вынесли члены Присяжного Демократического Суда Священной Демократической Империи-к о л о н и и. Впрочем, слово «колония» в официальных бумагах не употребляется. Это второсортное словечко в основном фигурирует в пресс-устах патриотической оппозиции, и…
А впрочем, я ни черта не понимаю в этих сновиденческих политических дебатах, и головной боли мне вполне достает на разрешение моих личных проблем.
А сейчас я спешил по скромно освещенной улице к дому, где меня ждали: жена со своей профнепригодной брезгливостью и наш гость, наш Высокий гость, которого самым подлым манером обидели, отказавшись позабавить его шаловливой эротической игрушкой-утехой, и который теперь вынужден сидеть в добровольном заточении в ванной комнате, в печальном уединении с душистым заграничным напитком под псевдонимом «мартини», угрюмо размышляя в этом удушливо-кафельном карцере на тему бюрократизма и эгоизма чистой воды: успели-таки проникнуть-просочиться даже в такие интимные сферы услуг… Даже сюда коммунистическая бацилла поселилась и стала прививать свою богомерзкую мораль!
Дом, в который я торопился, был типичным домом сталинской постройки, то есть имел вид самый примечательный, с пообносившимися кирпичными щеками-брызжами-эркерами и парадным ступенчатым подъездом, – этим торжественным входом еще успели попользоваться жильцы, живущие в славную пору, когда, проснувшись поутру от бодрого советского радиогимна, совершали физическую и общеоздоровительную процедуру под названием «физзарядка» и, откушавши самодеятельную глыбистую простоквашу, получаемую из позавчерашнего молока, спешили на коммунистическую осязательную службу, выхватывая из почтового ящика совершенно девственно свежую, пахучую, липкую газету Центрального Комитета со здоровущей луноликой, лучащейся отцовским оптимизмом физиономией Никиты Сергеевича и репортажем-речью его на полполосы и затем шустро-студенчески сбегая или важно-директорски шествуя вниз по ступеням парадного крыльца.
Студенты давно уже превратились в благообразных отцов семейств и не скачут козлами по ступеням, важные люди, имевшие привычку не ходить, но значительно вышагивать-шествовать, за свои значительные заслуги давно переселились в специальные, так называемые заказные жилища.
И однажды жильцы этого сталинского дома вдруг обнаружили, что они пользуются не широкими удобными ступенями и парадной двухстворчатой дверью, а малопримечательным подъездом, который в просторечии называется черным ходом.
Дубовые, в полтора роста парадные двери оказались припечатаны изнутри толстыми ржавыми досками, а само просторное парадное фойе стали использовать как хозяйственную кладовку под дворницкий и прочий малярный инвентарь, уставили мозаичный мраморный пол неподъемными многопудовыми бочками с сухой известкой, песком, цементом. Зато всегда все было под рукой: сухие лежалые метлы, ломы, скребки и прочее снаряжение, которое требовалось лимитным дворникам в зависимости от сезона, их старательности и профессиональной гордости.
На втором этаже этого красивого состарившегося старорежимного дома размещался наш двухкомнатный офис – арендовали квартиру у каких-то стареньких коренных москвичей. Видимо, жена, то есть президент нашей фирмы, все-таки откупит-отнимет эту емкую, удобную для нас жилплощадь у стариков, нынче ютящихся в какой-то коммуналке, на двенадцати метрах, которую, кстати, отыскала для них она же.
Я изо всех сил старался не спешить и перебирал ногами в возможно прогулочном темпе, как бы господин, сам по себе совершающий оздоровительный предполуночный моцион для укрепления расшатанных нервов и содействия сегодняшним ночным сновидениям, в которых он будет присутствовать не в качестве государственного экзекутора, а в качестве шаловливого ребенка из своего милого детства, впрочем, оно всегда при нем, при его сердце, потому что как же иначе – он же все-таки сочинитель текстов для незрелого вполне инфантильного возраста, в котором совершенно отсутствует такое неприличное слово – «политика», в этом возрасте-сне всегда можно быть самим собою, а если уж приспичит и соврешь по какой-то малости, то никому от твоей детской скрытности или фантазерства не будет настоящего большого вреда или пакости, – ну жогнут отцовским ремнем по вредной заднице, ну в угол воспитательный поставят страдать, ну конфетки лишней лишишься – все эти воспитательные вещи, разумеется, чрезвычайно горькие для того нежного шалопутного возраста, но в том возрасте чрезвычайно редко обижаются смертельно и уж тем более не предают больно до смерти…
Мои взрослые ноги не желали трудиться, они явно догадывались, что их неурочный визит не привнесет лада в эту мерзко-взрослую производственную ситуацию-неполадку.
Я ведь только-только растормошил свою фантазию. Только сумел расписаться… Все мое наивное сочинительское существо прониклось неким Божественным озарением, в растревоженной голове теснились, требуя внеочередного немедленного выхода, какие-то ловкие авторские фразы, реплики моих одушевленных – живых, вредных, но страстно обаятельных ребятишек, почти всегда нудноватых и положительных на словах взрослых, – на белых форматных листах рождалась волшебная, пока слышимая только мною чу́дная доверительная музыка одной детской любопытной истории, которая – я в точности знаю – приключилась со мной в самом доверчивом юном возрасте: я тогда безоглядным, самым беззастенчивым образом влюбился в женское существо…
Это волшебное существо носило обыкновенное земное имя – Светка, еще оно носило густущую русую челку, которая падала прямо на ее смешливые и ужасно вредные глаза в бледных толстых ресницах.
Это вредное волшебное существо мне порою страстно хотелось… поколотить.
Но вместо этого благородного мужского поступка я молча и терпеливо страдал.
Потому что неизъяснимо волшебное и смешливое, а впрочем, и смышленое существо, вместо того чтобы проникнуться глубоким ответным чувством, запросто манкировало моим, таким трепетным, и вдобавок обзывалось и показывало толстенький и красный язык, за который мне всегда хотелось невежливо дернуть, но лукавое существо всегда было начеку, и…
И тут мелодичный телефонно-электронный звонок возвратил меня в мою взрослую, специфически-отвратительную жизнь. В плоской телефонной трубке требовательно журчал родной голос жены, растерянный и раздраженный одновременно. Этот голос не просил, не требовал – приказывал явиться пред ее очи, хотя предупреждал, что телохранители значительного Гостя могут воспрепятствовать и прочее.
Стерва! Не могла сама на месте разобраться со своим членом… правительственной ложи.
В этом месте моих праведных размышлений – в прямой, можно сказать осязательной, близости пункта назначения – мои обиженные сочинительские струны-обиды не сдержали себя, и я выдал вслух достаточно громко и внятно крепкое похабное словцо-эпитет, которое предназначалось нашему важному Гостю, нашему значительному Лицу, которое, впрочем, в данной пикантной ситуации все-таки не есть сторона виноватая, – это Лицо, скорее всего, страдающая сторона, требующая вполне естественные (для Лица) вещи для облегчения своей притомленной государственными заботами плоти. Зато наша фирма выступает здесь в какой-то новой для себя роли: неумышленный обидчик.
А все равно как здраво ни рассуждай, а нервы взыграли и выплеснули из самого нутра непереносимую мною в обычное время, вполне пошлую словесную блевотину, и ничего тут не попишешь – подкатило, можно сказать, к самому горлу.
После благополучного освобождения от словесной нечистоты я, не прибавляя шага, огляделся, ощупал брезгливым взглядом ближайшие придорожные, по осеннему облезшие кущи кустарников; в неуютной ночной глубине их мне померещились чьи-то затаившиеся тени-движения.
Я был почти у цели, и чем черт не шутит, что государственные телохранители не выбрали сторожевую диспозицию именно в этих неприютных, ободранных предзимней прохладой колючках. А тут какой-то на вид интеллигентный прохожий костерит кого-то чрезвычайно непечатными, нелитературными эпитетами, вместо того чтобы сидеть дома, закрывшись на все свои декоративные цепочки и щеколды, и с благожелательной физиономией лупиться на подержанные, золотой американской пробы киноленты…
Как ни сдерживал я свою прыть злопамятного бегемота, но вот и сами тяжеловесные, на века, кирпичные стены сталинского дома. Уличные фонари вблизи этого вальяжно увядающего жилища странным образом как бы приободрились, перестали тушеваться и конфузиться черных столичных теней, и поэтому освещение у дома было вполне сносным и дарующим какую-то призрачную, забытую, застойную безопасность.
И все-таки мой непрофессиональный взгляд углядел-таки на углу дома, ближе к нарядно допотопному чугунному забору, настороженно дремлющую (с опущенными стеклами) темную, глянцевито-калошную иномарку с грациозно приподнятой задницей и молчаливыми ездоками, по всей видимости, стойкими превосходными служаками, так как даже заурядные сигаретные светляки не выдавали чужому вражескому взору количество сторожей.
Ей-богу, эти приятели из Его свиты. И наверняка холодным безжалостным взором прошивают предподъездное простреливаемое пространство, примечая любую подозрительную пакость в виде человеческого существа, оказавшуюся не в меру любознательной, с неискренними намерениями и вообще ненужную здесь в эти минуты.
А чего, в самом деле, чикаться с ненадежными, подлыми человеческими смертными оболочками? К чему этим ординарным ненасытным люмпенизированным оболочкам живые человеческие души? Не дай бог, еще взбредет какая-нибудь дикая коммунистическая мысль в их извилину, – шума ведь не оберешься.
Вот спрашивается, зачем этот тип в своем светлом долгополом пальтишке (обожаю все светлое и просторное, как бы на два размера ширше) застрял перед домом и нагло шарит глазами по окнам. Этому белому верблюду, видимо, жить наскучило?..
И точно. Пока я самым наглым, отвратительным образом примеривался, в какое бы нужное мне окно засадить портативную нейтронную лимонку – собственно шарил-то глазами я для пущего куража, потому как окна нашего «утешного» офиса я разглядел еще при подходе: они слабо-интимно теплились через плотную сирийскую драплю, – в головах молчаливых сторожей произошла какая-то бесшумная передислокация, и чтоб я (этот белый верблюд) особо не зазнавался на этом свете, из нутра глянцевитой сторожкой иномарки раздалось характерное, нарочно не схоронившееся, ласковое клацанье затвора.
И моя нежная тленная человеческая оболочка всеми своими капиллярами в тот же нешуточный миг почувствовала, что она смертна буквально в каждое неизбывное мгновение.
Невидимые, увесистые, готовые к убийству штатные «пушки» испускали из своих черных стальных тел-дул замогильные, запредельно-хладные, упертые лучи смертельного монолога…
Я давно приметил за собой одну вполне простительную литературную слабость: чувствую, что попадаю в какую-то житейскую передрягу, и в тот же момент мои сочинительские способности оказывают мне несколько дурашливую услугу – меня помимо моей здравой воли тянет выразить обуревающие мысли и чувства как можно более метафорически и заумно-образно: «лучи смертельного монолога»… неслабо сказано, не так ли.
То есть безо всякого зазрения совести из меня поперла так называемая красивая литература, которая подразумевает исключительно пряные французские кружева прилагательных и прочих словесных узоров.
Все эти замысловатые литературные плетения мне – как я догадываюсь – нужны для единственной практической пользы: ни в коем случае не выдать чужому равнодушному глазу всю мою незатейливую трепетность обыкновенного, не храброго сердца, которое вот уже порядочных пару минут исходит заячьей шкурной аритмией, а под ним, таким сердечно трепетным – гораздо ниже диафрагмы, – поселился холодрыжный судорожный комок-зверь, разом втянувший в свою мерзкую холодильную пасть нижнюю, самую беззащитную, область моих гениталий, вмиг же заморозивши их тонкие сферы до голубиного размера… Потому как вдобавок, после деловитого приязненного клацанья штатного затвора, из ароматного кожаного нутра машины как бы небрежно выпал голос, невыразительный, слегка гундосый, низкий, на одной пренебрежительной ноте, – он почти по-братски посоветовал мне:
– Шел бы ты, парень, куда. И пошустрей.
– Видите ли, господа, – призвал я в помощь себе все свои положительно-примирительные голосовые данные, – я в некотором роде…
– Паренек, будешь хамить – пожалеешь, зачем родился. Иди домой. Иди, иди, – почти не напрягая связок, все еще по-дружески уведомлял меня голос старшего.
– Я со всем своим удовольствием, господа!
– Гриша, иди к нему. И скажи, что он не прав, – тем же тоном откомандировал старший сторож какого-то Жорика для интимной беседы с настырным, хамовитым прохожим.
Грубый прохожий, безвольно деревенея всеми еще теплыми живыми членами, прямо-таки физически зримо представил всего себя (роскошного белого верблюда, потому как заграничное пальто в прелестных ворсинках) уже жалким, распростертым на этом самом месте, с напрочь же отбитыми жизненно важными центрами жизнедеятельности. Этот хамовитый, настырный господин со священным ужасом вдруг ощутил своим мертвеющим, пересыхающим языком холодные плашки суглинка, пробензиненные, мерзкие, а зубы между тем уже как бы скрипели на несвежих дорожных песчинках вперемешку с вонькими вязкими протекторными крошками и сиротским, несмачным кленовым бесприютным листом…
Ведь что за сволочная натура! Вместо того чтобы морально подготовиться к визиту сторожа Гриши – в башке истинная сочинительская бестолочь и черный пессимизм.
Ведь я же пришел по делу.
Причем хозяин чрезвычайно вежливых подлецов – мой гость.
И не простой гость, рядовой замотанный миллионеришка, а самый почтенный, можно сказать, желанный Гость.
И в данную минуту у моего желанного Гостя возникла небольшая проблема.
И я призван ее разрешить. Разрешить, к вящему удовольствию обеих заинтересованных сторон. Весьма дружественных сторон.
И никакой я вам, господа, не паренек! Я совладелец солидной семейной фирмы «Утеха».
И нашими услугами пользуются весьма уважаемые граждане нашей столицы.
И не вам, господа, указывать, когда мне стоять и куда мне идти. Будут еще всякие лакеи указывать, как мне жить! Хамло всякое…
Всю эту достаточно убедительную тираду я сочинил исключительно про себя, то есть не проронил вслух ни одной запятой. Потому что я чувствовал, что этих бравых сторожей (хотя бы и моего личного Гостя) на голос не возьмешь, но вполне навредишь своему организму. И потому я счел, что самое разумное – не провоцировать сторожей каким-нибудь бесшабашным резонерством насчет того, что видал я вас, ребята, в гробу в белых босоножках… Подобного словоблудного остроумия эти сторожевые господа могут не пережить и молчком нашпигуют мое трепетное тело горяченькими свинцовыми дольками, а потом доказывай небесному Отцу, что господа-сторожа маленько погорячились.
– Ну ты, мудак, ты еще живой… А зря, – почему-то со спины окатил меня чей-то голос, менее прокуренный и оттого развинченно-молодцеватый.
Я, разумеется, дернулся, точнее сказать, меня всего-всего передернуло, и тут же меня вновь припечатала команда со спины:
– Не крутись. Руки за голову. Сразу!
Я болезненно, почему-то только одной половиной физиономии, улыбнулся и тотчас же послушно стянул узлом пальцы на затылке. Боже мой, все как в телевизоре! И все она, стерва такая, хоть бы в окно догадалась…
Не успел я додумать правильную обидчивую мысль, как моя нога от профессионального пинка отлетела на метр в сторону, и я предстал в виде распяленного циркуля с накидкой из белой промокашки. Между тем молодцеватый Гриша (он, по-видимому, заседал в неуютных кустах) ловко, почти не щекоча, обшарил всего меня и, удовлетворенно хмыкая, наконец-то показался на мои страдающие очи.
Гриша был более чем удовлетворен – его вздувшиеся карманы были заняты полноценной добычей: увесистый пятизарядный 9-миллиметровый «Агент», укомплектованный исключительно безобидными холостыми хлопушками, портативная, в пластиковом корпусе рация, кривой, с багряной ручкой и здоровущим выкидным лезвием складень. Электронная плитка пейджера, стальные импортные наручники, зажигалка, ключи от дома на штампованном брелке-складыше – и вроде все.
Гриша оказался, как я и предполагал, спортивно скроенным, в кожаной мягкой тужурке молодым человеком, подстриженным под господина Кашпировского, если не короче, с добродушным туповатым лицом. Мягкость присутствовала в мясистых щеках, глаза же, напротив, не разменивались на благожелательность, большей частью они скрывались припухлостью век и как бы всерьез играли в крутую злость. В общем, прикомандированный ко мне страж больше притворялся беспощадным, бесчувственным малым, и то слава богу.
– Ну ты и муда-ак с таким снаряжением бродить. Сразу стоять! Не шевелиться! Командир! У мудака знатная мануфактура, весь в приданом…
– Исключительно бабушкино, Григорий. Чтоб внучку не страшно было бродить, – попытался я мило сымитировать бодрость духа безвинно арестованного.
А еще тянуло задать несколько сардонический вопрос: Жорик, товарищ сторож, отчего эдак по-уличному изъясняемся, чай, не шпана местечковая, чай, на службе государственной. Ты, Жорик, все-таки есть телохранитель слуги государства, шутка ли…
– Мужик! Уснул, что ли? Шагом к командиру, – каким-то помягчевшим, занудно отцовским, воспитательным голосом возвратил меня в глупую действительность сторож Гриша. И для пущей убедительности потрогал мой устаревший позвоночный столб каким-то неэластичным предметом – разумеется, каким-нибудь облезлым наследственным «макаровым».
– Я, Григорий, в душе сам военный и понимаю… – Не снимая кистевого замка с затылка, заперебирал я ногами в направлении настороженно примолкшей иномарочной штаб-квартиры государственных сторожей.
Более обстоятельный допрос снимался уже в самом мягком сплошь кожаном нутре лощеной машины.
– Складно говоришь, паренек. Хорошо, я разрешу тебе связаться по твоей рации. Хорошо. А вдруг твоя баба занята, а? Настроение испортим. Ему может не понравиться… – рассуждал вслух старший сторож, вполоборота сидя на переднем пассажирско-командирском месте.
Я же отдыхал во втором, президентском ряду, по-дамски притиснутый в угол совершенно немногословным коллегой старшего, только вместо вожделенной изящной трепетной кисти на моем желудке возлежало согревшееся короткоствольное дуло пистолета-пулемета, готовое в любой миг любезно набить мне его свинцовым спрогоряча шашлычком… «Но-но!» – пару раз неуважительно проворчал мне хозяин навостренного увесистого «шампура», когда я вздумал для убедительности по закоренелой привычке вставить интеллигентский жест раскрытой ладонью. И мой жест тотчас же сконфузился на полпути, и вместо искреннего, подтверждающего правоту движения получилось противоположное задуманное – клеклое, размазанное, мямлистое.
После того как молодцеватый Гриша втолкнул меня в гостеприимно раскрывшуюся лакированную дверцу, сам он тут же профессионально дематериализовался. Наверняка бедный малый вновь засел куда-нибудь в облезлый гостеприимный кусачий кустарник и через какое-нибудь инфракрасное пенсне обозревает прилегающую охраняемую территорию. Интересно, как этот Жорик договаривается с любопытствующими псами, ведь эти беспардонные приятели запросто могут и матом оглашенным покрыть на своем собачьем наречии – следовательно, выдадут место временного схрона тайного государственного сторожа. Да-а, службишка тоже не из почетных… В любое непогодье – всегда снаружи, потому что «наружка».
– Что же прикажешь с тобою делать, а, паренек? Сам посуди, хозяин приехал отдохнуть, а тут мужик с пукалкой, со складным финарем. Наручники тебе на кой хрен? Ты что, собрался нарядить хозяина в эти браслетки? Совсем ты подозрительный, паренек. Отвлекаешь. Сиди тут с тобой. Ты, паренек, не обижайся. Придется тебя ликвидировать. Служба…
– Господа, господа! Я сам на службе. Поймите, господа, она заставила. Она президент. Она, стерва, приказала! Я подневольное…
– Во-первых, президента неучтиво называть плохо. А во-вторых, паренек, не обзывай нас господами. Для тебя я гражданин. И все, хватит трепаться.
– Гражданин полковник! – загоношилось все мое пленное существо, которому совершенно не улыбалось быть мирно ликвидированным, потому что у этих серьезных граждан, видите ли, с л у ж б а… и все, что препятствует ее исполнению, должно подлежать ликвидации.
При этом нешуточном для меня раскладе я почему-то не мог до конца поверить, что я приблизился к финишу своей непутевой, но все равно нежно любимой жизни.
А впрочем, глупо позволить этим наглым гражданам-сторожам ликвидировать себя в возрасте достаточно цветущем, еще полном вполне сносных радужных надежд на успех на беллетристическом поприще. Пускай ни Гайдаром, ни Маршаком и даже ни великим русским волшебником Николаем Носовым мне никогда не быть…
И все они милые – деньги, деньги, деньги, черт бы их побрал! Жили себе тихо-мирно. На чай, на хлеб, на картошку из овощного магазина хватало. Зато ведь какой волшебный покой на душе…
Ну и что же, что жена пилила и строгала, что не кручусь, не обманываю, не спекулирую, не ворую, не граблю, не убиваю… А отчего бы и не нарушить это свое дурацкое табу? Чем я лучше этих упертых государственных лакеев?.. Им совесть позволяет отнимать жизни у чужих людей. Ладно, ладненько, господа-граждане, мне лично еще трепаться не наскучило, но раз вы такие нетерпеливые, Бог вам судья. Аминь, так сказать…