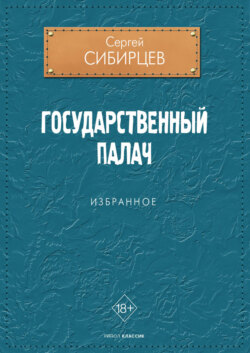Читать книгу Государственный палач - Сергей Сибирцев - Страница 12
Государственный
Палач роман в психопатических этюдах
Этюд седьмой
ОглавлениеСтруны человеческого сердца устроены самым неизъяснимым образом – они имеют обыкновение расстраиваться от житейских мелочей. То есть какой-нибудь пустяк в виде… заалевшего женского утреннего уха, взглянувши на которое вдруг ощущаешь внутреннюю потребность поделиться нежностью, и даже не поделиться, а отдать всю ее накопившуюся за ночь, за бесконечную Государственную службу – ночь, когда ты жил в сновидениях, в которых имел значительный государственный чин-должность (Государственный п а л а ч!), а обрушившись в действительную жизнь, в утро с дерзкими солнечными рапирами, одна из них фамильярно ласкала это самое женское ухо, его тонкую сладостную мякоть, щекоча игриво и зазывно, и еще черт знает как, именно твои сердечные натянутые, сладострастно вызванивающие струны, отчего они заметно и жалко слабели, провисали, колеблясь и фальшивя, потому что ты знал, что эти парящие звуки фантом, мираж из прошлого, из чистой прошлой жизни любящих наивных молодых сердец.
И поэтому всей своей сознательной силой, словно ладонью, прижимал эти чувствительные нити и не удерживал другое вязкое липкое чувство – чистую чувственность, которая, играя соло, лишь свирепела и даже не подозревала, что существуют такие понятия, как сдержанность, конфузливость, предупредительность и прочая чеховская пристойность.
То есть даже такое незначительное обстоятельство, как привычно отвратительное в своей пленительности и изящности ухо супруги, способно внести разлад-ремарки в сердечную партитуру, а здесь несколько особенный случай, когда я по каким-то непонятным мотивам отказался от холодной здравой мысли: уничтожить молодого охранника, потому как он свидетель. А параграф № 6 оперативного устава палачей гласит: живые свидетели событий подлежат исправлению. Что в переводе на гражданский общеупотребительный язык означает: чем меньше живых свидетелей, тем лучше для высших интересов нации.
Меня не смутила и какая-то безоглядная кровожадность сторожа Гриши, – выучка. Особая выучка рядового бойца-охранника, которому специальным приказом по подразделению удалили и частью подпилили под железные мосты и коронки зубы, – хва-тательно-разрывательный фактор, который чрезвычайно злободневен и пригоден в нештатных ситуациях.
Существуют и другие, невидимые глазу хитрости, которые вживляются в определенные места тела профессиональных сторожей. И если бы я не был осведомлен о вживленных тайнах сторожей, я бы до сих пор тратил свои нервные клетки на малоположительные эмоции страха приговоренного единоличной властью старшего сторожа к ликвидации.
И, безусловно, я никоим образом не сверхмужчина, или в переводе на русский разговорный – не супермен.
Боже мой, я давно забыл, что такое утренняя зарядка, оздоровительные кроссы по пересеченной местности: лестница в доме, раздолбанный тротуар, подземный захламленный переход и прочие городские препятствия.
Накопившиеся передозированные шлаки я выгоняю в двух случаях: когда занимаюсь плотской любовью (с какой-нибудь из своих малочисленных обожательниц) и когда жена требует, чтобы я потрудился над ней в качестве бесплатного массажиста.
В обоих случаях я позволяю себе потеть, кряхтеть, стенать, похохатывать, изредка нечленораздельно сквернословить и издавать утробные нечеловеческие предлоги и местоимения.
Русскую баню со скользкой парилкой или престижную, с богемной похотливой публикой, сауну не понимаю принципиально – почти патологически брезглив, а вид голых задниц, мужских ли, женских (в количестве больше одной женской), наводит на меня какую-то аллергическую оторопь и нестерпимое злостно-хулиганское желание: схватить разношенную офицерскую портупею и наброситься с нею на безмятежно заголившихся человекоподобных существ, и стегать, и лупцевать, чтоб алая кровушка заструилась по бесстыдной коже…
Одним словом, психую, сатанею и никакого при этом полового удовольствия не наблюдаю за собой. Это я к тому, что, видимо, бзик у меня чисто психопатический и уж никак не скрытогомосексуальный, как ненавязчиво убеждал меня один довольно известный в «культурных» кругах сексопатолог господин Верин.
Я этого господинчика, знатока скрытнополовых патологий, раскусил если не в первую приятельскую посиделку, то при второй – он, между прочим, порекомендовал наведаться в его спец-центр «Домашний андролог» и пройти тест…
Я тогда, будучи слегка подшофе, по-приятельски перебил его научно-врачебную речь и, интимно притянув к себе его парикмахерски ухоженную и надушенную головку, значительно глядя в его маслинки, задушевно предложил:
– А зачем, милый Верин, откладывать? Я желаю протестироваться немедленно.
И, не убирая блудливого взгляда с его потемневших маслинок, забрал его маленькую влажную лапку в свои хладнокровные ладони, стиснул ее, как если бы безумно возжелал его, но, видимо, переборщил с излитием чувств. Потому что уже через пару моих затаенно пошловатых, дерзких реплик насчет пустующей ванной комнаты его плавающие в похотливом блеске маслинки как-то разом отвердели и превратились в обыкновенные темно-крапчатые усмешливые глаза ученого мужа, который однако же не пожелал походя внести психического невольного дискомфорта – не невежливо выдернул свою взмокшую лапку, а поэтически тонко выскользнул, проворковав несколько по-девичьи кокетливо:
– Шутник, шутничок, как я погляжу на вас, а, Дмитрий Сергеич! Зря вы так… к науке.
– Позвольте не согласиться с вами, господин Верин. К науке я всем телом-с. Извольте не сомневаться, – продолжал я хамить в том же задушевном тоне господинчику, как бы игнорируя его охладелость и томным взором изучая свои все еще сомкнутые ладони, все еще хранящие жар его лапки.
А через минуту мой надушенный и, вероятно, взмокший в подмышечных впадинах визави несколько принужденно покинул мое все еще созерцательное общество, устремясь в иные, более цивилизованные, приятельские миры.
И все равно психопатия на обнаженное (во множестве) человеческое тело не оставляет меня. Лицезрея тела по телевизору, на широком киноэкране, она (психопатия) как бы дремлет, но не дай бог вживе – где-нибудь отдых с видом на пляж, – враз покрываюсь чесучими аллергическими кожными разводами и грежу наяву чапаевской контратакой с обнаженным мстительным сыромятным оружием…
Я, собственно, не рефлектирую по поводу устройства своей психики. Напротив, я подозреваю, что человеческие существа, любящие кучковаться обнаженными среди себе подобных, есть нечто сугубо противоестественное и пагубное как раз для их психического здоровья, которое в наши дни, в дни-годы уходящего очередного христианского тысячелетия, совсем не лошадиное, не антично-невозмутимое, а как есть хрупкое, точно крыло обыкновенной домашней мухи, на которую я порою любуюсь, нежась в утренней неспешной неге человека, которому не надо сумасшедше вскакивать и искать зябкие проношенные шлепанцы, влезши в кои, трусить в сортир по естественной малой надобности с еще не отлепившимися друг от дружки сонными опухшими веками, а справивши нужду, тащиться на старую, запашистую и запаршивевшую кухню (ремонт нынче дорог) и ставить там на газовую горелку (в тысячный, в миллионный раз!) чайник, немодный, в каких-то жирных прыщах и струпьях, а затем лезть в конвульсивно дрожащий на последнем социалистическом издыхании холодильник, нутро которого источает уже который месяц затхло-сладковатый запах мертвых яиц и чьей-то посторонней блевотины, но этот миазматический запах совсем не замечаем, потому что он привычен, он стал родным и близким, как эта вареная, с зеленочной аптечной прозеленью, колбаса, соленое, в угреватых черных хлебных вкраплениях, масло в треснувшем блюдце, в желтом сливочном сугробике которого наискось воткнута плашка сыра, обгрызенная полумесяцем и со следами крупных передних зубов, которые в этот миг, разумеется, сидят в твоем рту нечищенные, в желтизну прокуренные, однако успевшие уже жадно зажать первоутреннюю, самую горькую сигаретину, от дыма которой одна радость в виде смачного клокотанья в грудях, неэстетичные харчки в раковину с жирной заплесневелой посудой и мысли – м ы с л и: пропади все пропадом в этом мире!
И в остервенении, в мстительном ослеплении подлым шлепком шлепанца превращаешь в слякоть благожелательно неторопливую семейную парочку своих постоянных сожителей-квартирантов: по-своему жизнерадостных и озабоченных домашних тараканов, – они не поспешили ретироваться при твоем появлении на их обжитой, вполне законной кухонной территории, и, вследствие своей беспечности и доверчивости, их размазанные трупы теперь будут служить наглядным, дурно пахучим примером для особо дерзких их сородичей, которые в эту злополучную минуту трусливо подглядывают из всех потайных щелей-ходов за твоими гибельными шлепанцами, недоумевая твоей желчности, нынче излившейся в садистические акты по отношению к их дружному коричневому племени, – этих коричневых ребят чрезвычайно коробит, что твоим развалившимся просаленным шлепанцам совершенно нет дела до их психического здоровья…
Я слегка увлекся, щадно описывая утреннюю картинку пробуждения одного моего знакомого аристократа духа, который нынче служит московским бомжом на Белорусском вокзале столицы, потому как квартиру свою вместе с жизнерадостными коричневыми сожителями он спустил одному из расплодившихся агентств по перепродаже недвижимости. Некоторые наличные, чудом перепавшие на его долю, в какие-то недели были им проедены и пропиты с коллегами по аристократическому цеху.
Он мне иногда (когда случаются безысходные трезвые дни) звонит домой и ровным хриплым голосом рассказывает ужасные «горьковские» сюжеты из жизни аристократов столичного дна и почти искренне сожалеет, что я не Лешка Пешков и все его чудесные сюжеты пропадут втуне.
Этого моего знакомого аристократа, скорее всего, скоро не станет – умрет, как и положено представителю его мыслительного свободного цеха, умрет в пьяном бреду, потому что многократно изнасилованное сердце когда-нибудь да не выдержит самонадругательства и прекратит свой бесцельный аритмический бег.
И зажжется еще одна слабенькая искорка в божьем Млечном Пути, и земные педанты-астрономы, с дотошностью вычислив ее нежданную светимость, занесут свежую звездочку в свои тяжелые астрономические каталоги-фолианты за номером…
И некому уже будет укорять меня, что я не имею великого дара поэта пролетарских низов Алексея Максимовича Пешкова, а занимаюсь сочинительством детских, никуда не годных историй и никто их не читает, потому что дети – это детеныши своих родителей, а родители давно уже разучились читать художественную трудную прозу, а детеныши их, еще не научившись читать настоящие литературные тексты (то, что детеныши вынуждены проходить в школе – это не в счет, хотя смертельное отвращение к классическим текстам они получают сполна), уже с ясельного горшка намертво прилипают к электронным окошкам теле- и видеоящиков.
И все равно, доподлинно зная о сем печальном факте, я сажусь за стол и занимаюсь… самой натуральной литературной мистификацией, которая, видимо, сродни графоманству и прочему культурному самодеятельному времяпрепровождению – лишь бы не пил! – умиленно талдычит в таких случаях какая-нибудь положительная супруга себе под нос, с жалостью лицезрея настырную макушку труженика-мужа, долбающего, который уже законный свой выходной, на любовно смазанной пишмашинке очередной романище о своей личной биографии несчастного младшего научного сотрудника городского университета марксизма-ленинизма.
И в самых правдивых мрачных красках – каким же он, бедняга, подвергался моральным репрессиям по поводу его сладострастных ухаживаний за пожилыми слушательницами сего вечернего высше-политического учебного заведения.
И мне всегда немножко жаль себя, то есть мне стыдно за свою чересчур скромную биографию, в которой не отыскалось черных и мрачных дней-красок, ими бы я с пребольшущим удовольствием щегольнул нынче в сплоченном кружке каких-нибудь обиженных и репрессированных культурных деятелей (а в почетных президентах там: Евтушенко, Окуджава, Вознесенский, которых со страшной партийной силой замалчивали, не печатали и не выпускали за границу дальше деревни Переделкино). Но, увы, листаю страницы-дни-годы, а в них одна сплошная сиропная благодать: почетные грамоты, президиумы, благодарности, фотографии на обложках, открытые загранвизы, миллионные тиражи и прочая суета сует в виде бесплатных литфондовских дач-особнячков и гонораров, на которые вполне можно было заводить очередные семейные партии с приглянувшейся английской простушкой…
И поэтому, имея в активе более чем скромное творческое прозябание, я бегу нынче от всяческих профессиональных кружков-союзов, живу сам по себе, по застарелой привычке выдумываю черт знает что и, сидючи в кабинетно-спальной тишине, с какой-то странной ностальгической печатью на сочинительском лике вспоминаю свое мифическое победительное шествие в кучке особо признанных и почитаемых (а впрочем, и читаемых и изучаемых) инженеров человеческих душ.
Порою я всерьез скорблю и изнемогаю от зависти, что я не Женька Евтушенко, баловень судьбы-матушки, тексты которого когда-то пел сам чародей Марк Бернес, а мирового класса маэстро Магомаев будил во мне, сопливом мальчишке, такие поэтические, до этого спящие чувства…
И я снедаем самой глупой завистью к этим «неудачникам» президентам-пиитам, которые, оказывается, так страдали и так лелеяли свои страдания, что нынче претендуют на самый почетный литературный памятник среди других прочих классиков.
Если же не претендуют, тогда я заранее прошу прощения. Тогда, видимо, место им на свалке литературы, которая совсем недавно значительно звалась – советская (но подразумевалась все-таки всегда русская).
И зависть моя чисто детского свойства, не тяжелая, не пригибающая, но при виде их повсюду мелькающих, уже достаточно почтенных и дряблых, физиономий во мне тут же копошливо начинает шевелиться самое стойкое человеческое переживание – тянучая за душу зависть к их легкому пробивному таланту: во все времена быть на плаву, быть как бы и в оппозиции и одновременно же слыть до последнего гвоздя своим в стане правительственных графоманствующих прихлебал-пристебаев, которым завсегда лестно ручкаться с тобою, с таким известным и знаменитым…
Вот именно, это особенный дар судьбы заиметь в пожизненное пользование такие стихоплетные способности, которые и нашим, и вашим, и всем прочим заграничным ценителям как бы всегда по душе и сердцу.
И зависть моя проистекает из моей очевидной уверенности, что дайте мне возможность: тиражи, рекламу, гонорары и прочие удовольствия – так я такой конвейер творческих поделок организую, что только держите ваши карманы и кошельки, господа.
Я вас, милые мои, заставлю полюбить себя.
Я вам, голубчики мои, таких путешествий дилетантов и нейтронных мам с девушками юнонами наштампую, что почетный во всех отношениях жетон химика-диверсанта Нобеля мне загодя припрячут в коробочку, выстланную шведским королевским бархатом…
А что, голубчики, ежели мечтать – так по-большому. Не государственными же премиями-рублишками пробавляться. И уж тем более не архаичными сталинскими-ленинскими. Сколько их, золоченых, имел-носил товарищ писатель Симонов, и кто теперь его знает-читает? Если какая-нибудь престарелая недострелянная сталинистка с кустистой красно-коричневой блямбочкой на обвислой брызжастой щечке мусолит фанатичные стишки с чрезвычайно сталинским душком про «Жди меня» или любуется твердолобым папановским политруком из «Живых и мертвых».
Но никогда я, даже каким-нибудь боком, не позволял себе влезть в немногочисленную шеренгу совсем других русских сочинителей: Платонов, Булгаков, – фантазировать на подобную тему – это означало бы превратиться в самоубийцу типа господина Акутагава. Дело в малом: у этих русских и японских сочинителей начисто отсутствовали известные хваткие способности, – эти сочинители были Творцы. Они не имели ни последователей, ни подражателей, ни даже в чистом виде завистников. Их просто любили, обожали, внимали, ненавидели, страшились, в конце концов, не понимали или не желали понимать, но их земные человеческие творения не отставляли в сторону в равнодушном скептическом молчании.
Творцам нельзя завидовать. Зато их можно уничтожить физически. Потому как Творцы носят такую же, если не слабее, не тоньше, не хрупче, человеческую ранимую оболочку. Одного уничтожили неподдающейся лечению немощью телесной, другого – официальным игнорированием и не печатанием, а третьего заставили как бы добровольно прорепетировать очередное фатальное самоубийство, представив сие действие очередным же приступом умопомешательства…
И слава богу, что есть такие сочинители текстов, которым я со всей детской непосредственностью завидую и в точности знаю, что иные мои скороспелые тексты не в пример изысканнее, и психологичнее, и литературно совершеннее их признанных и растиражированных в миллионах тиражей по всему белому свету.
Им повезло и до сих пор везет в тиражах, в женщинах (им бы сейчас мои годы!), в элитарном дачном одиночестве.
Да-да, милые мои, я завидую высшему сочинительскому одиночеству, которое полагается вам по рангу. Мне думается, вам также не нужно пошло суетиться, чтобы срочно добыть наличные прожиточные средства.
Для меня вы давным-давно уже знатные стахановцы-миллионеры, и бога ради держите этот свой имидж как можно дольше, он вам так к лицу, пусть и одряхлевшему и в творческих бороздах и мешочках, пусть из вас и песок (почтенный) сыпется, – голубчики, умоляю вас, держите марку баловней судьбы-матушки. И дай бог вам, голубчики, не испытать той фантастической боли – боли! – что пришлось испытать вашему старому (по стажу) литературному завистнику, когда он, точно доверчивый собачий сын, без оглядки полез в прижатый карман сторожа Гриши за ключиком для отмыканная наручников прислоненного и несколько в истерике юноши-рэкетира, специально оставленного Гришей живым для дачи важных показаний, – и, почти нащупав скользкий крестик, потерял всякую бдительность и заполучил от застрявшего и контуженого Гриши мощнейший удар прямо между своих растопыренных ног.
Гришина тренированная ляжка, можно сказать, впечатала внутрь таза мои неосторожно развешанные «помидоры»…
Одним словом, полный, подлый, празднично-десантный фейерверк, после лицезрения которого я впал в прострацию и вторым Гришиным ударом (странно-неощутимым, ватным) примерно в ту же причинную область был отброшен в какие-то лежалые кучи увядших испачканных листьев, кем-то заботливо прибранных к забору, и перестал на какое-то время существовать в этом по-осеннему чудесном полуночном вечере.