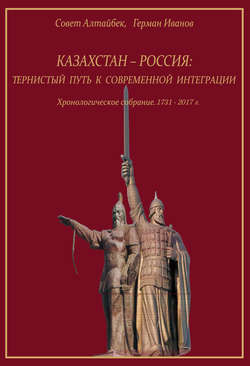Читать книгу Казахстан-Россия: тернистый путь к современной интеграции. Хронологическое собрание. 1731 – 2017 гг. - Совет Алтайбек - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ГЛАВА II.
Российская империя и присоединение к ней Казахского ханства в XVIII–XIX веках
18. Принятие российского подданства ханом Абулхаиром
ОглавлениеА.И. Левшин предлагает читателям «совокупное историческое обозрение» с 1730 года «до настоящего времени» событий в «Средней и Меньшей киргиз-казачьих ордах», которые со времени присоединения их к России так связаны между собой, «что невозможно разделять оных»:
«Положение киргиз-казаков около 1730 года благоприятствовало властолюбию Абульхайра 134 . Подвластные его, изнуренные частыми потерями людей и имущества, стесненные со всех сторон враждующими соседями и ежеминутно ожидавшие новых бедствий, были тогда готовы на всякие пожертвования. Воспользовавшись расположением их умов, хан решительно объявил им, что другой меры к спасению, кроме добровольного вступления в подданство России, нет. С первого раза предложение его было отвергнуто, но Абульхайр с такой заботливостью и постоянством продолжал представлять киргизам несчастья, их ожидавшие без опоры правительства русского, так сильно, так живо описывал оные, и убеждения его в самом деле были столь справедливы, что нельзя было не согласиться с ними.
<…> ближайшие приверженцы Абульхайра решились покориться императрице Анне. Число народа, изъявившего сию решимость, было невелико, но хан не мог терять времени на умножение оного, не мог не пользоваться первым действием своих убеждений, а потому немедленно избрал из надежнейших людей несколько посланцев и отправил их в сопровождении башкирского старейшины Алдара к уфимскому воеводе Бутурлину с письменным предложением подданства. Посланцы сии в июле 1730 года прибыли в Уфу, а из оной отправлены Бутурлиным в Петербург.
Абулхайр – хан
В письме своем Абульхайр изъяснял причины, побудившие его к покорности, говорил о несчастьях, народом его претерпенных от зюнгаров, упоминал о нападениях волжских калмыков и яицких казаков, обещал содержать себя на собственном иждивении, давал надежду помогать России в усмирении ее неприятелей, а между тем, просил вспомогательных войск для покорения хивинцев, каракалпаков, аральцев и прочих и, наконец, признавал как себя, так и Орду всю вечными подданными России. Неожиданное и приятное происшествие сие, которого истинных причин еще не знали в Петербурге, было принято с радостью. Оно льстило славе государства, ибо присоединяло к нему без малейшего кровопролития несколько сот тысяч новых подданных. Оно обещало спокойствие и безопасность юго-восточным областям нашим, столь долго страдавшим от опустошительных нападений киргиз-казаков. Наконец, оно открывало для правительства множество блестящих надежд по торговле. Думали, что добровольно покоряющиеся орды можно будет употреблять к ослаблению зюнгаров, которых владелец Гальдан Цырен, возбудивший опасения в самом Петре Великом, тогда был еще жив. Надеялись, что киргиз-казаки послужат и к усмирению внутренних неприятелей России, башкиров, беспокоивших правительство частыми бунтами. Нельзя было не обратить внимания и на вызов Абульхайра усмирить аральцев, каракалпаков и особенно хивинцев, которые тогда еще носили на себе свежие следы крови коварно умерщвленного ими при Петре I князя Бековича-Черкасского, твердое основание торговым связям своим со всею Среднею Азиею<…>.
Осыпанные милостями, ласками и подарками, посланцы киргиз-казачьи отправились обратно с грамотою императорскою к Абульхайру, в которой изъявлено согласие на принятие его в подданство и обещаны ему защита и покровительство. Для удостоверения во всем ими сказанном и для приведения новых подданных к присяге отправлен с ними в Орду переводчик Коллегии иностранных дел Мурза Тевкелев. <…>
С ним было послано также несколько уфимских дворян, вернейших башкиров и русских казаков и для топографической съемки мест, занимаемых киргиз-казаками, наряжены два офицера-геодезиста» 135.
Но далее дела пошли не так гладко.
«Наскучив присутствием русских и боясь влияния их, – пишет А.И. Левшин, – киргиз-казаки твердо положили избавиться от посетителей столь неприятных, и потому объявили Тевкелеву, что назначают решительное собрание народное для совещаний о принятии или непринятии присяги на подданство России и что в собрание должен он явиться один, без всякой силы. Намерение убийства было почти очевидно, однако ж Тевкелев не отказался от приглашения и даже употребил оное в свою пользу. Он знал корыстолюбие киргиз-казаков и был руководим ханом и его приверженцами, а потому прежде склонил на свою сторону некоторых знатнейших и опаснейших врагов своих подарками и потом уже явился в собрание. Подкрепляемый надеждою иметь защитников и видя пред собой решительный случай прославиться или погибнуть, он показал в сем случае всю отважность, всю силу своего красноречия, все присутствие духа, которыми столько раз отличал себя между киргизами и которые приобрели ему, как сказано выше, необыкновенное уважение всех магометан. Знаменитый и чтимый как Среднею, так и Меньшею ордами старейшина киргизский Букенбай вызвался быть первым его покровителем. Вместе с сим старейшиною и с ханом Абульхаиром, тут же присутствовавшим, они столь сильно, столь убедительно говорили в пользу России, что противники ханские были увлечены доводами его приверженцев. Следствием сего было то, что все присутствовавшие, начиная с Абульхайра и хана Средней Орды Шемяки [Семеке], присягнули на подданство России. Все сие происходило в 1732 году»136.
Однако казахская историография137 считает, что это сообщение не совсем верно отражает ситуацию.
Так, принятие российского подданства ханом Абулхаиром и его приближенными, по мнению казахских историков, произошло не в 1732 году, а значительно раньше – 10 октября 1731 года. Подписание юридического акта состоялось на собрании казахских старшин, куда был приглашен и А.И. Тевкелев. На этом собрании после речи Тевкелева выступил старшина Букенбай и заявил присутствовавшим, что «в подданстве российском быть желает». Его поддержали Абулхаир и Есет-батыр. Затем на аль-Коране «учинили присягу» на российское подданство Абулхаир, Букенбай, Есет, его брат Худай Назар-мурза, а за ними 27 знатных старшин. Часть старшин, присутствовавших на собрании, присягу не принесли138.
Хан Среднего жуза Семеке на этом собрании не присутствовал. 25 декабря 1731 года А.И. Тевкелев, Абулхаир и батыр Букенбай направили к Семеке послов с предложением принять российское подданство. Это предложение нашло поддержку у хана, который в июле 1732 года принес присягу верности русской императице. Однако подданство Семеке имело формальный характер.
Алексей Иванович Тевкелев
А.И. Левшин продолжает свой рассказ:
«<…> Удаленный от пределов России, Тевкелев еще не успел сообщить правительству об успехе своего посольства, как начались волнения в другой части орд казачьих, а именно в Средней орде. Хан и родоначальники ее завидовали силе, которую должен был приобрести Абульхайр сближением своим с двором петербургским, и даже боялись его. Простой народ, напротив того, не имея среди себя столько приверженцев России, сколько было в Меньшей орде, не хотел расставаться с независимостью своею, представлял себе все в превратном виде и потому сильно восстал против соплеменников своих, покорных России. <…>
Волнение сие, подкрепляемое увещаниями друзей независимости, отразилось даже и на тех киргиз-казаках, которые уже присягнули. Они опять поколебались, начали снова отставать от принятой присяги, и положение Тевкелева опять сделалось опасным. Тут начал он помышлять о возвращении в Россию, но его не хотели отпустить. <…>
Таким образом, Тевкелев, казалось, был предан на жертву полудиким киргиз-казакам. Опасность, в которой он находился, по-видимому, еще увеличилась, когда Абульхайр откочевал от границ России к устью реки Сыр и когда Тевкелев должен был туда за ним следовать, но на самом деле путешествие сие оказалось источником успеха, которого ожидало правительство русское и которого домогался представитель оного в ордах киргизских. Переход Абульхайра к берегам Сыра, удалив подвластных его от поборников независимости и от личных неприятелей его, приблизили их к спокойному народу – каракалпакам, которые, будучи угнетены со всех сторон, при первом известии о могуществе России стали искать защиты ее чрез Тевкелева и, наконец, признали себя поданными русскими, немедленно приняв присягу. К происшествию сему более всего содействовал Абульхайр по двум причинам: во-первых, для того чтобы увеличить силу и услуги свои пред Россиею, во-вторых, чтобы примером сим подействовать сильно на киргиз-казаков и скорее склонить их к такой же покорности. И в самом деле, его подвластные после сего сделались спокойнее и окончательно решились признать себя подданными императрицы Анны. <…>
Приблизившись в декабре месяце 1732 года к границам российским, Абульхайр отправил с Тевкелевым в Петербург посольство, состоявшее: 1) из сына его Эрали-султана, в последствии времени бывшего ханом; 2) из ближнего своего родственника султана Ниаза; 3) из нескольких старейшин киргизских. К ним присоединил он из тщеславия старейшин Большой орды Аралбая и Арасгельды-батыра. <…>
Его [Тевкелева] почитали погибшим или плененным, и потому даже посланы были деньги в Уфу на его выкуп. <…> Но Тевкелев вдруг явился в столицу с торжествующим лицом и донес об успехах своих, о прибывшем в Уфу посольстве киргизском и о вновь принятой им присяге от каракалпаков. Между тем и хан Средней орды Шемяка прислал в Уфу посланцев с раскаянием в сделанных после присяги нападениях и с новым предложением подданства. <…>
В таковых переездах и переговорах прошел весь 1733 год, и посольство прибыло в Петербург не прежде января 1734 года. В феврале месяце султаны Эрали и Ниаз и старейшины, им сопутствующие, ровно, как мнимые представители Большой орды, Абульхайром присланные, были торжественно представлены императрице. Эрали произнес при сем краткую речь, в которой, изъяснив поконость отца и всего народа киргиз-казачьего, просил о принятии оного под власть, покровительство и защиту России. Императрица выслушала сие приветствие весьма милостливо и приказала всех принадлежащих к посольству наградить богатыми подарками, доставив им для прожития в Петербурге все возможные выгоды и удовольствия за счет казны. <…>
Взамен обещаний столь пышных Абульхайр чрез сына и Тевкелева, между прочим, особенно просил двух вещей: утверждения ханского достоинства в его роде на вечные времена и построении при впадении реки Ори 139 в Урал города с крепостью, в которой мог бы он найти себе убежище в случае опасности».
Как видим, Абулхаир прежде всего заботился о своей власти, и о власти своих наследников и своей безопасности.
Имрератрица Анна Иоанновна
Вот обе грамоты императрицы. Они были выданы с тем…
«1. Божиею милостью Мы, Анна, Императрица и самодержица Всероссийская и прочая, и прочая, и прочая <…>.
А ныне Мы, Великая Государыня, наше императорское величество из особливого нашего милосердия к тебе, нашему подданному Абульхайр-хану, и старшинам, и ко всему киргиз-кайсацкому народу и на прошение твое, Абульхайр-хана, всемилостивейше склонились и соизволили послать статского советника Ивана Кирилова и нашего ж полковника Мурзу Мамета Тевкелева, и указали город при устье Орь реки построить, и людьми и артиллериею, пушками и мортирами и прочим воинским снарядом снабдить для удобнейшего и скорейшего тебя, нашего подданного Абульхайр-хана, и старшин, и всего войска, тако ж де и других Киргиз-кайсацких и Каракалпакской в наше подданство пришедших орд, ханов и старшин и всякого войска и посольства от наших и ваших неприятелей охранения и защищения; в чем во всем от нас, Императорского Величества, дана им, статскому советнику и полковнику Тевкелеву, полная мочь. А с ними же и сын ваш Эрали-салтан и брат Ниаз-салтан и при них старшина и рядовые – все возвратно к тебе отпущены с награждением нашего Императорского Величества жалованья при отпуске и на проезд со удовольствием. И тебе, Киргиз-кайсацкой орды Абульхайр-хану, старшинам и всему киргиз-кайсацкому войску, видя нашу Императорского Величества к себе милость, наипаче верные службы оказывать; и как при первом случае, во время строения города, так и всегда, от внезапных неприятельских нападений всякое охранение чинить и о худых и противных чьих намерениях и замыслах нашим статскому советнику Кирилову и полковнику Тевкелеву и нашим войскам, где как случай допустит, заблаговременно ведомость подавать, и других помянутых подданных наших, ханов и старшин, и войско в том утверждать, и во всем так поступать, как нашему Императорскому Величеству подданническую присягу ты, Абульхайр-хан и старшина и войско учинили. Впрочем, оные Кирилов и Тевкелев имеют указ наш пространнее тебе объявить и изустно о нашей Императорской милости тебя обнадежить; чего ради тебе, Абульхайр-хану, с ними видеться почасту и, что они тебе о случившихся делах говорить станут, верить и потому исполнять. Дан в Санкт-Петербурге 10 июня 1734 года».
В своей книге А.И. Левшин приводит полный текст инструкции, полученной Кириловым и Тевкелевым. Надо полагать, что в свое время этот документ, скорее всего, был секретным. Такова была государственная политика России того времени.
Вот текст инструкции:
«1. Построить город с крепостью при устье реки Ори и стараться о привлечении в оный жителей.
2. Разослать врученные ему грамоты: a) Абульхайру, b) Шемяке, хану Средней казачьей орды, c) родоначальникам Большой орды и d) каракалпакскому хану.
3. Ханов и старейшин или родоначальников всех сих орд пригласить к себе.
4. От Большой и Средней орд потребовать присяги.
5. Султана Эрали отправить к отцу под надежным прик-рытием.
6. Удерживать киргиз-казаков в повиновении, смотря по обстоятельствам, милостями и подарками или строгостию и страхом.
7. Если Абульхайр или другие ханы и простые киргизы захотят кочевать близ нового города, то назначить им места, если же ханы пожелают иметь для приезда или житья дома, то строить оные под городом по их обычаю. Равным образом не отказывать им в построении мечетей, но иметь при них караул как для чести, так и для надзора.
8. Реку Урал назначить границею и смотреть, чтобы никто из киргизов своевольно на правый берег не переходил.
9. Для разбирательства учредить суд из русских чиновников и значительнейших киргизов, как, например, из ханских детей или других султанов и старейшин. В суде сем всякому судиться по обычаям своей земли.
10. По основании города и после свидания с Абульхайром при первом удобном случае отправить караван с товарами в Бухарию и, если можно, далее. Равным образом стараться привлечь в Россию для торговли купцов из разных мест Азии.
11. В каждом караване, начиная с первого, отправлять гео-дезистов для осмотра и съемки мест.
12. Отыскивать по возможности руды и осмотреть место, заключающее в себе, по словам Абульхайра, золото.
13. Стараться завести на Аральском море пристань и вооруженные суда, для чего построить вначале несколько шлюпок на Яике и, разобрав их, держать со всеми снастями во всегдашней готовности. Когда же город построится и связи с киргиз-казаками и каракалпаками утвердятся, то разобранные суда в зимнее время, с согласия Абульхайра и знатнейших старшин, привести на Аральское море и, опять собрав, вооружить пушками.
14. Покупать у киргизов при удобных случаях лошадей для кавалерии.
15. В открытии, добывании и продаже минералов, кроме золота и серебра, которые в киргизской степи могут быть найдены, поступать на купеческом основании, не теряя времени в соблюдении форм.
Дополнительные дипломатические наставления, ему [Кирилову] данные, имели целью:
1. Надзирать за башкирами, между которыми до того оказывались частые беспокойства.
2. Смотреть равным образом и за киргиз-казаками.
3. Если же те или другие будут волноваться, то употреблять один народ против другого, сберегая русское войско.
4. Стараться иметь верные и скорые известия о всех народах, пограничных с Россиею.
5. Особенно наблюдать действия зюнгаров, изыскивая средства прекратить набеги их на сибирские поселения и отвратить их от собирания подати с так называемых двоеданцев. Если же замечено будет со стороны их какое-либо движение, то немедленно доносить Коллегии иностранных дел и давать знать пограничным начальникам.
6. Абульхайру в войне его против хивинцев делать пособия только порохом и оружием, но войск вспомогательных не давать»140.
Теперь порассуждаем об уровне государственной зрелости обеих сторон в решении государственных задач. Относительно казахской стороны все просто и ясно. Перед ней стоят задачи – получить гарантии сохранения ханской власти за Абулхаиром и его наследниками и обеспечить ее защиту с помощью России. Абулхаира почему-то не волнует проблема джунгарских захватчиков, занявших к этому времени весь юг Казахского ханства. Не беспокоится он ни о торговле, ни о получении образования, ни об обучении ремеслу, строительному делу, обучении военному делу и т.д. Но не наше дело обвинять Абулхаир-хана, и так много сделавшего для будущего развития своего народа через сближение с Россией. Судя по всему, высшее российское чиновничество готово было оказывать разностороннюю и многогранную помощь вновь присоединившемуся многочисленному казахскому народу и в свете открывшегося прямого доступа к новым азиатским рынкам.
Имперская политика Российского государства поражает своей дальновидностью. Соответствующие ведомства (коллегии и департаменты) настолько внимательно заботятся об интересах России, инструкции и наставления составляются в таких деталях, что исполнителям остается только их точно выполнять. Конечно, выстраивая отношения с азиатскими странами, русское правительство учитывает неудачный опыт военно-дипломатической миссии Петра Великого, уничтоженной в результате коварных действий хивинского хана. Само собой разумеется, в приведенных выше документах интересы России ставятся превыше всего, также поступила бы каждая имперская страна.
134
Абулхаир, Абульхаир, Абулхайр – речь идет об одной той же исторической личности.
135
Левшин А.И.. – С. 178.
136
Левшин А.И. – С. 182
137
Левшин А.И..– С.493, коммент.
138
Левшин А.И. – С. 493, коммент.
139
Орь – река.
140
Левшин А.И. Описание киргиз-казачьих, или киргиз-кайсацких, орд и степей. – Алматы. – 1996. – С 178–188.