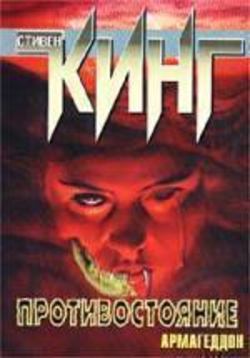Читать книгу Противостояние - Стивен Кинг - Страница 28
Часть первая. КАПИТАН ШУСТРИК
16 ИЮНЯ – 4 ИЮЛЯ 1990 ГОДА
27
ОглавлениеПосле смерти матери и отца Фрэнни потеряла способность к умственной концентрации. Она забывала о том, что делала, и ее ум уносился по какой-то неясной кривой, или она просто сидела, ни о чем не думая и заботясь о мире не больше, чем о кочане капусты.
Ее мать умерла в Сэнфордском госпитале. Отец умер в своей постели вчера вечером в половине девятого. Она долго сидела рядом с кроватью, потом спустилась вниз и включила телевизор. Работала только одна станция – ДаблЮСиЭсЭйч, филиал ЭнБиСи в Портленде. Негр, словно появившийся из самого страшного ночного кошмара ку-клукс-клановца, делал вид, что убивает из пистолета белых людей под аплодисменты зрителей. Разумеется, он просто делал вид – если такие вещи происходят на самом деле, их не показывают по телевизору, – но выглядело это вполне реально. Это ей напоминало «Алису в Зазеркалье», только на этот раз не Королева кричала «Отрубите им головы!», а… что? Кто? Черный король, – предположила она. Хотя этот кусок мяса в набедренной повязке вовсе не был похож на короля.
Позже какие-то другие люди ворвались в студию, и завязалась перестрелка, поставленная даже еще более реалистично, чем сцена казней. Она смотрела на людей, которым пули большого калибра чуть не отрывали головы и у которых из раздробленных шей вызывались пышные фонтаны артериальной крови. Она подумала, что у ДаблЮСиЭсЭйч могут отобрать лицензию на вещание – слишком уж кровавая передача.
Когда камера уперлась в потолок, она выключила телевизор и легла на кушетку, уставившись в свой собственный потолок. Там она и уснула, а сегодня утром она почти уже уверилась в том, что вся передача ей просто приснилась. Похоже, в этом и было все дело: все вокруг, начиная со смерти ее матери, превращалось в непрерывный кошмарный сон. Как в «Алисе»: становилось все страньше и страньше.
Несмотря на то, что он был уже болен, ее отец ходил на экстренное городское собрание. Фрэнни, чувствуя себя как во сне, отправилась вместе с ним.
Зал собраний был переполнен. Многие чихали, кашляли и сморкались. В результате было принято решение о закрытии города. Никто не сможет в него попасть. Если кто-то захочет уехать – пожалуйста, разумеется, если он понимает, что обратно ему уже не вернуться. Дороги, ведущие из города, в особенности – шоссе N1, должны быть забаррикадированы грузовиками, и вооруженные добровольцы будут стоять на посту. Если кто-то все-таки попытается пробраться в город, он будет застрелен.
Небольшая группа человек из двадцати требовала, чтобы больные немедленно были выдворены за пределы города. Их предложение было отвергнуто подавляющим большинством голосов, так как к вечеру двадцать четвертого почти у каждого жителя города, даже если сам он был пока здоров, были больные родственники или близкие друзья. Многие из них верили сообщениям о том, что скоро появится вакцина. «Как мы потом посмотрим в глаза друг ДРУГУ, – восклицали они, – если, повинуясь беспричинной панике, мы поступим со своими земляками, как с париями?»
Тогда поступило предложение выдворить из города всех дачников.
Дачники мрачно заявили, что за счет налогов, которые они платят за свои коттеджи, существуют городские школы, дороги, пляжи. Если их выдворят, жители Оганквита могут быть уверены, что больше сюда они не вернутся. И тогда местные жители могут вновь заняться промыслом омаров, съедобных моллюсков и морских ежей. Предложение о выдворении дачников было провалено солидным большинством голосов.
К полуночи баррикады были построены, а к утру двадцать пятого числа три или четыре человека были убиты. Это были люди, в панике покинувшие Бостон и устремившиеся на север.
К вечеру большинство добровольцев на баррикадах заболели сами, покраснели от жары и постоянно опускали оружие, чтобы высморкаться.
К утру вчерашнего дня отец Фрэнни, возражавший против самой идеи баррикад, слег в постель, и Фрэнни стала при нем сиделкой. Он не разрешил ей отвезти его в больницу. Если ему суждено умереть, – сказал он, – то он хочет умереть у себя дома.
После полудня движение на дорогах совсем прекратилось. Гус Динсмор, сторож пляжной автостоянки, сказал ей, что на дороге скопилось столько машин, что даже те водители, которые еще способны были вести свои автомобили, не имели возможности проехать. У Гуса, до вчерашнего дня чувствовавшего себя превосходно, начался насморк. Собственно говоря, единственным здоровым человеком в городе, кроме Фрэн, был шестнадцатилетний брат Эми Лаудер по имени Гарольд. Сама Эми умерла как раз перед первым городским собранием, и ее ненадеванное свадебное платье так и осталось висеть в шкафу.
Сегодня Фрэн не выходила. Она никого не видела с тех пор, как вчера заходил Гус. Несколько раз за это утро она слышала шум мотора, один раз до нее донесся звук двойного выстрела из двустволки. Это были единственные звуки, нарушившие воцарившуюся в городе гробовую, ирреальную тишину.
Почти уже час Фрэнни сидела на кухне перед тарелкой с куском земляничного пирога. Тупое, полувопросительное выражение застыло на ее лице. В холодильник было встроено автоматическое устройство для изготовления льда, и время от времени изнутри раздавался холодный стук – еще один кубик был готов. Две мысли, вроде бы не имевшие между собой никакой связи, стали зарождаться в ее мозгу. Прислушиваясь к постукиваниям кубиков в холодильнике, она сосредоточилась на них. Первая мысль сводилась к тому, что ее отец мертв: он умер у себя дома, и, возможно, ему это было по душе.
Вторая мысль имела отношение к погоде. Стоял прекрасный, безупречный летний день. Ярко светило солнце, и Фрэнни видела, что термометр за кухонным окном показывает почти восемьдесят градусов по Фаренгейту. Прекрасный денек, и ее отец мертв. Существует ли между двумя этими мыслями какая-то связь?
Она задумалась. Взгляд ее стал смутным и апатичным. Ее мысль кружила вокруг проблемы, а потом отвлекалась на другие предметы. Но рано или поздно она снова возвращалась назад.
Стоял прекрасный теплый денек, и ее отец был мертв.
Это немедленно привело ее в чувство, и она зажмурила глаза, как от удара.
В тот же самый момент ее руки инстинктивно схватились за скатерть, и тарелка полетела на пол. Она лопнула словно бомба, и Фрэнни закричала, впившись ногтями себе в щеки. Блуждающая, апатичная неопределенность исчезла из ее глаз, которые внезапно стали смотреть остро и прямо. Словно ей закатили сильную пощечину или поднесли к носу пузырек с нашатырем.
Нельзя оставлять труп в доме. Только не в разгар лета.
К ней вновь стала возвращаться апатия, затуманивая очертания мысли. Она снова стала прислушиваться к звукам падающих ледяных кубиков.
Она встала, подошла к раковине, открыла на полную мощь кран с холодной водой и стала плескать ее себе на лицо. Она может раздумывать о чем угодно, но одну проблему она должна решить. Должна. Она не может оставить его в постели в дни, когда июнь превращается в июль. Это будет слишком похоже на рассказ Фолкнера «Роза для Эмили», который включают во все институтские антологии. «Роза для Эмили». Отцы города не знали, откуда исходил этот ужасный запах, но, спустя немного времени, он исчез. Он… Он…
– Нет! – вскрикнула она громко в залитой солнцем кухне.
Она начала быстро ходить из стороны в сторону. Ее первая мысль была о городском морге, но кто… кто…
– Не пытайся уйти от этого! – закричала она яростно. – Кто похоронит его?
Вместе со звуком ее голоса пришел и ответ. Он был абсолютно ясен. Она, конечно. Кто же еще? Только она.
В половину третьего днем она услышала, как к дому подъезжает машина. Она положила лопату на край ямы – она копала яму в саду, между помидорами и салатом-латуком – и обернулась, слегка испуганно.
Это была новая модель «Кадиллака» бутылочного цвета, и из открывшейся двери выходил толстый шестнадцатилетний Гарольд Лаудер. Фрэнни почувствовала внезапный приступ неприязни. Гарольд ей не нравился, и она не знала ни одного человека, который бы относился к нему иначе – это относилось и к его покойной сестре Эми.
Гарольд издавал литературный журнал средней школы Оганквита и писал странные рассказы в настоящем времени или от второго лица, а иногда и то, и другое вместе. Ты проходишь по бредовому коридору, прокладываешь путь сквозь расщепленную дверь и смотришь вверх на гончие звезды – таков был стиль Гарольда.
Волосы Гарольда были черными и жирными. Он был довольно высоким и весил почти двести сорок фунтов. Он предпочитал ковбойские ботинки с острыми носами, широкие кожаные ремни, которые ему приходилось постоянно подтягивать, так как его живот был значительно толще задницы, и цветастые рубашки, которые развевались на нем, как паруса.
Он ее не заметил, так как смотрел на дом.
– Есть кто-нибудь дома? – закричал он, а потом просунул руку в окно «Кадиллака» и просигналил. Звук ударил Фрэнни по нервам. Она не отозвалась бы, если бы не была уверена, что когда Гарольд будет садиться обратно в машину, он обязательно увидит ее на краю выкопанной ямы. На мгновение ей захотелось лечь на землю, уползти поглубже в сад и затаиться среди гороха и бобов до тех пор, пока он не уедет.
Прекрати, – приказала она самой себе, – немедленно прекрати. В любом случае, он живой человек.
– Я здесь, Гарольд, – позвала она.
– Привет, Фрэн, – сказал он радостно, и глаза его с жадностью скользнули по ее фигуре.
– Привет, Гарольд.
– Я слышал, что ты делаешь успехи в сопротивлении смертельной болезни, поэтому я и заехал к тебе. Я объезжаю город. – Он улыбнулся ей, обнажая зубы, которые, в лучшем случае, лишь шапочно были знакомы с зубной щеткой.
– Я очень расстроилась, когда услышала об Эми, Гарольд. Твой отец и мать?..
– Боюсь, что так, – сказал Гарольд. – Но ведь жизнь продолжается, правда?
– Наверное, – вымученно произнесла Фрэнни. Его взгляд снова остановился на груди, и она пожалела, что на ней не одет свитер.
– Как тебе моя машина?
– Она ведь принадлежит мистеру Брэннигану? – Мистер Брэнниган был местным агентом по продаже недвижимости.
– Принадлежала, – сказал Гарольд равнодушно.
– А теперь извини меня, Гарольд…
– Но чем ты можешь быть занята, детка?
Ощущение ирреальности происходящего вновь попыталось вползти в нее, и она задумалась о том, сколько же человеческий мозг может вынести перед тем, как лопнуть, словно старая изношенная резинка. Мои родители умерли, но я могу примириться с этим. Какая-то жуткая болезнь охватила всю страну, может быть, весь мир, пожиная праведных и неправедных – и я могу примириться с этим. Я копаю яму в саду, который мой отец пропалывал еще только неделю назад, и когда яма будет достаточно глубокой, я похороню его в ней – и я думаю, что смогу примириться с этим. Но Гарольд Лаудер в «Кадиллаке» Роя Брэннигана, пожирающий меня глазами и называющий меня «деткой»? Я не знаю. Господи. Я просто не знаю.
– Гарольд, – сказала она терпеливо. – Я тебе никакая не детка. Я на пять лет старше тебя. Физически невозможно, чтобы я была твоей деткой.
– Просто такое выражение, – сказал он, слегка зажмурившись от ее спокойной ярости. – В любом случае, что это там такое? Вон та яма?
– Могила. Для моего отца.
– Ааа, – протянул Гарольд тихим, встревоженным голосом.
– Хочу пойти попить воды. Честно говоря, Гарольд, я дожидаюсь того момента, когда ты уйдешь. Я не в духе.
– Понимаю, – сказал он напряженно. – Но Фрэн… в саду?
Она уже пошла к дому, но, услышав его слова, яростно обернулась.
– Ну, и что ты предлагаешь? Положить его в гроб и дотащить до кладбища? Но зачем все это? Он любил этот сад! Но в любом случае, тебе-то какое до этого дело?
Она расплакалась. Повернувшись, она побежала на кухню, зная, что Гарольд будет смотреть на ее покачивающиеся ягодицы, накапливая материал для порнофильма, постоянно прокручивающегося у него в голове.
Она закрыла за собой дверь, подошла к раковине и быстро выпила три стакана холодной воды подряд.
– Фрэн? – донесся до нее неуверенный, тихий голос.
Она обернулась и сквозь стекло двери увидела Гарольда. Он выглядел озабоченно и несчастно, и Фрэн внезапно почувствовала к нему жалость. Гарольд Лаудер, разъезжающий по этому печальному, опустевшему городу в «Кадиллаке» Роя Брэннигана, Гарольд Лаудер, у которого, возможно, в жизни не было ни одного свидания, одержимый чувством, которое он, наверное, сам определял, как презрение к миру. К свиданиям, девушкам, друзьям – ко всему. В том числе, и это уж наверняка, к самому себе.
– Извини, Гарольд.
– Нет, я сам виноват. Послушай, если ты не против, я могу помочь.
– Спасибо, но лучше мне сделать это одной. Это…
– Это личное. Конечно, я понимаю.
Она могла достать свитер из шкафа на кухне, но, разумеется, он понял бы, зачем она это сделала, а ей не хотелось снова смущать его. Гарольд изо всех сил пытался держаться, как хороший мальчик, что несколько напоминало попытки говорить на иностранном языке. Она вышла из дома, и мгновение они стояли вместе и смотрели на сад и на яму с разбросанной вокруг землей.
– Что ты собираешься делать? – спросила она Гарольда.
– Не знаю, – сказал он. – Знаешь… – Он запнулся.
– Что?
– Ну, мне трудно об этом говорить. Я не самый любимый человек на этом кусочке Новой Англии. Сомневаюсь, что мне поставят в этих краях памятник, даже если я когда-нибудь стану знаменитым писателем, как когда-то мечтал.
Она ничего не ответила, только продолжала смотреть на него.
– Вот! – воскликнул Гарольд, и тело его дернулось, словно слово вылетело из него, как пробка. – Вот я и удивляюсь этой несправедливости. Эта несправедливость выглядит – для меня, по крайней мере – такой чудовищной, что мне легче поверить, будто неотесанным грубиянам, которые посещают нашу местную цитадель знаний, удалось-таки наконец свести меня с ума.
Он поправил очки на носу, и она сочувственно заметила, насколько его мучают прыщи. Говорил ли ему кто-нибудь, – подумала она, – что мыло и теплая вода могут немного помочь? Или все они были слишком увлечены, наблюдая за тем, как их хорошенькая малышка Эми на крыльях неслась сквозь Мэнский университет, имея средний балл 3,8 и закончив двадцать третьей на курсе, где было более тысячи человек?
– Свести с ума, – тихо повторил Гарольд. – Я разъезжал по городу на «Кадиллаке». И посмотри на эти ботинки. – Он слегка приподнял штанины джинсов, приоткрывая сияющие ковбойские ботинки с изощренными украшениями.
– Восемьдесят шесть долларов. Я просто зашел в обувной магазин и подобрал мой размер. Я чувствовал себя самозванцем. Актером в пьесе. Сегодня были такие моменты, когда я был уверен, что сошел с ума.
– Нет, – сказала Фрэнни. От него пахло так, словно он не принимал ванну три или четыре дня, но это больше не вызывало у нее отвращения. – Откуда эта сорочка? Я приснюсь тебе, если ты приснишься мне? Мы не сумасшедшие, Гарольд.
– Может быть, было бы лучше, если б мы действительно оказались сумасшедшими.
– Кто-то появится, – сказала Фрэнни. – Через некоторое время. Когда эта болезнь, наконец, кончится.
– Кто?
– Кто-то сильный, – сказала она неуверенно. – Кто-то, кто сможет… ну… привести все в порядок.
Он горько засмеялся.
– Милая ты моя детка… извини, Фрэн. Фрэн, все это сделали сильные люди у власти. Они здорово умеют приводить все в порядок. Одним махом они разрешили все проблемы – экономическую депрессию, загрязнение окружающей среды, нехватку топлива, холодную войну. Да, они все привели в полный порядок. Они разрешили проблемы тем же способом, которым Александр распутал Гордиев узел – просто разрубив его пополам.
– Но ведь это просто новый вирус гриппа, Гарольд. Я слышала по радио.
– Мать-Природа не работает такими методами, Фрэн. Это у твоих сильных людей у власти есть свора бактериологов, вирусологов и эпидемиологов, засевших в каком-нибудь правительственном учреждении и занятых изобретением всяких новых зверюшек. А потом какая-нибудь хорошо оплачиваемая жаба говорит: «Смотрите, что я придумал. Убивает почти всех». Ну разве это не прекрасно? Ему дают медаль и увеличивают зарплату. А потом кто-нибудь разбивает пробирку.
– Что ты будешь делать, Фрэн?
– Хоронить отца, – ответила она мягко.
– Ой… ну конечно. – Он быстро посмотрел на нее и сказал: – Послушай, я собираюсь уехать отсюда. Из Оганквита. Если я останусь здесь еще на какое-то время, то действительно сойду с ума. Фрэн, почему бы тебе не поехать со мной?
– Куда?
– Пока не знаю.
– Ну, когда будешь знать, приди и спроси меня еще раз.
Гарольд просиял.
– Хорошо. Так я и сделаю. Видишь ли, дело в том… – Он запнулся и сошел с крыльца, словно в каком-то полусне. Его новые ковбойские ботинки сверкали на солнце. Фрэн наблюдала за ним с грустным недоумением.
Он помахал ей перед тем, как сесть за руль «Кадиллака». Фрэн подняла руку в ответ. Он неумело дал задний ход. Машина дернулась влево и раздавила некоторые из цветов Карлы. Наконец, он вырулил на дорогу и чуть не попал в канаву. Потом он просигналил два раза и укатил. Фрэн смотрела ему вслед, пока он не скрылся из виду, а потом вернулась в сад своего отца.
После четырех часов дня, пересиливая себя, она поднялась наверх шаркающей походкой. В висках у нее стучала тупая головная боль, вызванная жарой и переутомлением. Она решила было отложить это на один день, но ведь будет только хуже. В руках она несла лучшую дамасскую скатерть своей матери, предназначенную исключительно для гостей.
Все было не так хорошо, как она надеялась, но и не так плохо, как она страшилась. На лице у него были мухи, и кожа потемнела, но у него был такой сильный загар от работы в саду, что это едва было заметно. Запаха не чувствовалось, а запаха-то она и боялась сильнее всего.
Он умер на двуспальной кровати, которую годами разделял с Карлой. Фрэнни положила скатерть на половину матери и, сглотнув слюну, приготовилась перекатить отца на его саван.
На Питере Голдсмите была надета полосатая пижама, и она была поражена легкомысленным несоответствием этого одеяния данному случаю, но придется обойтись тем, что есть. Она не могла даже подумать о том, чтобы переодеть его.
Напрягшись, она ухватила его за левую руку – она была твердой, как мебель – и перекатила его на скатерть. Отвратительный, протяжный звук раздался из его рта, словно туда забралась цикада и завела там свою нескончаемую песню.
Она взвизгнула, отшатнулась и сшибла прикроватный столик. Его расчески, щетки, будильник, небольшая кучка мелочи, несколько булавок для галстука и запонок со звяканьем упали на пол. Теперь она почувствовала запах, омерзительный запах разложения, и последняя защитная дымка вокруг нее рассеялась. Теперь она знала правду. Она упала на колени, обхватила руками голову и зарыдала. Она хоронит не какую-нибудь куклу ростом с человека, она хоронит своего отца, и последнее – самое последнее – человеческое свойство, которое от него осталось, это крепкий, ядовитый запах, распространившийся теперь по комнате. А скоро и он исчезнет.
Постепенно она пришла в себя, и к ней вернулось сознание предстоящей работы. Она подошла к нему и перевернула его на спину. Он издал еще один рыгающий звук, на этот раз тихий и угасающий. Она поцеловала его в лоб.
– Я люблю тебя, папочка, – сказала она. – Я люблю тебя, Фрэнни любит тебя. – Ее слезы капали на его лицо. Она сняла с него пижаму и одела его в лучший костюм. В нижнем ящике, под носками, она нашла его военные награды и приколола их к пиджаку. В ванной комнате она нашла детскую пудру «Джонсон» и напудрила его лицо, шею и руки. Сладкий, ностальгический запах пудры вновь заставил ее заплакать.
Она завернула в скатерть, достала швейный набор матери и зашила саван. С трудом ей удалось медленно опустить его тело на пол. Приподняв верхнюю часть тела, она очень осторожно опустила его по лестнице. Потом она остановилась передохнуть. Воздух выходил у нее из легких с короткими, жалобными стонами. Головная боль стала еще сильней.
Она протащила тело по прихожей и через кухню, а потом вытащила его на крыльцо. Вниз по ступенькам. Теперь снова надо отдохнуть. Земля была освещена золотыми лучами заходящего солнца. Она села рядом с телом отца, положила голову на колени и снова дала волю слезам. Щебетали птицы. Наконец она смогла вытащить его в сад.
К четверти девятого все было кончено. Она изнемогала от утомления. Волосы повисли спутанными крысиными хвостами.
– Покойся в мире, папочка, – пробормотала она. – Пожалуйста.
Она оттащила лопату обратно в мастерскую отца. Пока она поднималась по шести ступенькам крыльца, ей пришлось отдохнуть два раза. Не включая света она прошла через кухню и сбросила свои теннисные туфли, прежде чем войти в гостиную. Она рухнула на кушетку и немедленно уснула.
Во сне она вновь поднималась по лестнице, направляясь к отцу, чтобы исполнить свой долг и похоронить его надлежащим образом. Но когда она вошла в комнату, то скатерть уже была на нем, и ее горе уступило место какому-то другому чувству… очень похожему на страх. Она пересекла погруженную во мрак комнату, не желая этого делать, с одной лишь мыслью о том, что надо бежать отсюда, но не в силах остановиться. Скатерть призрачно светилась в сумерках, и внезапно она поняла: «То, что там лежит,
– это не ее отец. И то, что там лежит, вовсе не мертво.»
Что-то – кто-то, исполненное омерзительного веселья, было под скатертью, и лучше ей расстаться с жизнью, чем сдвинуть ее, но она… не могла… остановиться.
Ее рука вытянулась, замерла над скатертью и резко отдернула ее.
Он усмехался, но она не могла разглядеть его лица. От этой ужасной усмешки ее захлестнула волна ледяного холода. Да, она не могла разглядеть его лица, но чувствовала, какой подарок преподнесло это кошмарное видение ее неродившемуся ребенку – перекрученную пуповину.
Она спасалась бегством, из комнаты, из сна, просыпаясь, ненадолго выныривая на поверхность…
В три часа ночи она ненадолго очнулась от сна – ее тело, плавало в пене ужаса, а сон уже распадался и терял связность, оставляя после себя лишь чувство обреченности, напоминавшее прогорклый привкус во рту, который остается после какого-нибудь протухшего блюда. В промежутке между сном и бодрствованием она подумала: «Он, это он, Ходячий Хлыщ, человек, у которого нет лица.»
Потом она снова заснула, на этот раз без снов, и когда она проснулась на следующее утро, ночной кошмар не всплыл у нее в памяти. Но когда она подумала о ребенке у себя в животе, ее немедленно захлестнуло яростное желание встать на его защиту. Глубина и сила этого чувства смутили ее и немного испугали.