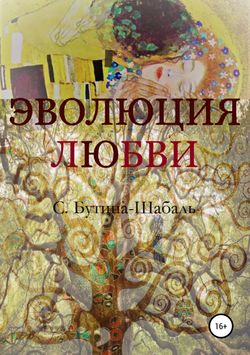Читать книгу Эволюция любви - Светлана Львовна Бутина-Шабаль - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Маленький культурологический очерк… про человека и его любовь
Сексуальные отношения в архаических обществах
ОглавлениеИтак «типология обществ» – по способу добывания средств к существованию – включает:
общества охотников и собирателей – это самая ранняя форма организованной социальной жизни. Люди выживают благодаря охоте и сбору съедобной пищи. Поскольку эти способы добывания пищи быстро сокращают запасы животных и растений в данной местности, люди постоянно находятся в движении. Формы социальной организации чрезвычайно примитивны и «естественны», их источником являются родственные связи по крови или браку, то есть, это еще вполне себе биологические сообщества;
огороднические общества – примерно 10 тыс. лет назад люди научились выращивать растения для собственного пропитания. Мотыга – основа для возникновения огороднических обществ. Люди расчищают участок земли по подсечно-огневой технологии, выращивают урожаи в течение двух-трех лет, а затем, когда почва истощается, переходят на другие участки. При эффективном способе ведения хозяйства возможно получить излишки – более того, что необходимо для выживания. Эти излишки становятся фундаментом для: а) социальной стратификации; б) специализации некоторых экономических, политических и религиозных ролей; в) военных действий; г) усложнения элементов культуры. Верхний предел большинства огороднических общин составляет примерно 3000 человек.
Основная форма культуры, способ смыслового бытия этих обществ (как охотников и собирателей, так и огороднических) – МИФ. В отличие от более поздних разновидностей мифа (религиозного, политического, масскультурного и пр.) назовем его ОНТОЛОГИЧЕСКИМ МИФОМ, поскольку в данных обстоятельствах он был организацией жизни сообщества. Онтологический миф не являлся результатом сколько-нибудь сознательного индивидуального творчества, его продуцировала община – коллективный безличный субъект, —создавая программы жизнедеятельности для своих членов.
Миф – это «культурный инстинкт». Инстинкт животного – генетически и нейробиологически заданная программа, которая жестко определяет его взаимодействие со средой существования (стадом, стаей, непосредственно природной средой), сохраняя подвижное равновесие животного и среды, объединяя их в одну систему. Миф – такая же жесткая и полная поведенческая программа, но которая задает человеческого индивида как элемент социума, поскольку не индивид, а социум уравновешивается с природной средой. Миф обеспечивается языковыми и символическими механизмами, имеющими нейробиологические корреляты; поэтому, к примеру, человек, нарушивший табу, умирает без всякого внешнего воздействия, смерть приходит к нему «изнутри» только от простого знания о данном факте.
В мифе форма социума проецируется на индивида и на всю объективно-вещественную природу. Поскольку природа призвана обеспечивать, подтверждать, оправдывать устройство этой кровнородственной общины, природа понимается по аналогии с общиной как иерархия родственных и враждебных сил, которая «требует» правильности общинной жизни, регулярности сакральных ритуалов для предупреждения природных катаклизмов. Поэтому «первые лица» (жрецы, цари-жрецы) несут ответственность не только за общину, но и за природу. Природа «требует» и могущественного, сильного вождя, как того, кто способен ее укротить и умиротворить. Вождя, становящегося малосильным, следовало заменить на другого – более соответствующего своей обременительной роли.
Сама община покоится на предках и отцах, культ которых непререкаем, ибо они воплотили собой предел мудрости, всезнания и добродетели. Образец успеха и благолепия, случившийся в прошлом, подлежит почитанию и постоянному воспроизводству, чему, собственно, и равна духовная (смысловая) жизнь общины. Миф рассказывает о сотворении мира, дает модели поведения, определенно и полно регламентирует социальную и частную жизнь, производство и ремесла. Являясь кладезем знаний регламентирующего и инструктирующего характера, миф позволяет накапливать только то знание, которое вписывается в горизонт сообщества, не принимая ничего чуждого. Миф не дает почвы для «немотивированного», «пустого» вопрошания и проблематизации сакрального знания. В отношении индивидов, зараженных вирусом сомнения и беспричинного беспокойства, существовали особые предустановленные механизмы ликвидации, например, при ритуале инициации такие «нестандартные» выбраковывались руками «первых лиц»: погибали, не выдерживая священных испытаний, «по воле богов» или «злого рока». Поэтому община всегда сохраняла свою однородность при полном отсутствии сомневающихся и инакомыслящих.
Таким образом, в рамках мифа индивид, – его сознание, деятельность и даже тело, – является функцией сообщества и не более.
Миф не позволял индивиду относиться к его собственному психическому содержанию как к личному достоянию. Он объяснял протекающие внутренние процессы вторжением внешних сил, заинтересованных духов, одержимостью демонами, бесами. «То, что мы называем любовью, простолюдин называет порчей, сухотой, которая должна быть напущена,» – отмечал В.И. Даль в работе «О поверьях, суевериях и предрассудках русского народа» (1845 г.). Образчик колдовского заговора на любовь запечатлела новгородская берестяная грамота второй половины XIV-XV вв.: «[Како ся разгоре сердце мое, и тело мое, и душа моя до тебе и до тела до твоего, и до виду до тво]его, тако ся разгори сердце твое, и тело твое, и душа твоя до мене, и до тела до моего, и до виду до моего…»
Против наваждения всяких нежелательных душевных движений существовали предохранительные ритуальные манипуляции, обереги, заклятия, обряды очищения. Такой арсенал оборонительных средств предварялся и укреплялся извечным страхом пред всяким особенным, уникальным содержанием внутренней жизни, не соотносящимся с незамысловатыми представлениями мифа о человеческой душе.
Мифологическая культура при своей предельной условности – предельно нормативна. Сексуальное поведение всегда было предметом системы запретов, посредством которых община унифицировала это поведение, даже если в той или иной степени допускался промискуитет. Самый древний и универсальный запрет, налагаемый мифом на сексуальность, – экзогамия, когда запрещаются брачно-семейные отношения между членами одного и того же клана (рода). Такие отношения табуированы. Это значит, что наказание следует с физической непреложностью за действием вне зависимости от персональной вменяемости преступника. Вопрос об оценке вины самого человека просто не возникает – нарушитель запрета должен быть отторгнут: либо предан смерти, либо изгнан. Считалось, что нарушение табу навлекает беды на весь род. Само же наказание – не столько возмездие, сколько исправление создавшегося положения, предохраняющее род от несчастья. Виновник, будучи носителем «родового» сознания, переживал свой поступок как катастрофу, после которой оказывалось невозможным продолжать свою жизнь.
Образцы допустимого сексуального поведения возникали в жизненной практике и закреплялась в качестве обычая. Норма оформлялась как результат сложения массы однотипных актов и превращения их в общепринятые стереотипы. В обычае должным является сущее: так поступают все, поэтому от каждого человека требуется совершение таких же действий.
Норма целесообразна в отношении ситуации, но по существу – условна. Вся условность нормы проступает на поверхность тогда, когда она необходимо уравновешивается своим отрицанием. Отрицание нормы неизбежно потому, что всякая условность генерирует напряжение и негативную энергетику: в игру нельзя играть всегда, природа – объективная действительность – требует возврата к себе, то есть выхода из игры, пусть и кратковременного. Поэтому, какой бы жесткой не была система запретов, всегда предусматривается социально санкционированная возможность их нарушения. Есть литургические или «карнавальные» праздники, когда нормой становится нарушение нормы. В «цивилизованном обществе», как известно, формирование патриархальной моногамии уравновешивалось институционализацией проституции.
Поскольку в древних обществах для личности не было никаких условий и возможностей: не индивид жил, но, в том числе, этим индивидом жила община, – то сексуальные отношения, индивидуально-интимные по своей природе, понимались через противопоставление духовного «верха» и телесного «низа». Ведь в духовном «верхе» заключался регулирующий принцип общинного бытия, а в телесном «низе» присутствовала перво-наперво сама индивидуальность. По свидетельству историка Н. Костомарова, русские крестьяне в половом акте видели что-то нечистое: «считалось необходимым после ночи, проведенной супругами вместе, ходить в баню, прежде чем подойти к образу»2. Жизнь массы (русского народа) никогда не выходила за рамки мифа, который при христианизации был переинтерпретирован и обратился в религиозный миф. Согласно этому мифологическому способу бытия, все личное, свое собственное, то, что по чистому «хотению» и душевному «избытку», на свой страх и риск (=личность), оказывалось только маленьким, жалким и несчастным существом, занимающим самый дальний и глухой угол сознания и не подлежащим членораздельному выговариванию, – той собачонкой Му-Му, которая по барскому приговору неизбежно должна быть выброшена из жизни в омут смерти.
Какой духовный климат определяло противопоставление духовного «верха» и телесного «низа»? Это демонстрируют архаические по способу бытия, но современные нам племена: главным чувством мужчины является высокомерие и презрение к женщине, главным чувством женщины – боязнь и неприязнь к мужчине. «Они, – говорит о девочках подросток из племени алава, — как и крокодилы, были нашими естественными противниками… Я думал о них как о злейших врагах, которых надо всячески изводить и мучить…» «при малейшем поводе мы нападали на девочек, а они — на нас». «Может, именно поэтому я, как и многие другие аборигены, никогда не ухаживал за девушкой. Может, поэтому большинство алава не целуют своих подруг даже после женитьбы»3.
Материя любви, воплощенный аспект любви – красота. Красота изначально связана с человеческим телом, ибо оно есть первый предмет заботы человека и первый предмет его любви. Мы сами обитаем, прежде всего, в собственном теле. Тело – исходный пункт самоидентификации. Красота архаичной культуры оставляет у нас очень странные впечатления. Но мало того, дело не заключается лишь во вкусах, объективным критерием красоты является реализация в ней свободы, раскрепощенности человека. Архаичная «красота» аборигенов – в отличие от греческой классики (это уже иной уровень культуры) – отягощает, закрепощает и уродует человеческое тело, которое становится страдающим носителем общинных и иерархических символов. Раскраска тела, татуировки и рубцевания, сложные сооружения из перьев, зубов и рогов, искусственно деформированные части тела откровенно обнаруживают «дикаря», от которого цивилизованный человек интуитивно дистанцируется.
Религия, получающая массовое распространение, необходимо упрощается и регрессирует в форму религиозного мифа, каким является массовое православие, массовый ислам и т.д. Такой миф уже требует упразднения тела в качестве предмета человека, поэтому тело упаковывается в кокон невыразительной одежды, не повторяющей изящно телесных линий. Религиозный миф претендует на то, чтоб красота тела перестала существовать как культурный феномен, как общезначимая ценность. Здесь Афродита отпущена вечно «отдыхать». В поле красоты тела только и может формироваться красота телесных взаимоотношений, которая, стало быть, в религиозном мифе обращается в непристойность или умолчание и неловкость.
Но далее… Культура меняется не тогда, когда «меняется» человек, а когда меняется предмет в его руках, когда в его руках появляется какое -то существенно новое орудие освоения действительности.
Аграрные общества. Изобретение плуга 5-6 тыс. лет назад в плодородных долинах рек Ближнего Востока стало началом революции в сельском хозяйстве и возникновения аграрных обществ. Плужная обработка почвы умножает ее плодородие. Кроме того, использование силы животных (например, волов) и открытие основных принципов металлургии в значительной степени повысили эффективность плуга. Эти нововведения способствовали получению обильных урожаев, увеличению количество пищи, а, следовательно, увеличению населения, возникновению городов и усложнению форм социальной организации. Со временем появились усовершенствованные политические институты, позволившие концентрировать власть в руках наследных монархов. Достижения аграрных обществ – египетские пирамиды, дороги и акведуки Древнего Рима, разветвленные ирригационные системы Ближнего Востока и Китая.
Основная форма осмысления жизни аграрных обществ (форма культуры) – религия. Религия связана с развитием человеческой способности, к абстрактному мышлению, к рефлексии – проецированию чувственной данности на плоскость трансцендентного, не имеющего чувственной формы существования, то есть абсолютно потустороннего и запредельного. Но религия не могла появиться непосредственно из недр мифологии, сама по себе мифология не заключает в себе ресурсов развития, а является конечной, тупиковой формой культуры. Религия не выходит здоровым младенцем из якобы материнской утробы мифологии, но возникает лишь потому, что с мифологией нечто приключилось. Что бы это могло быть – покажем на примере одной из конкретных мифологий, которая стала «нехорошей», неправильной мифологией, оказалась зараженной каким-то скрыто присутствующим в ней вирусом нежизнеспособности, шаткости основ, вирусом иммунодефицита. Именно эта «паршивая овца» мифологии – античная мифология и породила в дальнейшем тоже «нехорошую» постоянно мутирующую европейскую культуру. Поэтому сначала речь – об античной мифологии, а о религии – позже.
2
Костомаров Н. Очерки домашнего быта и нравов великорусского народа в XVI-XVII столетиях. М., 1887. С.138.
3
Локвуд Д. Я – абориген. М., 1971. С.95-97.