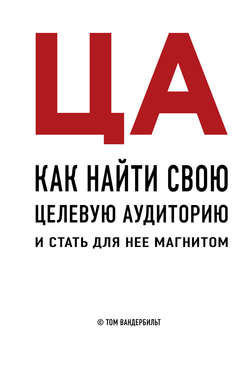Читать книгу ЦА. Как найти свою целевую аудиторию и стать для нее магнитом - Том Вандербильт - Страница 3
Введение
Какой у вас любимый цвет и почему он у вас вообще есть?
Оглавление– Какой у тебя любимый цвет?
Такой вопрос задала мне однажды утром по дороге в сад пятилетняя дочь, в последнее время увлекшаяся «любимым», – она все время рассказывала мне о том, что любит, и выясняла, что люблю я.
– Синий! – ответил я, чувствуя себя крутым парнем с Дикого Запада (как известно, на Диком Западе любят синий, а тамошние мужчины любят его даже немного больше, чем женщин).
Последовала пауза.
– А почему тогда наша машина не синяя?
– Ну, синий-то я люблю, но машины синие мне не очень нравятся.
Она задумалась:
– Мой любимый цвет – красный!
Перемена налицо. На той неделе любимым был розовый. А где-то на горизонте, кажется, уже маячит зеленый…
– Так поэтому ты сегодня надела красные брюки? – спросил я.
Она улыбнулась:
– А у тебя красные брюки есть?
– Нет, – ответил я.
Когда я жил в Испании, то купил (и носил!) красные штаны, поскольку заметил, что такие носят испанцы. Но как только переехал в Нью-Йорк, где мужчины в красных брюках встречаются редко, пришлось штанам оставаться в шкафу. То, что в Мадриде считалось нормой стиля, в Америке в 1991 году смотрелось как сильно опережающее самые смелые ожидания модников. Но дочери я всего этого объяснять не стал.
– Надо бы тебе тоже купить красные брюки.
– Думаешь?
Кивает.
– А какое у тебя любимое число?
У меня ступор.
– Гммм, не уверен, что у меня есть любимое число… но все же… наверное, восемь! – Сказав, я начинаю думать: с чего бы это? Может быть, потому, что в детстве мне всегда казалось, будто писать восьмерку легче всего?
– А у меня – шесть! – говорит дочь.
– А почему?
Нахмурилась и пожимает плечами:
– Не знаю. Мне нравится шесть!
Почему же нам нравится то, что нравится? В коротком разговоре с дочерью мы затронули по меньшей мере пять важных принципов науки о вкусах. Первый – вкусы имеют тенденцию к однозначности. Мне нравится синий, только если речь не идет о машинах (а почему нет?). Возможно, вы любите апельсиновый сок, но не в коктейлях. Второй – вкусы обычно зависят от контекста. Брюки, которые нравятся в Испании, в Нью-Йорке с тем же удовольствием не поносишь. Наверняка и вам случалось привозить домой из путешествий сувениры (какие-нибудь эспадрильи или цветастое пончо), которые там, где вы их приобрели, радовали глаз, а теперь вот пребывают в тоскливом изгнании где-то в шкафу. Третье – вкусы часто бывают результатом построений. Когда меня спросили, какое у меня любимое число, само число тут же всплыло в голове, а уже потом стали появляться возможные объяснения. Четвертое – вкусы по природе своей сравнительны. Даже еще не научившиеся говорить дети тянутся к тем, кто разделяет их вкусы, а не к тем, кто их не разделяет. В одном весьма элегантно задуманном (и, без сомнения, не менее забавно исполненном) исследовании маленькие дети должны были сначала выбрать одно из двух блюд. Затем им демонстрировали кукол, которым «нравилось» или «не нравилось» данное блюдо. А когда детям предлагали выбрать одну из этих кукол для игры, юные объекты исследования демонстрировали явное тяготение к той кукле, которой «понравилось» блюдо, понравившееся им самим[1]. Самое грустное, однако, то, что вкусы крайне редко передаются по наследству. Как бы мы ни пытались влиять на детей, сколько бы ни было в них наших генов, они редко разделяют родительские вкусы[2].
Наш с дочерью разговор закончился признанием самого известного факта, касающегося вкусов и предпочтений: их чертовски трудно объяснить! Почти три века назад философ Эдмунд Берк в одной из первых скрупулезных работ о вкусах пожаловался, что это «тонкая и почти неуловимая способность, которая не в состоянии выдержать тяжести цепей определения, настолько она кажется хрупкой, не может быть подведена ни под один критерий и не подчиняется ни одному стандарту»[3].
Люди, пытавшиеся понять, что такое вкусы, иногда говорят, что объяснять тут просто нечего. Как было сказано в полемике лауреатов Нобелевской премии Джорджа Стиглера и Гэри Беккера, «существенные факторы поведения никогда не выявлялись с помощью гипотетической разницы вкусов»[4]. Поскольку любое поведение – например, любовь моей дочери к числу «шесть» – можно объяснить простым личным предпочтением, такие предпочтения «объясняют все на свете и, следовательно, не объясняют ничего»[5]. Споры о вкусах, по наблюдению Стиглера и Беккера, похожи на споры о Скалистых горах, которые «существуют сейчас, будут существовать в следующем году, и каждый видит их одинаково».
Но Скалистые горы все же меняются, как заметил один экономист, – просто скорость изменений невелика[6]. Научными работами по психологии, а также по нейробиологии доказано, что вкусы тоже меняются, причем иногда даже в рамках одного эксперимента: пища может нравиться больше при воспроизведении определенной музыки, а определенная музыка может нравиться меньше, когда слушатель узнает какой-либо неприятный факт о композиторе.
Похоже, наши вкусы могут «адаптироваться» до бесконечности, если воспользоваться термином влиятельного норвежского политического мыслителя Джона Элстера[7]. На примере басни о лисе и винограде, в которой незадачливая лиса, не в силах добраться до винограда, которого она страстно желает, заявляет, что ягоды-то «кислые», Элстер показывает, что лиса, сознательно ретроспектируя, «снижает качество» винограда вместо того, чтобы просто переключиться на следующий приемлемый вариант, как должна была бы поступить по теории «рационального выбора». Виноград не был зеленым, виноград не перестал нравиться лисе. Предпочтения, как доказывает Элстер, могут быть «контрадаптивными»: невозможность добраться до винограда в иной ситуации лишь усилила бы желание лисы до него добраться. В обоих случаях предпочтение явно обусловлено текущей ситуацией, и возникает вопрос: а действительно ли лиса любит виноград?
Если экономисты считают, что выбор «открывает» предпочтение, то психологи склоняются к гипотезе о том, что выбор эти предпочтения создает[8]. Представьте, что лиса совершает «свободный выбор» между виноградом и вишней, а затем рассказывает, что ей больше нравится то, что она выбрала; выбрала ли она то, чего ей хотелось, или же захотела того, что выбрала? Правильным может быть и то и другое, поскольку постижение вкусов имеет под собой скользкую почву. Вы уже наверняка задумались: говорим ли мы о процессе восприятия или о вкусах? Или о вкусе в одежде? Или о том, что считается «хорошим вкусом» в обществе? Все это тонко взаимосвязано; лисе может нравиться вкус винограда, но ей также может нравиться ощущать себя единственным животным, которое способно этим виноградом наслаждаться.
Давайте пока будем считать, что вкус – это то, что нам нравится (вне зависимости от причины). Но при этом вкусы необходимо как-то проявлять и обращать внимание, кто еще разделяет эти вкусы; нужно также пытаться понять, почему они это делают, а затем еще и попытаться объяснить, почему другие люди (которые могут быть довольно похожи на нас по иным критериям) эти вкусы не разделяют; нужно выяснять, почему вкусы меняются, для чего они нужны и так далее. Как признает специалист в области дизайна Стивен Бейли, выкидывая белый флаг, «академическая история вкуса не столько сложна, сколько невозможна»[9]. И все же я считаю, что вкусы можно объяснить. Можно определить, почему, каким образом у нас появились вкусы и что происходит, когда мы отдаем предпочтение чему-то одному из великого множества.
Какое у вас любимое число? Если вы принадлежите к большинству, то ответите: «семь». Семь – опять же, на американском Западе – это как синий цвет, но только в числах. В серии проведенных в 1970-х годах исследований эти предпочтения так часто выбирались в паре, что психологи даже придумали «феномен синей семерки»[10], словно между ними существует какая-то связь. Забудем на время о цвете. Почему всем так нравится семерка?
Как и в большинстве случаев, ответ представляет собой целый узел культурно-образовательных навыков, психологических наклонностей и внутренних качеств, находящихся под воздействием контекстного выбора. Самой простой причиной любви к семерке является ее популярность в культуре. Семь – «счастливое» число, потому что является «священным числом в полном смысле этого слова», как сказал один ученый, отмечая упоминания о нем «в Библии и талмудистской литературе»[11]. Возможно, причиной тому служит особенность нашего мышления, в силу которой в кратковременной памяти именно «волшебным» числом семь ограничивается способность к запоминанию сразу нескольких символов (с этим связано и количество цифр вашего телефонного номера)[12].
Но, может, дело в свойствах самой семерки? На просьбу назвать первое приходящее в голову число от одного до десяти люди чаще всего называют семь (на втором месте – три). Возможно, им хочется, чтобы выбор выглядел как можно более «случайным», это в силу неявной «математичности» и приводит к выбору числа семь. Размышление строится примерно так: «Один или десять? Ну, это чересчур очевидно. Пять? Еще чего, это четко посередине. Два? Четные числа вроде как менее случайны, чем нечетные, верно? Тогда нуль? А разве это число?» Как правило, семерка выглядит наименее связанной с другими числами и поэтому кажется более случайной: она стоит особняком, не вписываясь ни в какие схемы. Но, несмотря на все эти доводы, при смене контекста – задумайте любое число от шести до 22 – семерка внезапно сдает позиции, хотя влияние ее все же сохраняется: на первом месте теперь оказывается 17[13].
Каждый день по самым разным поводам нам приходится решать, почему одно нам нравится больше другого. Почему вы переключили радио на другую волну, когда поставили эту песню? Почему поставили «лайк» этому посту в «Фейсбуке» и не поставили вон тому? Почему взяли лимонад, а не диетическую «Колу»? С одной стороны, такого рода выбор – всего лишь мелкие бытовые детали общего процесса организации жизни сродни «выбору» завтрака: как сварить яйца, вкрутую или всмятку? Белый хлеб или черный? Сосиски или бекон? Сколь мелкими кажутся эти детали – но вы совершенно точно почувствуете недовольство, если что-то будет не так. С другой стороны, эти предпочтения могут трансформироваться во всеобъемлющие и сидящие глубоко внутри вас вкусы, помогающие с самоопределением: «я люблю музыку кантри»; «я обожаю французскую речь»; «я не люблю фантастику».
Что касается причин озабоченности моей дочери «любимым – нелюбимым», существует небольшое исследование по данному вопросу[14]. Слегка встревожившись, я обнаружил, что одно из редких упоминаний в научной литературе «любимых чисел» связано с обсессивно-компульсивным расстройством[15]. Не прибегая к высоким теориям, несложно угадать, что «любимое – нелюбимое» – это простой и не требующий особых затрат способ приобретения отличительного признака, способ самоутверждения в окружающем мире и понимания других людей, демонстрации того, что все мы одновременно и похожи, и отличаемся. Что характерно, в ряду первых же характеристик новых друзей, сразу после дня рождения, дочь называет ее/его любимый цвет.
Можно предположить, что по мере взросления мы освобождаемся от этого переменчивого водоворота предпочтений и приобретаем рациональные и неизменные вкусы. Но так происходит не всегда. Мы, например, словно по наитию, можем испытывать пристрастие к вещам, не обладающим никакими реальными преимуществами.
Вы, например, руководствуетесь какими-либо предпочтениями при выборе кабинки в общественном туалете? Если свободны все, выберете ли вы ту, что находится в конце, или ту, что в середине ряда? По результатам по меньшей мере одного исследования, проведенного в общественном туалете муниципального пляжа в Калифорнии[16] (и по данным с переднего рубежа общественных наук), люди предпочитают кабинку в середине, а не с края ряда. Опрос участников исследования не проводился, но можно представить, что причины у них имеются, как и в случае с выбором числа. Первая кабинка, возможно, кажется расположенной слишком близко ко входу, а последняя – слишком далеко. Так что средняя – как раз то, что нужно. Является ли такой выбор наилучшим? Это зависит от критериев оценки (по иронии, самая популярная кабинка может быть наименее чистой – если верить одному микробиологу, который измерил количество бактерий).
И еще один пример на туалетную тему: с точки зрения практики оснований для того, каким образом вешать рулон бумаги – чтобы лист спускался сверху или снизу, – нет; как ни повесь, бумага будет одинаково доступна[17]. Но, сколь ни маловажным кажется это предпочтение, ведущая известной газетной колонки бытовых советов Энн Ландерс во всеуслышание заявила, что ни один из выпусков ее колонки – ни про аборты, ни про запрет оружия – не вызвал столь мощного потока отзывов читателей, как выпуск, посвященный этому вопросу[18].
Возможно, сама интимная природа туалетов способствует формированию на редкость стойких убеждений. Хотя предпочтения могут быть столь слабы, что становятся тем, что в психологии называется «немотивированными предпочтениями», то есть предпочтениями, не имеющими объективных причин. Немотивированные предпочтения, как описано в одном из исследований, это «мелкий хлам опыта, который пока не поддается упорядочению стройными психологическими теориями». Возможно, в процессе совершения такого выбора мы руководствуемся какими-то незаметными и не поддающимися формулировке правилами; такие правила, в сущности, помогают нам выбирать, не выбирая. Но и в этом случае сам факт, что большинство выбирают именно это, указывает на то, что даже очевидно произвольный выбор может быть на чем-то основан (и, соответственно, уже не является немотивированным).
Но откуда берутся такие предпочтения? Классический пример из лингвистики – это задача на выбор буквосочетаний, наиболее похожих на реальные слова (например, «бдек» и «бкик»). Не нужно быть телевизионным «знатоком», чтобы догадаться, что на слово больше похож вариант «бдек» – просто потому, что в языке есть слова, начинающиеся на «бд», и нет слов на «бк». Но что будет, спрашивает лингвист Адам Олбрайт из Массачусетского технологического института, если попросить выбрать из одинаково невозможных вариантов: «бкик», «бгек», «бйък»? Как и почему будет осуществлен выбор в случае, когда более-менее прочного основания для формирования предпочтения нет, а выбор все же необходимо сделать (такая задача называется «принудительный выбор»)? И если люди выбирают «бкик», то неужели это происходит потому, что данное сочетание букв больше всего напоминает обычное слово (пусть это и не так)? Или же это происходит потому, что существует некая внутренняя «фонологическая склонность» – например, нам нравится сочетание двух звонких согласных, как лингвисты называют первые две согласные в «бдек», и они звучат более похоже на слово, когда мы их произносим? Ответ, кажется, лежит в какой-то невыразимой комбинации наших знаний и внутренних предпочтений. Поскольку процесс принятия чего-либо как нравящегося обычно происходит вне уровня сознания, отделить одно от другого крайне сложно.
Давайте вернемся к синему цвету. Вскоре после разговора с дочерью я съездил в Беркли к Стивену Палмеру, профессору психологии Калифорнийского университета, возглавляющему лабораторию «Визуальное восприятие и эстетика», которую все называют «лаборатория Палмера». Палмер с коллегами разработали одну из наиболее убедительных теорий, объясняющих, почему нам нравятся определенные цвета.
Сидя в подвальном захламленном кабинете, где типичную для научного учреждения обстановку разряжала копия вангоговской «Звездной ночи» кисти самого профессора, Палмер рассказал мне, что его интерес к эстетике родился под воздействием любительских занятий фотографией («Звездную ночь» он написал на занятиях в художественном кружке, куда ходил, чтобы расширить собственное понимание практики художественного творчества). Как и любое другое искусство, фотография требует определения серии предпочтений: что я хочу сфотографировать? С какого ракурса фотография получится лучше всего? Как поместить предмет в кадре? Начинающих фотографов вроде Палмера обычно учат знаменитому «правилу третей», гласящему, что центральный объект съемки следует размещать вдоль линий, делящих кадр по горизонтали и по вертикали на три части. И все же, когда учеников просят рассказать, какие им нравятся фотографии, или же дают им камеры и просят сделать фото так, как им нравится, общее предпочтение всегда склоняется к снимкам, где предмет размещается в центре композиции.
И это вызывает следующий вопрос: почему художников учат создавать произведения, которые, по всей видимости, не очень нравятся людям? Почему предпочтения художников не соответствуют предпочтениям широкой аудитории?[19] Палмер опросил[20] студентов художественных и музыкальных курсов (в качестве контрольной группы были опрошены студенты отделений психологии) об их «представлениях о гармонии», как он это назвал; они слушали произведения разных композиторов, просматривали различные комбинации цветов, рассматривали круги, размещенные в разных точках внутри прямоугольников. Участники дали примерно одинаковые оценки гармоничности (Морис Равель гармоничнее, чем склонный к атональности Арнольд Шенберг). Но когда дело дошло до предпочтений студентов-художников и музыкантов, выяснилось: то, что им нравится, отличается от того, что они считают гармоничным.
Может, это просто снобизм? Может, изучение искусств снижает интерес к гармонии или же художниками становятся люди, не склонные к гармонии? Палмер окончательного ответа не дает. Возможно, чем больше времени тратится на изучение искусств, тем более «сильный» стимул требуется для поддержания интереса? «Я думаю, отчасти это объясняется чрезмерным воздействием, – говорит Палмер. – Думаю, что однообразие утомляет. Вы начинаете с пространственных композиций, где ключевой предмет находится в середине, но это надоедает. Кроме того, учителя усиленно стараются внедрить нечто новое и рассказывают о том, что не стоит размещать главное по центру».
Художник вы или обычный человек, у всех у нас имеется какой-то эстетический вкус. Мы не можем не думать – сознательно или нет – о том, нравится нам это или не нравится. Так что же такого есть в синем цвете, что нравится большинству людей? С самого начала развития психологии как науки, когда один из первых исследователей Джозеф Ястров опросил тысячи посетителей Всемирной Колумбовой выставки 1893 года, предлагая им выбрать один из нескольких образцов цвета, основная масса людей выбрала синий[21].
Может, он просто лучше всего воспринимается на физиологическом уровне? Но если бы мы рождались с любовью к синему цвету, то его, вероятно, любили бы большинство детей. В одном из исследований Палмер предлагал испытуемым детского возраста (тем, что не были отбракованы как «слишком нервные»[22]) смотреть на пару цветных кружков. За основной показатель наличия предпочтения было принято «время просмотра» объекта ребенком (и в меньшей степени взрослым): чем больше времени испытуемый смотрел, тем больше ему нравилось. Взрослым испытуемым также был предложен этот тест. В то время как взрослые вполне предсказуемо дольше всего рассматривали синие кружки, дети не только достоверно не продемонстрировали любви к синему, но проявили особенный интерес к темно-желтому. А этот оттенок, как ни странно, обычно является одним из самых нелюбимых у взрослых (Палмер даже предложил собственное научное определение для всего множества оттенков коричневато-желтого цвета: «оттенок типа «дрянь!»).
Так что же произошло? Палмер вместе со своей коллегой Карен Шлосс выдвинул гипотезу – она называется «теория экологической приспособляемости», – которая объясняет предпочтения и взрослых, и детей. Гипотеза такова: нам нравятся цвета того, что нам больше всего нравится. Доказательством служит простой и элегантный эксперимент. Сначала группе испытуемых предложили оценить, как сильно им нравится каждый из предложенных 32 цветов. Затем другой группе участников предложили назвать за 20 секунд как можно больше предметов выбранного цвета. Следующей группе предложили оценить, как сильно им нравятся эти предметы. То, что им нравилось, в 80 % случаев коррелировалось с выбранными цветами. Больше всего выбирали синий, что неудивительно: подумайте, с чем ассоциируется синий цвет? Чистое небо, чистая вода. Кому не нравятся эти вещи, кто не знает, что они необходимы для выживания? Возможно, доминирование в мужском гардеробе голубых рубашек и брюк цвета хаки тоже как-то связано с самой природой? «Представьте себе пляж, где океан встречается с берегом», – заметил однажды журналист Питер Каплан, когда его спросили, почему на нем его любимая бледно-голубая рубашка и бежевые брюки[23]. А кто не любит берег моря?
По контрасту коричневато-желтый оттенок, который не понравился никому из взрослых участников эксперимента Палмера, может вызывать целую палитру неприятных ассоциаций: пятна слизи, рвота, гной, автомобиль «Москвич» 1970-х. Но почему тогда детям, как выяснилось, нравятся темные оттенки желтого?
Красота этой теории в том, что она выражает мысль, будто цветовые предпочтения, как и предпочтения в пище, могут закрепляться в процессе эволюции (нам нравится то, что для нас хорошо), а также изменяться в процессе адаптивного обучения (мы узнаем о том, что для нас хорошо). В конце концов, дети еще не научились ассоциировать вещи вроде экскрементов с отвращением – это подтвердит любой родитель, выдержавший битву за пеленальным столиком. Палмер предполагает, что при «не вполне обоснованной интерпретации», как и в большинстве случаев привлечения эволюционной теории, имеется возможность объяснения «любви» детей к темному коричневато-желтому оттенку тем, что этот оттенок напоминает им сосок матери, о котором они со временем либо просто забывают, либо приучаются его не любить.
Теория экологической приспособляемости проверялась и другими способами. Когда Палмер с коллегами провели опрос студентов университетов «Беркли» и «Стэнфорд», показывая им цветовую палитру[24], было обнаружено, что студенты каждого из университетов отдавали предпочтение цветам «своего» учебного заведения, а не цветам «конкурирующей» школы. Чем больше им нравилось в университете, тем больше нравились его цвета. По Палмеру, это говорит о том, что цветовые предпочтения больше зависят от ассоциаций, чем от цветов самих по себе; маловероятно, что найдется тот, кто поступит в Беркли лишь из симпатии к синему с золотом. При демонстрации изображений позитивно воспринимаемых предметов красного цвета (клубника, томаты) оказываемое красному цвету предпочтение будет возрастать. Показывайте изображения свежих ран или струпьев – любовь к красному цвету слегка ослабеет. Проведите опрос сторонников Демократической или Республиканской партий в день выборов[25], и их любовь к синему либо красному – цветам, которые последнее время стали ассоциироваться с их партиями, – будет сильнее.
Поговорите с людьми из работающей с цветом промышленности, и они выскажут свою версию адаптивного обучения, аналогичную экологической приспособляемости. Литрис Эйзман, знаменитый консультант по цвету (это она однажды предложила компании Hewlett Packard выйти на рынок с компьютерами бирюзового цвета за несколько месяцев до того, как «Эппл» выпустила на рынок свой инновационный iMac), отмечает, что люди могут первоначально испытывать антипатию, допустим, к желтовато-зеленому оттенку, который иногда вдруг входит в моду, – но затем отношение меняется. «Я сказала бы, что включается «боковое зрение», – отметила она в разговоре. – Желтовато-зеленый здесь, желтовато-зеленый там. Хмм, а ведь не такой уж и плохой цвет! Для рубашки вполне сгодится». А потом вы вдруг забываете, что раньше он вам не нравился. Как сказал мне Том Майрэбил, работающий в «Вечных марках» (компания, которая одной из первых стала предлагать кухонную бытовую технику небелого цвета), «вы пригляделись и стали считать, что именно это и хотите видеть».
Некоторые утверждают (и это говорит о том, что теория «выбор – результат построений» заходит чересчур далеко), что предпочтения людей в области потребительских товаров могут быть «изначально заложенными»[26], что они существовали всегда, хранясь подспудно, словно подавленные воспоминания, в ожидании момента, когда их откроют. Появление iPhone, говорят сторонники этой теории, заставило людей осознать, что механическая клавиатура на смартфоне им не нравится (хотя многие утверждали, что нравится). И все же за предположительно «естественными» предпочтениями часто скрывается влияние культуры. Убеждение, будто розовый цвет «естественным образом» годится для девчонок, осложняется тем фактом, что в начале прошлого века розовый считался мальчишечьим цветом[27]. Вероятнее всего, девочкам нравится розовый потому, что они видят, как другие девочки ходят в розовом. И даже если женщины оказывают чуть более сильное предпочтение оттенкам красного, как это было показано в некоторых исследованиях, это едва ли объясняет, почему велосипеды для мальчиков никогда не красят в розовый и почему велосипеды для девочек так редко бывают красными, – а также, разумеется, почему так редко можно увидеть взрослый женский велосипед розового цвета?
Так что здесь налицо нечто вроде обратной связи: чем больше вы видите какой-то цвет и чем больше этот цвет ассоциируется у вас с положительным опытом (розовый торт на дне рождения девочки, лиловая мужская рубашка), тем больше этот цвет вам будет нравиться. Чем больше он вам будет нравиться, тем больше вы будете его использовать, чтобы повторить позитивный опыт: красный цвет хорош для Ferrari, а почему бы не купить красный блендер? Как объясняет Палмер, «мы движемся по жизни, собирая статистику о цветовых ассоциациях с вещами, которые нам нравятся, и с вещами, которые не нравятся, – именно в этом плане мы постоянно обновляем информацию». Вот так и моя дочь постоянно производит переоценку своих предпочтений – как говорит Палмер, она «вычисляет эти вещи на лету». Любимый цвет – это что-то вроде цветового маркера для всего, что когда-то вызвало у вас положительные эмоции.
Несколько лет назад я вдруг стал замечать, как много раз в течение самого обычного дня меня спрашивают, нравится мне что-то или нет (иногда этот вопрос я задавал сам себе), и как часто ответ был совершенно неясным. Вот, например:
– Я посмотрел это кино.
– Тебе понравилось?
– Ну, вроде как.
Или:
– Мы сходили в новый тайский ресторан.
– Ну и как?
– Хороший, но не настолько, как рассказывали.
И неизменное:
– Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, расскажите, насколько вам понравилось, по шкале от 1 до 5 (1 = совершенно не понравилось, 5 = очень понравилось).
Но что же все это на самом деле значит? Сколько делений может быть на шкале наслаждения – хватит ли пяти? Что означает мой «лайк» под постом в Instagram? Мне понравилось то, что изображено на картинке, или понравилось, как было снято, или нравится автор поста? Зависит ли мое расположение от того, сколько других людей поставили «лайк»? А если я не поставлю «лайк», говорит ли это о том, что мне не понравилось? Понимаю ли я, что происходит в моей голове, когда электрический импульс передается от мозга к пальцу? Как показало исследование, когда на фото в Instagram изображено лишь лицо, это повышает количество «лайков» примерно на 30 процентов[28] (и не важно, молодое или старое, мужское или женское, одно или десять – главное, чтобы было лицо). Повлиял ли этот факт на сознательном уровне на мое решение нажать пальцем на кнопку?
Мы сталкиваемся с постоянно растущим объемом вещей, по отношению к которым нам приходится решать, нравятся они нам или не нравятся, и в то же время со все уменьшающимся количеством всеобъемлющих правил и стандартов, к которым можно обратиться, принимая решение. В Интернете мы плывем в океане чужих мнений: обзор с Yelp! где значится четыре звезды, «заминусованное» видео на YouTube, – но чье мнение стоит того, чтобы к нему прислушаться? Когда есть возможность послушать практически любую песню в мире, как решить, что слушать, – и понравится ли вам эта песня? Все в мире теперь вверх тормашками: малодоступные раньше еда и одежда стали «общим местом», а вещи, которые считались самыми обычными, превратились в объекты вожделения избранных ценителей. Если «все хорошее» – осталось ли хоть что-нибудь плохое?
Я хочу задать вопросы, которые мы редко себе задаем, потому что от нас требуется все более быстрая реакция в плане эстетики и гедонизма. Является ли наша симпатия и антипатия лишь противоположными состояниями одной и той же области или это совершенно разные вещи?[29] Почему мы начинаем любить то, что раньше не любили? Чем измерить степень любви? Почему так часто не совпадают вкусы профессионалов и обычных людей? Может ли удовольствие, вызванное тем, что вам нравится то, что, по вашим представлениям, должно вам нравиться, стать адекватным суррогатом удовольствия от того, что вам нравится просто так? Знаем ли мы, что нам нравится, и нравится ли нам то, что мы знаем?
В 2000 году[30] группа итальянских нейробиологов сообщила о необычном эффекте на примере истории болезни пожилого пациента, страдавшего лобно-височной деменцией. Он неожиданно полюбил итальянскую популярную музыку – тот самый жанр, о котором раньше отзывался как о «шуме» (раньше ему в основном нравилась классическая музыка). Не то чтобы он «позабыл» о своих прежних вкусах; у пациентов с болезнью Альцгеймера, например, эстетические предпочтения, по всей видимости, сохраняются[31] даже после того, как исчезают другие воспоминания. Скорее всего, предположили исследователи, воздействие лечения на головной мозг пробудило в пациенте жажду чего-то новенького!
Такое быстрое и полное изменение вкусов рождает много вопросов. Мы с открытым сердцем подходим к смене наших вкусов? Что происходит в головном мозге, когда мы решаем, что больше мы это не любим, когда решаем, что «шум» на самом деле – приятная музыка? Возможно, некоторые благодаря особенностям строения мозга ведут себя более открыто по отношению к новому или имеют предрасположенность к определенным комбинациям нот и ритмов?
Представим, что из-за состояния этого человека в нем открылась существовавшая и раньше – но до этого подавляемая – любовь к популярной музыке. Кажется, это притянуто за уши. Но много ли мы на самом деле знаем о собственных вкусах, об этом наборе предпочтений и предрасположенностей?
В одном эксперименте, поставленном на ярмарке в Германии[32], людей просили попробовать кетчуп двух видов. Это был один и тот же сорт кетчупа марки «Крафт», но в один из образцов был добавлен в небольшом количестве ванилин (вещество, придающее аромат стручку ванили). Почему ванилин? Да просто в Германии его обычно добавляют в детское питание. В анкете о пищевых предпочтениях исследователи задавали посетителям ярмарки хитрый вопрос: как их вскармливали в младенчестве? Естественным образом или искусственно? Подавляющее большинство людей, которых вскармливали естественным образом, предпочитали «натуральный» кетчуп, а вот вскормленным из бутылочки нравился кетчуп с привкусом ванили. Маловероятно, что у людей сформировалась некая новая связь; им просто нравилось то, что им раньше нравилось[33].
Все не раз слышали и не раз говорили сами, качая головой: «О вкусах не спорят». Обычно эту фразу произносят в качестве скептического замечания по отношению к чужому вкусу. Говорящий редко использует это изречение для того, чтобы показать, что сам он едва ли может себе объяснить свои же вкусы. В конце концов, что может быть более естественным, чем то, что нам нравится? Но когда дело доходит до проверки, результаты вызывают удивление и даже тревогу самих объектов проверки. Французский социолог Клаудия Фриц проверила в различных условиях предпочтения профессиональных скрипачей по отношению к инструментам, изготовленным старыми итальянскими мастерами вроде Страдивари. О них слышали все – пусть даже это были истории о том, как бесценные инструменты забывали в такси; все знают, как насыщенно и звонко они звучат, словно в них таится какая-то древняя, ныне утраченная магия. Кто из скрипачей не мечтает на них сыграть? Но опытные музыканты, участвовавшие в эксперименте, при тесте «вслепую» предпочли новые скрипки[34].
В книге «Сами себе чужие» Тимоти Уилсон показал, что зачастую мы сами не понимаем, почему реагируем именно так, а не иначе; механизмы такого поведения лежат в области, которую он называет «адаптивное бессознательное»[35]. При этом мы старательно трудимся над созданием некой иллюзии достоверности, говорит он, и считаем, будто знаем причины наших чувств, потому что это наши чувства. Следуя его примеру, спрошу: что вы думаете об обложке этой книги?[36] Она вам нравится? А теперь попробуйте представить, что подумает о ней какой-нибудь незнакомый вам человек. И если эта обложка не затронула в вас какой-нибудь особой струнки (то есть не напомнила какую-нибудь другую книгу, которая вам понравилась, и на профессионального дизайнера вы тоже не учились), то ваша реакция скорее всего сформируется точно так же, как если бы вы попытались объяснить, почему эта обложка нравится какому-нибудь незнакомцу (если она, конечно, вообще привлекла ваше внимание)[37].
В действительности с нашими вкусами мы совсем не знакомы, и пришла пора это знакомство начать. Совершенно естественно, что начать нам следует с пищи – с «классического образца всех на свете вкусов»[38].
1
Поскольку куклы «не видели», какое блюдо выбирали дети, исследователи предположили, что дети выбрали кукол, которые на самом деле «придерживались» тех же предпочтений, что и они; куклы, получается, не могли «притворяться», что выбирают блюдо, чтобы как-нибудь угодить детям. См. статью Нехи Михаян и Карен Винн «Происхождение противопоставления «Мы – Они»: еще не овладевшие речью дети выбирают подобных себе»/«Когнитивность», № 124, 2012. С. 227–233. В другом исследовании данный эффект исчез, когда куклы демонстрировали асоциальное поведение (Дж. Кайли Хамлин и Карен Винн. Кто знает, что вкусно? Дети отказываются разделять вкусовые предпочтения асоциальных партнеров/«Когнитивное развитие», № 27, 2012. С. 227–239).
2
Как замечает Пол Розин, «как это ни удивительно, но родители, наделяющие детей своими генами и контролирующие окружающую детей обстановку в первые годы жизни, практически не передают детям своих вкусовых и иных предпочтений. Корреляция «родитель – ребенок» находится в диапазоне от нуля до трех десятых для вкусовых либо музыкальных предпочтений». См.: Розин. От попытки понять вкусовые предпочтения до обусловленного вкусового отвращения и обратно; Краткая одиссея URL: http://w.american.edu/cas/psychology/cta/highlights/rozin_highlight.pdf ).
3
Эдмунд Берк. Философское исследование происхождения наших идей возвышенного и прекрасного. Пер. Е. Лагутина: М.: Искусство, 1979. С. 46.
4
Гэри Беккер. Объясняя вкусы, Кембридж: Масс., «Гарвард юниверсити пресс», С. 49.
5
См.: Брайан Кэплен. Стиглер-Беккер против Майерса-Бриггса: почему объяснения с точки зрения предпочтений имеют научное и практическое значение (URL: https://ideas.repec.org/a/eee/jeborg/v50y2003i4p391-405.html#biblio ).
6
См.: Поль Албанези. Вводное слово к симпозиуму по формированию предпочтений»/«Журнал бихейвористской экономики», Т. 7, № 1. С. 1–5. Эрнст Фер и Карла Хофф также отмечают, что традиционный подход экономистов – описание предпочтений индивидуумов и общества, которое они формируют, а также аксиома «предпочтения остаются неизменными вне зависимости от изменений в обществе» – демонстративно ложный. См. Эрнст Фер и Карла Хофф. «Экономический журнал», 121, ноябрь 2011. С. 396–412.
7
Элстер говорит, конечно, не только о вкусе винограда. Он пишет: «Концепция «зелен виноград» представляется мне важной как для понимания поведения индивидуумов, так и для схем оценки социальной справедливости». В его книге неявно поставлен вопрос: действительно ли люди делают то, что им нравится, или же только то, что представляется возможным в текущей жизненной ситуации? См.: Элстер, Кислый виноград. Исследование по ниспровержению рациональности. Кембридж: Издательство Кембриджского университета, 1983. Политолог Майкл Лок Маклендон в своей содержательной критике Элстера предполагает, что Элстер неверно охарактеризовал реакцию лисы на невозможность достать виноград. «[Элстер] заявляет, что лиса меняет свое отношение к винограду. Если быть точным, она меняет окружающий мир для того, чтобы приспособить его к факту неудовлетворенности своего желания. Лиса по-прежнему хочет винограда, этот факт остался неизменным. Но лиса при этом отказывается от этих конкретных ягод на лозе, до которой ей не добраться. И поскольку это единственные доступные ягоды и съесть их невозможно, лиса притворно наделяет их свойствами, которыми они не обладают, – т. е. объявляет их кислыми». См.: Маклендон. Политика кислого винограда: Сартр, Элстер, Токвиль об эмоциях и политике (URL: http://ssrn.com/abstract=1460905 , либо URL: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1460905 ).
8
Как отметили Дэн Ариэли и Майкл Нортон, мы можем считать, что выбираем нечто потому, что оно – самое лучшее, но при этом можем опираться на воспоминания о предыдущих актах выбора, которые в настоящий момент могут казаться совершенными сознательно, хотя на самом деле могли таковыми и не быть. «Мы считаем, что поведение основано не на гедонистической целесообразности, а отчасти на опыте предыдущих действий – действий, подверженных влиянию абсолютно случайных ситуационных факторов, например погоды; но люди при этом интерпретируют их как отражение своих стабильных предпочтений». См.: Ариэли и Нортон. Как действия создают, а не только открывают предпочтения» / «Направления в когнитивистике», 12, № 1, январь 2008. С. 16.
9
Стивен Бейли. Вкус: тайный смысл вещей. Нью-Йорк: Пантеон, 1991. С. 18.
10
См. Уильям И. Саймон и Луи Г. Примавера. Исследование «феномена синей семерки» среди детей младшего и среднего школьного возраста / «Психологические исследования», № 31, 1972. С. 128–130. Результаты исследования повторились в большом количестве других исследований; см.: Джулиан Пейсек и Роберт Уильямс. Замечания о «феномене синей семерки» среди учащихся старших классов мужского пола/ «Психологические исследования», № 35, 1974. С. 394.
11
Луи Якобс. Нумерованная последовательность как литературный прием в Вавилонском Талмуде / «Еврейский ежегодный альманах», № 7, 1983. С. 143.
12
Наиболее конструктивным исследованием в этой области была статья Джорджа Миллера «Волшебное число семь плюс-минус два: об ограничениях наших возможностей при обработке информации» / «Психологические исследования», № 63. С. 81–87.
13
См., например, URL: http://scienceblogs.com/cognitivedaily/2007/02/05/is-7-the-most-random-number/
14
В теории доказано, что выражение собственных предпочтений и осознание степени их отличия от предпочтений других людей представляют собой ключевые шаги в развитии у детей одной из составляющих «понимания чужого сознания» – эмпатии.
15
Кэрол Заремба Берг и др. Форма оценки «Опросник по навязчивым состояниям Лейтона», версия для детей: нормирование по эпидемиологическим исследованиям / «Журнал Американской академии психиатрии детей и подростков». Т. 27, № 6, ноябрь 1988. С. 759–763.
16
См.: Николас Кристенфильд. Выбор идентичных вариантов / «Психологические науки». Т. 6, № 1, январь 1995. По иронии, общая тяга к кабинке в середине приводит к тому, что эта кабинка всегда наименее чистая, что было показано по меньшей мере в одном исследовании микробиолога доктора Чарльза Герба (известного как «Доктор Микроб») из Университета штата Аризон; см., например, URL: http://www.cnn.com/2008/HEALTH/10/03/bathroom.hygiene/index.html?eref=rss_latest
17
См., например, URL: http://www.npr.org/2015/03/19/393982199/ending-he-over-under-debate-on-toilet-paper
18
См. Рик Коган. Мама всея Америки: жизнь, уроки и наследие Энн Ландерс. Нью-Йорк: Уильям Морроу, 2005. С. 163.
19
Такой парадокс можно обнаружить практически в любой творческой деятельности. Одна из версий говорит: несогласие по вопросу о том, что хорошо, а что плохо, между экспертами и обычными людьми происходит из-за разницы критериев оценки. Например, в одном из исследований в области архитектуры отмечено, что «архитекторы и обычные люди согласны в том, что выразительные здания представляют собой эстетически привлекательные объекты… однако группы не руководствовались одними и теми же физическими базовыми критериями при оценке степени выразительности зданий». Для выявления разницы авторы исследования предложили провести «сопоставительное исследование восприятий». См.: Роберт Гиффорд и др. Почему архитекторы и обычные люди по-разному оценивают здания: когнитивные свойства и физические основания / «Журнал исследований по архитектуре и планированию», 19:2, лето 2002 г. С. 131–148.
20
См.: Стивен Палмер и Уильям Гризком. Исследование вкусов: индивидуальные различия в представлениях о гармонии / «Психономический вестник». № 20, 2013. С. 453–461.
21
На самом деле исследование Ястрова показало, что женщины предпочитают красный. См.: Джозеф Ястров. Массовые эстетические предпочтения в области цветов / «Ежемесячник популярной науки». Т. 50, январь 1897. Ястров в статье указал, что предлагался ограниченный набор цветов, и на предпочтения участников исследования могло повлиять расположение цветов на листе. Тем не менее большое количество других исследований показало, что большинство все же предпочитают синий (а самый нелюбимый – темно-желтый). Отличный обзор работ, посвященных предпочтениям людей в области цвета, см. в кн. А. Харлберта и Й. Линга «Исследование цветового восприятия и предпочтения» / в сб. «Цветовой дизайн: теория и практика» под ред. Дж. Беста. Оксфорд: Вудхед паблишинг лимитед, 2012. С. 129–157. Исследователи говорят: «Несмотря на то что данное исследование опирается на рациональную основу, важно отметить, что в нем нет доказательств ни с точки зрения эволюционной теории, ни с точки зрения онтогенеза, а степень стойкости предпочтений варьируется индивидуально».
22
Хло Тейлор, Карен Шлосс, Стивен Палмер и Анна Франклин. Различие цветовых предпочтений у детей и взрослых / «Психономический бюллетень и обзор». Т. 20, № 1, февраль 2013.
23
См. Натан Геллер. Эксцентричная мудрость Питера Каплана / «Нью рипаблик», 14 сентября 2012.
24
Карен Шлосс, Роза Поггези, Стивен Палмер. Влияние любви к альма-матер и «университетского духа» на цветовые предпочтения: Беркли против Стэнфорда / «Психономический бюллетень и обзор», 2011. № 18, С. 498–504.
25
Карен Шлосс и Стивен Палмер. Политика цвета: любовь республиканцев к красному против любви демократов к синему / «Психономический бюллетень и обзор». Т. 21, № 2, апрель 2014. Как отмечают исследователи, эффект не регистрируется в другие дни, кроме выборных. Одной из причин может служить то, что люди обычно ассоциируют республиканцев с синим цветом, а демократов с красным. Созданный средствами массмедиа образ Красной и Синей Америки появился сравнительно недавно. «Когда республиканец Рейган выиграл президентские выборы 1984 года, – пишут они, – на карте с результатами выборов проголосовавшие за Рейгана области были окрашены в синий, что дало повод назвать их «пригородным бассейном»».
26
Главным сторонником этого направления является Айтемер Симонсон. Он утверждает, что формирование предпочтений – это нечто вроде лабораторного опыта, и говорит о том, что «литература по выстраиванию предпочтений посвящена в основном принятию решений в локальной области и практически нерелевантна для более стойких предпочтений». Новые изобретения вроде приставки Нинтендо Wii, утверждает он, срабатывают на уровне ранее существовавших изначально заложенных предпочтений. Тот факт, что люди постепенно привыкают любить то, что им не нравилось раньше, говорит он, является одним из «апостериорных индикаторов изначально заложенных предпочтений». См. Айтемер Симонсон. Понравится ли мне «средняя» подушка? Еще один взгляд на выстроенные и изначально заложенные предпочтения / «Журнал психологии потребителя», № 18, 2008. С. 155–169. Критики, однако, отмечают, что Симонсон предложил не поддающуюся опровержению гипотезу, поскольку невозможно доказать, что кто-то, полюбивший что-то после того, как раньше он это не любил, либо просто к этому привык, либо любил это и раньше (даже не зная об этом). См. Джеймс Бетмен и др. Выстраивание предпочтений и стабильность предпочтений: уберем подушку. Там же, С. 170–174.
27
См. подробный анализ в кн. Джо Паолетти «Розовый и голубой: чем отличались мальчишки и девчонки в Америке». Блумингтон: Издательство университета штата Индиана, 2013.
28
См.: Саеде Бакши, Давид А. Шамма и Эрик Гилберт. Лица привлекают: фотопортреты привлекают больше «лайков» и комментариев в Instagram.
29
Философ Карл Дункер отмечает, что «зубная боль и чувство радости при виде красивого пейзажа вряд ли могут существовать одновременно – не столько потому, что две чувственные окраски имеют противоположные знаки, сколько в силу того, что лежащие в их основе опыт или оценка являются несравнимыми». См.: Дункер Об удовольствии, чувствах и стремлении / «Философские и феноменологические исследования». Т. 1, № 4, июнь 1941, С. 391–430.
30
К. Герольди и др. Популярная музыка и лобно-височная деменция / «Нейрология», 2000:55, 1935–1936. В другом случае, когда трансформация эстетических предпочтений пошла в ином направлении, группа нейробиологов сообщила о пациенте, чья любовь к хард-року после удаления части левой височной артерии неожиданно прошла и сменилась «привязанностью к кельтскому или корсиканскому полифоническому пению». Пациент, отмечают они, «был удивлен изменением своих вкусов и не счел, что причиной стало одно лишь взросление, после чего принялся писать жалобы». См.: Франсуа Селлаль и др. Кардинальное изменение музыкальных предпочтений после удаления части левой височной артерии / «Эпилепсия и поведение», № 4, 2003, С. 449–451.
31
по всей видимости, сохраняются – см., например: Дениэл Дж. Грэм, Саймон Стокинджер и Хельмут Леджер. Островок стабильности: художественные образы и обычные сцены – но не обычные лица – вызывают конзистентный эстетический отклик при деменции, связанной с болезнью Альцгеймера / «Передний рубеж психологических наук», март 2013. Т. 4, статья 107. Любопытно, что исследование показало: способность к узнаванию человеческих лиц на фотографиях оказалась гораздо менее стабильной, чем предпочтения относительно пейзажной и другой живописи. Авторы предполагают, что пациенты с болезнью Альцгеймера при рассматривании лиц могут испытывать «когнитивное равнодушие» – например, назойливую мысль о том, что они уже когда-то видели эту фотографию; а живопись может «оцениваться по более простым критериям, по эстетическим, где не требуется вмешательство систем распознавания лиц и узнавания».
32
Р. Галлер, К. Руммель, С. Хенненбург, У. Полмер и И.П. Костер. Влияние детской привычки к привкусу ванили на пищевые предпочтения во взрослой жизни / «Химические исследования», № 24, 1999. С. 465–467. Авторы поднимают интересную тему: «искусственное вскармливание из бутылочки заканчивается задолго до того, как ребенок заговорит», а эксперимент наводит на мысль о том, что «обонятельная память» существует независимо от «вербальной памяти». Мы можем определить предмет по запаху еще до того, как узнаем, что это вообще такое.
33
Кевин Мельчионе сделал интересное замечание: поскольку «сложно представить, что у нас может родиться сомнение в нашем непосредственном ощущении от пищи» – даже если мы не можем сразу определить точную причину, такую же уверенность мы сохраняем и в других областях, например в искусстве, где мы уж точно знаем, что нам нравится. См.: Мельчионе (см. выше). О старом как мир «я об искусстве ничего не знаю, зато знаю, что мне нравится» / «Критический журнал эстетики и искусства», 68:2, весна 2010. С. 131-140.
34
См.: Клаудия Фриц и др. Предпочтения исполнителей: новые и старинные скрипки / PNAS, 109(3). С. 760–763. В исследовании Фриц большинство исполнителей не смогли отличить древние инструменты от новых. Исследование подверглось критике, поскольку проводилось в гостиничном номере. Однако в последующих экспериментах, проведенных в репетиционном и концертном залах, большинство музыкантов предпочли новые инструменты. Фриц делает оговорку, что «отсутствует возможность определения степени репрезентативности использованных в эксперименте инструментов (новых и старых)» – то же самое можно сказать и о музыкантах, – «поэтому результаты эксперимента невозможно аппроксимировать на другие экземпляры скрипок». Но этот эксперимент рождает мысль, что людям нравится в старинных итальянских скрипках именно то, что они – старинные итальянские скрипки, а не присущее им особое звучание. Фриц и др. Оценка исполнителями шести старинных итальянских скрипок и шести новых скрипок» / PNAS, Т. 111, № 20, С. 7224–7229.
35
См.: Тимоти Д. Уилсон. Самопознание и адаптивное бессознательное / «Нейронаука и человеческая личность: новые горизонты человеческих действий». Ватиканская академия наук, «Скрипта Вариа» 121, Ватикан, 2013.
36
Один дизайнер создал книгу и оснастил ее программой распознавания выражения лиц, которая не позволяла книге открыться до того момента, пока лицо потенциального читателя не станет совершенно нейтральным – т. е. в данном случае никаких подтасовок не было. См. URL: http://www.theguardian.com/global/booksblog/2015/feb/02/book-judges-you-by-your-cover-moore-thijs-biersteker
37
А еще попробуйте объяснить, почему одна и та же книга обычно выходит в разных странах под совершенно разными обложками.
38
См. Пьер Бурдьё. Различения. М., 2004.