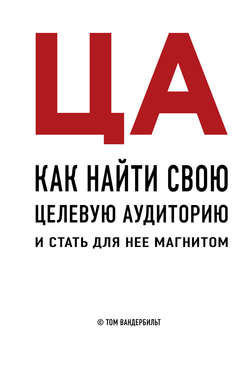Читать книгу ЦА. Как найти свою целевую аудиторию и стать для нее магнитом - Том Вандербильт - Страница 5
Глава I
Чего изволите? Размышление о том, какая нам нравится еда
2. Лучше, чем ожидал, но не так хорошо, как было
ОглавлениеВ хороший ресторан ходят хорошо поесть. Но еще один способ размышления о еде, которая нам нравится, и о том, почему она нам нравится, – это размышление о еде, которая нам, как правило, нравиться не должна.
Поговорим об армейских пайках, которые лежат сейчас передо мной на камуфляжной скатерти в «Армейском кафе», располагающемся в Исследовательском центре солдатского снаряжения армии США в городе Натик (штат Массачусетс), куда я приехал, чтобы поговорить о проблемах производства пищи, которую никто не любит, – точнее, об американском варианте ИРП (это сокращение от армейского термина «индивидуальный рацион питания»), и о том, как делают так, чтобы и он тоже нравился. «Натик», как обычно называют этот центр, представляет собой массив разбросанных на большой территории приземистых казенных зданий, построенных в 1960-е годы. Здесь есть лаборатории, изучающие средства маскировки, есть тоннели, в которых можно смоделировать дождь и ураган, есть высокие вертикальные стенды для испытания на ударные перегрузки. Здесь же располагается исследовательский центр «Армейской продовольственной программы» Министерства обороны США. Сверху над меню красуется девиз «Совсем скоро и у вас в блиндаже!». Я нахожусь в гостях у Джеральда Дарша и Кэти Евангелос, стоявших у истоков «Армейской продовольственной программы». «Чтобы ехал танк, его заправляют дизельным топливом, – говорит Дарш. – Ну а наша задача – заправить бойца!»
Изумительней всего мне кажется то, что все лежащее сейчас передо мной – начиная с обезжиренного ванильного кекса и вплоть до булочки-фокаччи с зеленью и «мясных тефтелей с кофеином» – я смогу съесть даже через три года, если сюда вернусь. Да, через три года, и именно эту самую порцию!
«Минимальный срок хранения ИРП – три года», – рассказал Дарш. Есть и свои специальные ограничения. «Еда должна быть такой, чтобы ее можно было спокойно сбрасывать с самолетов». Вы не поверите, сколько конструкторских наработок требуется для того, чтобы еда и ее упаковка выдерживали самое небрежное обращение; сэндвичи даже подвергают компьютерной томографии в местном госпитале, чтобы убедиться, что в них нет избыточной влаги, из-за которой внутри образуется плесень. Проблема эта очень давняя. Одна из новых технологий, впервые опробованных в «Натике» – «термическая стерилизация под давлением», – основана на методе «нагрева в реторте», разработанном еще парижским поваром Николя Аппером, который откликнулся на призыв Наполеона усовершенствовать технологии хранения пищи. «В армии Наполеона потери от неприятельских пуль были меньше, чем от недоедания и пищевых отравлений», – рассказывает Дарш.
Несмотря на всю важность технологий сохранения пищи – Евангелос шутит, что тут у них «что-то вроде фабрики Вилли Вонки, только для солдат», – еще более важным считается вопрос вкусовых качеств пищи, или ее «приемлемости», как здесь выражаются. Вот он, первый рубеж, который надо преодолеть пище, чтобы нам понравиться: вы должны быть согласны положить ее в рот. «Мы знаем, что необходимо и возможно разместить в как можно меньшем объеме нужное количество калорий и питательных веществ, – рассказывает Дарш. – На бумаге все выглядело отлично. Но мы не придали значения одному маленькому элементу нашей формулы: а будет ли результат приемлем для бойцов – станут ли они вообще это есть?» В конце дня паек должен «хорошо выглядеть, быть приятным на вкус и обеспечивать треть от рекомендуемого дневного армейского рациона».
Одна из главных текущих задач руководства «Армейской продовольственной программы» – это борьба с ожиданиями. Неписаное правило формирования вкуса гласит: вероятность того, что нам что-то понравится, повышается, когда мы ждем, что нам это понравится. Армейский рацион, к сожалению, имеет долгую и обширную историю заниженных ожиданий. Как отмечает историк Уильям К. Девис в книге «Вкус к войне», во время американской Гражданской войны в армейском рационе появилось несколько новинок – например, «усушенные овощи», представлявшие собой большие диски высотой примерно в пару дюймов, на производство которых шло все, от капустных листьев до пастернака; внешне это выглядело как «нечто круглое с твердыми включениями, непонятно из чего приготовленное». Когда эти овощи бросали в кипяток, они распаривались в воде, напоминая солдатам «грязный ручей, в котором беспорядочно плавают палые листья». Солдаты, что неудивительно, прозвали их «погаными овощами».
В то время как ученые работают над вкусовыми качествами пищи, исследователи – например, Арманд Карделло, ведущий научный сотрудник центра «Натик», – десятилетиями изучают психологию процесса приема солдатами пищи и выясняют, что им нравится. Эта работа, в свою очередь, имеет огромное значение для гражданской пищевой промышленности. «Не важно, что именно вы исследуете; если вы ищете, что влияет на выбор, на потребление, на питание – что угодно: цена, питательная ценность, – самым важным фактором всегда будет являться вкус. Когда мы говорим о вкусе, мы говорим о том, нравится ли нам еда», – сказал он мне, сидя в своем небольшом кабинете за заваленным бумагами столом.
Что касается армейского рациона, то в нем зачастую больше того, что не нравится, чем того, что может понравиться. Солдат получает непривычно выглядящий пакет с едва узнаваемой пищей, которая, как обрисовывает ситуацию Карделло, «последние три месяца провела на складе в пустыне при температуре плюс 48 градусов по Цельсию». Она может оказаться лучше, чем думал солдат, но он может задуматься: что за чудесная химия помогла сохранить еду в экстремальных боевых условиях? Вот почему исследователи по возможности стараются сохранить привычный вид еды, чтобы она была похожа на еду «на гражданке». Или просто использовать самые обычные продукты.
Дарш протягивает мне невзрачную упаковку, на которой написано: «Печенье с коричным сахаром». Он говорит: «Это Поп-тартс!» Но не какой-то там армейский «Поп-тартс», а самое обычное печенье «Поп-тартс», хотя и в военной форме. Участники программы благодаря исследованиям Карделло знают, что солдатам оно понравится больше, если будет упаковано так же, как обычное знакомое печенье. Так почему бы не выдавать им печенье прямо из магазина? «Барьерные свойства упаковки, в которой выпускается печенье «Поп-тартс», не соответствуют нашим требованиям: она не защищает от влаги, воздуха и света», – рассказывает Дарш. Армейский склад длительного хранения – это не склад супермаркета. Так что это вот печенье щеголяет в бронежилете.
Вкусом управляют ожидания. Мы тратим практически столько же времени на обдумывание, понравится ли нам нечто, сколько и на сам процесс получения удовольствия. Когда вам рассказывают, какой замечательный некий фильм, то возможны два варианта развития событий, когда вы сами идете этот фильм смотреть. Первый вариант – «ассимиляция». Все уже имеющиеся у вас ожидания ведут к тому, что фильм вам понравится гораздо больше, чем мог бы в других обстоятельствах. При втором варианте, в ситуации «контраста», вас постигает разочарование тем большее, чем большие ожидания вы заранее питали.
В отношении пищи мы питаем склонность к ассимиляции. Как говорится, «о вкусе сначала судят не ртом, а глазами», но еще до первого взгляда пищу «пробует» мозг. В «Натике» столкнулись с проблемой заниженных ожиданий. В одном из исследований Карделло кукуруза «Зеленый великан» была упакована в стиле ИРП, а порции кукурузы из армейского рациона – в банку от «гражданской» кукурузы. «Людям достоверно больше нравилась кукуруза, когда они думали, что едят продукцию марки «Зеленый великан», – рассказал он. Возможно, роль сыграло даже не то, что марка «Зеленый великан» всем нравится, а то, что «негативный стереотип армейского рациона снижает удовольствие от продукта».
Ассимиляция подсказывает еще одно неписаное правило формирования вкуса: чем больше реальный опыт соответствует ожиданиям, тем больше будет удовольствия, и наоборот. С пищей это работает всегда, причем практически не зависит от реальной органолептической реакции на продукт. Скажите, что кофе горчит, и люди будут считать его более горьким[71], чем до того, как вы это сказали. Правило работает и в обратную сторону: наш мозг, по данным нейробиологов, «подавляет» реакцию на горечь, если нам не говорили о том, что горечь присутствует. Скажите участникам исследований, что в апельсиновый сок добавлена водка, и сок будет нравиться больше, чем такой же сок без водки, даже если в обоих образцах нет ни капли спиртного (едва ли стоит упоминать, что в этом исследовании участвовали студенты)[72].
Дайте людям какую-нибудь информацию о том, чего им ждать от совершенно незнакомой пищи – в одном из проектов «Натика» использовалась растущая за полярным кругом морошка, – и эта пища им больше понравится. Если даже это «загадочная космическая еда», так и скажите – это загадочная космическая еда! И людям она будет нравиться больше (такое исследование было проведено на космонавтах). В одном из исследований «Натика» солдаты должны были питаться в темноте – для армейских условий вполне реальная ситуация. Еда казалась вкуснее, когда солдатам рассказывали, что они едят.
Когда ожидания не оправдываются, случаются интересные вещи. В одном широко известном эксперименте людей кормили мороженым с рыбным вкусом, которое называли либо просто «мороженым», либо «холодным пикантным муссом». Образцы, названные «муссом», нравились больше, чем «мороженое». А «мороженое» не нравилось так сильно, что, как с некоторым сожалением отметили исследователи, «многие участники эксперимента вслух описывали блюдо как отвратительное». Именно из-за ассимиляции и контраста в меню всегда указано присутствие в десертах с шоколадом и карамелью соли. Как отмечает один знаменитый пекарь, «когда мы говорим, что здесь есть соль, это нужно для того, чтобы соленый привкус всплыл в памяти и не стал неожиданностью. У людей появляется шанс оценить контраст соленого и сладкого». Другими словами, чтобы больше понравилось. Не забывайте: мы всегда готовы заметить – и это нам не понравится – все, что в нашей пище «не так»!
Но эксперимент с рыбным мороженым показывает, что вкус – это не всегда вкус как таковой. То, в качестве чего вам это нравится, тоже важно. В одном из исследований «новых продуктов» (т. к. «армия США и американское космическое агентство NASA часто заказывает разработку «новых» продуктов для использования в экстремальных условиях»), проведенных Карделло, участников кормили «супом» (это был приготовленный из концентрата грибной суп-пюре компании «Кэмпбелл») и «жидкой пищей» (размолотой в порошок вязкой субстанцией, приготовленной из курицы по-охотничьи, разработанной специально для питания пациентов после челюстных операций, – кажется, в нашей школьной столовой тоже умели такую готовить). Оба блюда подавались в керамических мисках и в стаканах с соломинкой. И то и другое называли «супом». То, что действительно было супом, людям понравилось больше – ну, это неудивительно. Однако на втором этапе исследования субстанцию в стакане назвали «стоматологической жидкой пищей». И неожиданно жидкая пища, которую подавали в стакане, людям стала нравиться больше. Как отметили исследователи, «изменение ожиданий, произошедшее из-за изменения названия, лишило суп гармоничности, что выразилось в пониженной аффективной реакции».
Такая дисгармония в ожиданиях не ограничивается лишь примерами с незнакомой пищей в армейской лаборатории. Как-то раз я отправился в гости к Гарри Оливеру – щеголеватому, утонченному и уверенному в себе пивовару из компании «Бруклинская пивоварня». Мы уселись за стол, и он выставил несколько бутылочек единственного в своем роде пива, выдержанного в коньячной бочке с добавлением дрожжей из забродившего «рислинга». Оливер рассказал, как несколько лет тому назад он выпустил на рынок новое пиво ограниченной серии. Вкус напитка напоминал вкус популярного коктейля «Пенициллин», в котором смешиваются вкусы виски, имбиря, меда и лимона. «Слегка кислый, чуть сладковатый, – сказал он. – Больше всего мне нравилось, что все эти элементы вместе создавали гармоничное целое». И вот он решил попробовать упаковать этот вкус в пивную бутылку и смешал отдающий торфом солод, натуральный лимонный сок, дикий мед и толченый имбирь.
Мнения о новинке были полярными. «Журнал «Драфт» включил это пиво в список 25 лучших новинок 2011 года, – рассказал Оливер. – Ну а кое-кто желал дать нам по башке». Проблема была в том, что не каждый бармен предлагал это пиво так, как его нужно было, по мнению Оливера, предлагать. «Когда человек пришел в бар отдохнуть после тяжелого дня, от бармена требовалось просто сказать, что пиво по вкусу похоже на коктейль из виски, имбиря, лимона и меда. А они это не всегда говорили». Так что кто-то пил пиво, которое, как они и ожидали, напоминало по вкусу коктейль, причем и сам коктейль тоже можно было заказать для сравнения. А остальные, как описывает Оливер, думали примерно так: «О, новое пиво от Бруклинской пивоварни! Наверное, светлое – или что-то вроде», – что никак не подготавливало их к непривычному вкусовому опыту. Они отхлебывали и тут же говорили: «Гадость!» Им ведь не сказали, что именно им должно в нем понравиться.
71
Такой эффект наблюдается только тогда, когда внутренний опыт сопоставляется с внешней информацией. В одном интересном исследовании участникам давали образцы вина и говорили, будто вино горчит из-за того, что выдался неурожайный год (некоторым не давали никакой информации о потенциальном качестве образцов); некоторым участникам просто давали вино, другим давали вино в смеси с «тайным фруктом», который горечь превращает в сладость. Людям, пробовавшим вино без «тайного фрукта» (и вкупе с информацией о «горечи»), оно нравилось меньше, чем тем, кто просто пил вино, не имея какой-либо информации. Тем, кто пробовал вино с «тайным фруктом» и кому говорили, что оно должно было быть горьким, на практике вино нравилось больше, чем тем, кому не говорили, чего им ждать. Авторы пишут: «Если участники ожидали, что вкус будет с горчинкой, но при этом ожидания не оправдывались по конкретной причине, вино оценивалось как лучшее на вкус, чем при отсутствии контраста с внешним сигналом вкуса». Другими словами, люди не просто вслепую подвергались воздействию информации о том, что вино будет горчить, когда в действительности этого быть не могло. См.: Эйб Литт и Баба Шива. Манипулирование базовыми вкусовыми ощущениями для обнаружения влияния информации о продукте на опыт / «Журнал психологии потребителя». Т. 22, № 1, январь 2012. С. 55–66.
72
Джерард Дж. Коннорс и др. Расширенное применение аналогии вкусового теста как скрытой меры предпочтения алкоголя / «Исследование поведения и терапия». Т. 16, 1978. С. 289–291. Авторы отмечают: «Когда участникам исследования предлагали оценить, сколько алкоголя они употребили во время двух вкусовых экспериментов, средней оценкой было 100 граммов; по индивидуальным оценкам был разброс от 30 до 300 граммов».