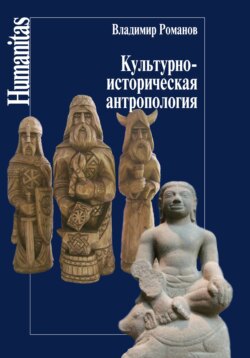Читать книгу Культурно-историческая антропология - В. Н. Романов - Страница 11
Часть I
Человек, язык, культура:
По эту сторону от объективного
Глава 3
Становление умозримой реальности,
или По ту сторону от очеловеченной
ОглавлениеВ «незрячих» культурах симпрактического типа, речь о которых пойдет во второй части работы, вновь возникающие перед взрослеющим ребенком задачи продолжают по-прежнему лежать все в том же осваиваемом лишь практически слое посюсторонней человеческой реальности, не требуя таким образом безусловного отвлечения от нее, а следовательно, и от самого себя в ней. Совсем по-другому обстоит дело в «зрячих», теоретических культурах, аналогичных по своему устроению современной. Здесь по достижении определенного возраста ребенок начинает сталкиваться также и с такого рода задачами, успешное решение которых, напротив, с необходимостью предполагает выход за пределы окружающего мира опредмеченных возможностей в мир абстрагированных от его телесно-двигательной самости чисто умозрительных категорий, способных в своей совокупности тоже составить некоторое подобие реальности, чреватой для него, однако, уже совершенно иными, качественно новыми познавательными возможностями.
В первом случае ни о каких принципиальных изменениях в структурной организации вербальных понятий говорить, судя по всему, не приходится. Оставаясь спонтанно формирующимися множествами обоюдных пред-рассудочных ожиданий слов, они лишь увеличивают с возрастом ребенка свою мощность, а вновь образуемые по ходу решения все усложняющихся повседневно-практических задач предметные понятия, сохраняя свойство эго-центричного комплекса-гештальта, лишь увеличивают свое число, догоняя в этом отношении уже усвоенные им с опережением соответствующие вербальные понятия взрослых.
В результате постепенное взросление человеческой особи не приводит к кардинальному структурному преобразованию сложившегося еще в детстве эго-центрично организованного смыслового ансамбля. По существу, все изменения сводятся здесь к одному лишь экстенсивному росту последнего, т. е. к простому увеличению числа входящих в него ситуационно-смысловых комплексов-гештальтов, при том, что системность отношений между ними, равно как и отношений между словами, артикулирующими их, будучи заранее гарантирована изначально присущей каждому из них эго-центричной организацией, просто не может составить для индивида никакой проблемы, оставаясь вследствие этого целиком за порогом его сознания.
Организованный таким образом смысловой ансамбль, определяющий индивида в его повседневных возможностях (как предметных, так и речевых), однозначно ограничивает все хронотопически доступные ему место-имения одним-единственным, осваиваемым лишь практически слоем посюсторонней одушевленной реальности. Всей своей одноуровневой структурой он попросту исключает возможность ауторефлексии, которая сама по себе с необходимостью предполагает прямо противоположное, а именно наличие в уже пришедшем в себя сознании именно мета- – по отношению к этой одушевленной реальности – позиции. Ведь в конечном счете именно она только и позволяет человеку теоретической культуры произвольно выводить себя из состояния заданности ситуационной реальностью окружающего его мира (реальностью, подчеркну, и прошлой, и настоящей, и только еще ожидаемой, но тем не менее остающейся неизменно ситуационной), чтобы затем, покидая пределы своего эго-центрично структурированного хронотопа и вставая уже на «точку зрения вечности», столь же произвольно возвращаться к себе в чисто умозрительном плане, делая, положим, объектом рассмотрения и собственное свое Я, и собственную свою мысль, и слова, выражающие ее, и отношения между ними.
Но если все эти ауторефлективные операции – просто за отсутствием в смысловом пространстве индивида необходимой для их осуществления потусторонней и вневременной метапозиции – остаются для него за пределом возможного, то в таком случае и вербальное значение слова, несмотря на все возрастающую с возрастом языковую компетенцию, будет в полной мере сохранять у него имплицитный характер. Оно и дальше будет опреде́ливаться не строгими вербальными определениями, в которых слова разного семантического объема сознательно координировались бы им на основе выявления родовидовых признаков их денотатов, а спонтанно формирующимися в его повседневной жизни пред-рассудочными ожиданиями других знаменательных слов – в пределе, подчеркиваю, всех, но в первую очередь тех из них, которые непроизвольно и в то же время с наибольшей вероятностью актуализируются обычно в нашем сознании на первом же шаге, как, например, стол при предъявлении слова стул, или собака при предъявлении слова кошка[30].
Во втором случае, наиболее представительным примером которого может служить современная нам культура, ребенок, продолжая с определенного возраста свое образование в институализированной школе, в ходе школьного своего образования начинает регулярно сталкиваться со сформировавшимися уже до и помимо него понятийными системами. Каждая из этих различающихся своим содержанием систем, будучи задана рядом вербальных определений опорных для каждой конкретной школьной дисциплины терминов, обладает предельно автономным и не зависящим от какой бы то ни было самости смыслом. Каждая из них действительно предъявляется ребенку взрослыми в совершенно законченном и объективно готовом к их употреблению виде. И вся трудность их первоначального усвоения как раз и заключается в принципиальной неготовности самого ребенка – в его неготовности ухватить присущую им системную организацию в ее полном отвлечении от спонтанно структурирующегося относительно него окружающего мира, т. е. в конечном счете, от самого себя.
Понятно, что в данном случае ни о каком спонтанном встраивании этих неспонтанных по самой своей сути понятий в структуру личностных смыслов индивида говорить уже не приходится. Ведь их успешное усвоение требует, безусловно, того, чтобы ребенок был в состоянии самолично выводить себя из состояния заданности окружающим его миром, произвольно переключая свое внимание с тех опредмеченных возможностей, которые предоставляет ему этот мир для обозначения своего деятельного присутствия в нем, на те возможности чисто умозрительного порядка, которые предоставляет ему для решения конкретных учебных задач соответствующая им по содержанию категориальная система[31].
И вот ровно в тот момент, когда это, наконец, случается, когда с помощью учителя учащийся все-таки научается произвольно преодолевать свою связанность с психологическими полями одушевленной человеческой реальности за счет переориентации своего внимания с опредмеченных его возможностей на отношения между предъявляемыми ему сейчас категориальными понятиями, последние, если они действительно усвояются им системным образом, также начинают составлять для него некоторое подобие реальности, однако реальности по определению новой – чисто уже умозрительной, в которой он, расставшись на время со своим телесным существом, может несмотря на это более или менее успешно (а порою даже и на пять) экзистировать, но только в качестве бесплотного и умозрящего субъекта, аналогичного по своей идеальной и развоплощенной сути субъекту научного познания.
Заучивая школьные определения и решая стандартные школьные задачи, ребенок опирается уже не на личный житейский опыт, от которого как раз и до́лжно теперь отвлечься, а прежде всего на объективно-системные и эксплицитно явленные ему отношения между абстрактными, т. е. отвлеченными от его посюсторонней эмпирической самости, понятиями[32]. Оперируя ими во время своих учебных занятий и формально овладевая, пусть и в минимальной степени, языком науки, он впервые размыкает прежнюю циклическую структуру словесного знака и таким образом преодолевает его былую эго-центрическую направленность, обусловленную, как мы видели выше, проприоцептивной природой предметных понятий[33].
Внешне все выглядит так, что в процессе школьного обучения он просто приобретает неведомые ему прежде знания и уменья: вот он, положим, не знал, что такое существительное или прилагательное, а теперь знает и умеет опознавать их, подчеркивая в своей тетрадке разными по форме линиями. На деле, однако, мы сталкиваемся с нечто совсем иным, не связанным напрямую с конкретным содержанием транслируемых знаний. По мере их усвоения ребенок с помощью учителя научается мимоходом – и притом совершенно незаметно для себя – абстрагироваться от своего чувственно-телесного, предметно-ситуационного житейского опыта. И это непроизвольно произвольное отвлечение от своей посюсторонней, эмпирической самости, становясь необходимым условием успешного решения школьных задач, само по себе конституирует у него качественно новое, умозримое смысловое пространство, чреватое принципиально новыми возможностями – возможностями чисто рефлексивного уже свойства.
Закономерным и в то же время совершенно не запланированным итогом регулярно практикуемого в школе отвлечения оказывается потеря ребенком своей естественной и непроизвольной встроенности в окружающий его мир и, как следствие, рождающееся ощущение проблематичности своего места в нем. Но, потеряв в непосредственности, он безмерно выигрывает в другом отношении. Лишь благодаря этой потере ребенок впервые приобретает возможность найти и более или менее произвольно самоопредлить себя в качественно новой для него умопостигаемой реальности, образованной и эксплицитно формулируемыми в теоретической культуре нормами социального поведения, и объективированными в той или иной системе кодов планами и алгоритмами практической деятельности, и целым набором категориальных систем, свойственных той или иной научной дисциплине, и множеством других артефактов того же, в типологическом отношении, рода. И поскольку операция абстрагирования просто изначально предполагает (по крайней мере – в норме) обратную процедуру, теперь это становится вопросом времени, когда именно отвлечение от своей эмпирической самости обернется для ученика последовательным возвращением к себе в вербальной интроспекции, являющейся конституирующим моментом так называемого подросткового кризиса[34].
В переходном возрасте реально значимое для индивида смысловое пространство перестает совпадать в принципе с непроизвольно-центростремительной и как бы одноплановой посюсторонней реальностью окружающего мира согласованных возможностей. Помимо последней оно начинает вбирать в себя также и ту стороннюю по отношению к ней и лежащую уже в пределах именно умозримой реальности рефлексивную метапозицию, с которой ведется самоанализ и выносится самооценка. И уже внутри вот этого формируемого ауторефлексией двухполюсного пространства, влекущего всей своей иерархической организацией резкое повышение произвольности подростка в отношении своего Я, только и может, положим, поместиться совершенно неуместный для жизни вопрос о ее смысле[35]; только оно позволяет подростку превратиться в существо нравственное, измеряющее себя наличествующими моральными нормами и способное, если надобно, приступить к работе над собой подобно тому, как он приступает к работе над ошибками после неудачно написанной им школьной контрольной.
Резюмируя все сказанное выше по поводу школьного образования ребенка и используя в связи с этим образное выражение Л. С. Выготского, от идей которого я по мере сил отталкивался при толковании подросткового кризиса, можно сказать и так, что сама наша возможность более или менее отстраненно и в соответствующей этому степени произвольно и осознанно относиться к собственному нашему Я, к собственным нашим мыслям, равно как и к словам, выражающим их, «входит через ворота научных понятий»[36]. И хотя «ворота» эти, в силу в общем-то весьма ограниченного числа усвояемых нами в школе неспонтанных научных понятий, оказываются на деле узкими, именно они – если, конечно, в ученическом возрасте нам все-таки удается протиснуться сквозь них – обусловливают далее нашу постоянную готовность произвольно совершать постоянные переходы из посюсторонне-практической реальности в реальность умозрительно-теоретическую и обратно.
И вот ровно в тот момент, когда мы уже готовы к этому, когда мы действительно образовались как индивиды с двухуровневым регистром возможностей, один и тот же языковой знак может теперь – и только, подчеркиваю, теперь – позицировать нас и соответственно приобретать реальное для нас значение двояким в принципе образом. С одной стороны, он по-прежнему будет отсылать индивида в его полноценном психосоматическом единстве к конкретной возможности практического порядка, которая среди прочих предоставляется ему посюсторонней реальностью окружающего его мира. Но с другой стороны, реализуя другую сторону своего значения, тот же самый языковой знак будет отсылать его, уже как бесплотного субъекта теоретического опыта, и в потусторонний мир отвлеченных от его человеческой самости неспонтанных понятий, где только и может сформироваться как установка на восприятие системных отношений между ними, так и внутренняя потребность самому выявлять (а на деле – активно порождать) эту самую умозримую системность посредством новых словесных определений того или иного рода.
Только здесь (т. е. в этом мире умопостигаемых абстракций) и теперь (т. е. начиная с того момента, как он научился произвольно вставать на позицию умопостигающего субъекта) перед индивидом – вполне, замечу, уже состоявшимся в качестве полноценного носителя культуры теоретического типа – впервые открывается широкое поле для теоретической же самодеятельности, могущей, в частности, заявить о себе и в части сознательной и последовательной систематизации всего того необозримого множества самых разнообразных слов естественного языка, которые ранее, спонтанно предицируя его местоименное я своим предметным и вербальным значениями, относительно этого его я только и приобретали системную организацию, неизменно остававшуюся, однако, – и именно по причине спонтанности и непроизвольности – за порогом его же собственного сознания.
Только здесь и теперь, абстрагируясь от своей телесно-двигательной самости, а тем самым и от системно представленных в самой его плоти живых предметных понятий, индивид, редуцирующий себя по ходу этого абстрагирования до бесплотно экзистирующего и умозрящего субъекта, получает наконец реальную возможность в случае каждого отдельного слова опреде́лить спонтанно сформировавшееся прежде неопределённое множество разнотипных пред-рассудочных ожиданий, образующих вместе его актуальное для повседневной нашей жизни вербальное значение. Процедура же самого опреде́ливания будет при этом сводиться именно к отсечению всех тех многочисленных вербальных ожиданий слова, которые не имеют прямого касательства к тем объективным признакам денотата, которые представляются умозрящему субъекту, зрящему на все с единственно доступной ему «точки зрения вечности», единственно значимыми. И если, положим, эти опреде́ливающие процедуры становятся делом всей жизни человека и после предварительной профессиональной подготовки приобретают для него в дальнейшем глубоко личностный смысл, расцениваясь им же самим как жизнь по преимуществу, то на выходе мы и будем иметь объективистски ориентированного лингвиста, склонного разыгрывать свои формальные лингвосемантические представления во внешне-объектной системе координат и пребывать в то же самое время в полной уверенности, что эти его представления, не имеющие, в сущности, никакого отношения к функционированию естественного языка в естественных условиях, суть один из компонентов «формального устройства, моделирующего языковое поведение людей»[37].
В связи с подобным моделированием стоит, однако, обратить внимания на одну уже высказывавшуюся и в самой лингвистике мысль, которая неизбежно ставит под сомнение, коль скоро дело касается семантики, попытку подменить проблему системной организации естественного языка проблемой конструирования некоего метаязыка, механически обеспечивающего системность его интегрального описания. Речь идет о все том же антропоцентричном – или, что, в сущности, то же, эго-центричном – характере естественного языка, дающем о себе знать в целом ряде частных (но только на первый взгляд) фактов, свидетельствующих о том, что для многих языковых значений человеческое существо в его нераздельной психосоматической целостности выступает в качестве самой естественной точки отсчета[38].
По признанию одного из ведущих представителей Московской семантической школы, в немалой, надо сказать, степени способствовавшей утверждению на отечественной почве чисто объективистского (и соответственно бес-человечного) подхода к проблеме лексического значения, лингвистике еще только предстоит сделать в будущем все вытекающие из этих фактов и далеко идущие выводы[39]. Мне же остается лишь надеяться, что состоявшийся выше разговор по поводу хронотопической морфологии окружающего каждого из нас мира опредмеченных возможностей, по поводу знаковой природы искусственной среды, по поводу формирующихся в ней предметных и вербальных понятий и т. д. придаст, быть может, исследователям чуть больше «онтологической уверенности» в их продвижении вперед к более глубокому пониманию антропоцентричной сущности естественного языка, а в конечном счете и его реальных генетических истоков.
Понятно, что достигнуть успеха в этом и без того многотрудном предприятии вряд ли будет возможно без предварительной и, в общем-то, малоприятной работы самого исследователя в первую очередь над самим же собой – без самоличного выявления и осознания тех своих типологических (и это как минимум) надындивидуальных пред-рассудков, коими помимо всякой нашей воли разрешается во всех нас современная теоретическая культура, постоянно навязывающая нам с большей или меньшей интенсивностью однотипные, бессознательные и, в сущности, обезличенные «фигуры мысли». Но, судя по всему, именно так неустанно повышая произвольность отношения к собственным своим пред-рассудкам, понуждающим нас, в частности, спонтанно расценивать свою способность к идеальному, теоретическому экзистированию как неотъемлемое достояние всякого разумного существа, мы только и можем хотя бы в какой-то степени противостоять этим постоянно приходящим к нам со стороны теоретической культуры и обезличивающим нас импульсам.
30
Отталкиваясь от экспериментально подтвержденных данных (см. выше с. 50 примеч. 29), я тем самым утверждаю, что вербальное значение слова стул – как ни странно это звучит для объективистски ориентированного лингвиста, склонного фактически отождествлять понятие как таковое с сознательно выстраиваемыми категориями, – определяется в нас среди всего прочего (прочего, повторюсь, самого разнообразного и принципиально, подчеркну, неопределённого) и словом стол, а значение слова кошка – словом собака.
31
Напомню, если кто забыл, что в школе подобное переключение дается нам поначалу вовсе не так легко, что проявляется прежде всего в столь характерной для младших школьников невнимательности, которая чаще всего и есть прямой результат непроизвольного позицирования ребенка окружающим его миром опредмеченных возможностей, вступающих (как та же, положим, косичка впередисидящей одноклассницы) в конкурирующее отношение с содержанием слова учителя.
32
Показательны в этом отношении неудача фонвизинского недоросля Митрофанушки и весь ход его рассуждений, когда он в ответ на вопрос, является ли дверь именем существительным или прилагательным, в свою очередь начинает с вопрошания: «Котора дверь?» – и далее, отнеся указанную ему дверь к разряду прилагательных, обосновывает свое решение следующим образом: «Потому что она приложена к своему месту. Вон у чулана шеста недель стоит еще не навешана: так та покамест существительна». Неспособность к последовательному отвлечению от своего личного опыта продолжает сказываться подчас и тогда, когда ученик внешне вроде бы овладел всеми необходимыми формальными операциями и приемами. Вот мой старший брат, третьеклассник, решает стандартную арифметическую задачу: столько-то кг. картофеля в мешке было, столько-то из него отсыпали и т. д. Брат довольно скоро справляется с ней, но тут же начинает плакать. Походит матушка и видит – задача решена правильно. «Все равно не понимаю», – сквозь слезы отвечает брат. Следует неоднократное совместное воспроизведение решения – реакция та же. «Ну, что же ты не понимаешь?!» – «Я не понимаю, что такое картофе́ль». Дело в том, что у нас в семье говорили все больше картошка, и брат просто не опознал ее в непривычной картофе́ли. Но этого оказалось вполне достаточно, чтобы у него родилось ощущение фундаментального непонимания всего решения задачи, проведенного, подчеркиваю, им же самим.
33
Замечу попутно, что собственно научное мышление, по крайней мере естествоиспытателя, нередко обнаруживает обратную в какой-то степени тенденцию. Так, к примеру, многие понятия классической механики (силы, массы, ускорения, скорости, инерции и т. п.), лишенные в математическом их представлении даже намека на генетическую связь с телом, в эвристическом мышлении ученого, наоборот, тяготеют к вторичному проецированию в биодинамическую чувственную ткань, давая таким образом знать о своем первородном «плотском грехе» (показательный на этот счет материал можно найти в кн.: Адамар Ж. Исследование психологии процесса изобретения в области математики. М., 1970; об особой творческой продуктивности неоречевленной мысли, исключающей контроль со стороны рацио и отличающейся в силу этого повышенной вариативностью и непредсказуемостью своих ходов, см. также: Асмолов А.Г. Культурно-историческая психология и конструирование миров. Москва – Воронеж, 1996. С. 378–380.
34
Правомерность увязывания подросткового кризиса с усвоением автономных, отвлеченных от ситуационного опыта смысловых полей подтверждается косвенным образом фактом его отсутствия в этнографических, бесписьменных обществах, для которых характерен именно симпрактический способ трансляции знаний, не выдвигающий перед ребенком познавательных задач, аналогичных по своей психологической сути школьным.
35
Вообще говоря, у меня есть очень сильное подозрение, что так называемый «вопрос о смысле жизни», взятый в плане его универсальной общезначимости и требующий столь же универсального ответа, сам по себе лишен всякого смысла. В этом виде он вообще не является вопросом, и уж по крайней мере – имеющим отношение к человеческой жизни. Скорее, это просто выражение ностальгии по утраченным вследствие редукции возможностям, которой подвержен «экзистирующий» в мире сознаваемых волений и целеполаганий идеальный субъект, сохранивший в качестве рудимента плоти один лишь язык и раз за разом попадающий в языковые же (по Витгенштейну) ловушки. Никогда не стал бы об этом говорить (или, по крайней мере, в такой резкой форме), если бы этот вопрос, имеющий отношение лишь к «экзистированию» абстрактного субъекта в мире умозрительных абстракций, не приводил бы подчас к необратимым для конкретного человека последствиям в реальном мире поступков.
36
Выготский Л.С. Мышление и речь // Собрание сочинений. Т. 2. М., 1982. С. 220.
37
Апресян Ю.Д. Лексическая семантика. Синонимические средства языка // Избранные труды. Т. I. М., 1995. С. 11.
38
Соответствующие примеры см. в работе того же автора: Апресян Ю.Д. Интегральное описание языка и системная лексикография // Избранные труды. Т. 2. М., 1995. С. 648.
39
Подводя итоги своего обзора дейктических элементов в составе лексических и грамматических значений, Ю.Д Апресян как бы с заделом на будущее завершает его (а вместе с ним и весь свой второй том) весьма знаменательными словами: «[…] язык не только антропоцентричен, но и эгоцентричен в гораздо большей степени, чем признается в настоящее время. Далеко идущие выводы из этого факта предстоит сделать и лингвистике вообще, и лексикографии в частности» (Апресян Ю.Д. Интегральное описание языка и системная лексикография. С. 648).