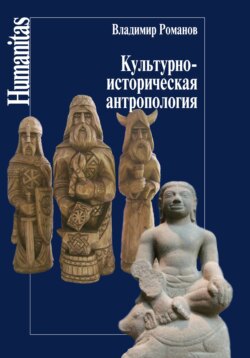Читать книгу Культурно-историческая антропология - В. Н. Романов - Страница 14
Часть II
Культура симпрактического типа
(к реконструкции первобытной культуры)
Глава 1
Техническая деятельность в традиционном обществе
ОглавлениеПодходить к технической деятельности в традиционном обществе можно, конечно, с разных позиций. Нас же, в связи со стоящей перед нами задачей, она интересует прежде всего с точки зрения сопровождающих ее информативных процессов. Ради этого сделаем предварительно небольшое отступление в родную нам современную действительность, расставшись ненадолго с экзотическими этнографическими обществами. Вот представьте себе на минуту, что в вас взыграло неодолимое желание научиться плести корзины. Наша отечественная социокультурная реальность, далекая (на наше счастье и на беду одновременно) от типологической определенности, открывает перед нами две принципиально разные возможности.
Можно, положим, пойти в книжный магазин и купить руководство по плетению корзин (а такие руководства на самом деле есть или, по крайней мере, до недавнего времени были), где последовательно и к тому же в сопровождении вспомогательных рисунков-схем будет выписан весь алгоритм необходимых для этого ручных операций. И вот вы, прочитав книгу, приступаете к делу. Постоянное наличие в вашем распоряжении объективированного в ней алгоритма деятельности позволяет вам по мере надобности, в случае какого-либо затруднения, произвольно выходить за пределы конкретного предметно-событийного ситуационного поля и, вставая как бы на позицию идеального умельца, чей опыт предъявлен в книжном руководстве, и глядя на себя со стороны его глазами, абстрагироваться на время от вашего неумелого посюстороннего Я, чтобы затем каждый раз вновь возвращаться к себе, сверяя последовательно свои операции с отображенным в тексте образцом.
Можно, конечно, поступить и так, воспроизведя таким образом типичный по своей сути производственный опыт «зрячей», теоретической культуры[48]. А еще можно просто сесть в пригородную электричку, отъехать чуть подальше от Москвы, найти в деревне деда, плетущего корзины, и пойти к нему на время в ученики. Скорее всего, он сначала изготовит при вас корзину, показав, как это делается, а потом даст в руки предварительно вымоченные и очищенные ивовые прутья и предложит попробовать самому, сопровождая ваши неумелые манипуляции словесными комментариями типа: «Т-а-а-к. А теперь сюды, а потом туды. Да куды ж ты, Николаич, …, суешь!» и т. д. Не знаю, как придется вам, а для меня второй способ обучения, под руководством деда, оказался несравненно более легким и гораздо более успешным. После недельных занятий худо-бедно, но я все-таки овладел до какой-то степени своими корявыми пальцами, научившись плести хотя совсем и неказистые по виду, но все-таки узнаваемые без особого труда корзины. А вот теперь давайте повнимательнее приглядимся к тому, что при этом происходило – какие, собственно, информативные процессы имели в данном случае место.
Во-первых, можно констатировать, что во время совместного изготовления корзины действительно произошла передача определенного навыка работать руками. Но то, что мы привычно называем навыком, отражает лишь внешнюю сторону случившегося при этом события – вот, положим, сначала Николаич не умел, а теперь, так сказать, заумел. По психологической же своей сути обретение ручного навыка, т. е. переход от неуменья к уменью, означало в данном случае прямое наведение у Николаича, целиком и полностью погруженного в практическую деятельность, ряда конкретных и, разумеется, невербальных (и, можно даже сказать, принципиально невербализуемых) субъективных регуляторов, делавших мои руки умелыми без всякой задумчивости с моей стороны и без всякого отвлечения на что-либо еще, лежащее за пределами конкретного предметно-действенного контекста.
Во-вторых, все эти события, связанные с передачей необходимой для плетения корзин информации, были непосредственно вплетены в самую что ни на есть практическую деятельность, непосредственно в сам трудовой процесс, причем на выходе – и это следует особо подчеркнуть – имелся разом и готовый к употреблению продукт, и Николаич, готовый к повторному его продуцированию. Готовность же Николаича к самостоятельному продуцированию корзин являлась в данном случае прямым следствием освоения им потребных для их изготовления моторно-топологических схем предметных действий[49]. В процессе симпрактического обучения именно эти постепенно усваиваемые схемы действий опредмечивались в продуцируемом Николаичем артефакте, а сам продуцируемый артефакт, наоборот, постепенно распредмечивался в нем, находя в его чувственной ткани свое соответствие в виде предметного, или, по-другому, ручного, понятия[50].
И, наконец, последнее. Обучение Николаича состоялось, минуя стадию сколько-нибудь последовательной речевой артикуляции всего трудового процесса. Эмфатическая речь моего знакомого деда, имевшая выраженный контекстуальный характер, лишь уточняла мои же собственные неумелые действия и корректировала их, отсекая неправильные посредством неодобрительных (и это мягко сказать) восклицаний. Будучи записана на магнитофон, она, не содержа в себе никакого подобия алгоритма, даже отдаленно не напомнила бы нам книжного руководства по плетению корзин с его четко прописанной последовательностью всех операций. Я даже сомневаюсь, что слушатель вообще понял бы, чем мы с дедом, собственно говоря, занимались.
Конечно, пример с Николаичем, работавшим исключительно одними руками, в техническом отношении один из самых простых. Замечу, однако, что положение дел с трансляцией производственных навыков и соответственно стоящих за ними предметных понятий принципиально не меняется, когда в руки дополнительно дается еще рабочий инструмент, опосредующий связь агенса с предметом труда. Отличие в данном случае состоит только в том, что здесь от обучающего к обучаемому вместе с навыками в первую очередь транслируются и те потребные для изготовления артефакта схемы предметных действий, которые уже до этого, как бы загодя, опредметились в самом непосредственно орудии труда. И чтобы обучающийся с успехом усвоил эти опредмеченные в инструменте схемы действий, или, говоря иначе, чтобы они окончательно распредметились в его биодинамической чувственной ткани, образовав на уровне внутренней моторики предметное понятие, орудие труда должно быть пережито им как свое прямое телесное продолжение рук, от которого исходят потенциально сосредоточенные уже в самом инструменте двигательные импульсы[51]. В идеальном случае орудие труда должно непосредственно встроиться в схему тела агенса, по отношению к которой во время работы будут локализоваться сигналы как кожной, так и кинестетической чувствительности, способной непрерывно и безошибочно информировать его о постоянно меняющейся силе сопротивления обрабатываемого материала[52].
Такой способ трансляции деятельности, когда для ее воспроизводства не требуется никаких надстраивающихся над ней дополнительных и обособленных от нее информационных каналов, мы и будем называть в дальнейшем симпрактическим. В отличие от теоретического, который по всем пунктам предполагает прямо противоположное, этот способ не создает никаких предпосылок для того, чтобы агенс мог произвольно выходить за пределы конкретного предметно-событийного ситуационного поля и, «прозревая» как бы со стороны свою же собственную деятельность, давать ей внеконтекстное нормативное описание.
Между тем в антропологической литературе совершенно игнорируется сама принципиальная возможность симпрактического способа трансляции технической деятельности с информационным обеспечением, типологически отличным от теоретического. Показательна в этом вопросе позиция известного отечественного антрополога В. П. Алексеева. «Трудовой процесс, – пишет он, – процесс информативный в самом широком смысле этого слова, ибо он не только постоянно порождает новую информацию, но и сам невозможен без нее и очень зависит от каналов ее передачи и циркуляции. Основным средством передачи информации как от индивидууму к индивидууму, так и от поколения к поколению стала у человека звуковая речь». И далее подчеркивается, что ее роль в первобытном обществе «была не меньшей, а, может быть, даже большей, чем в современную эпоху, так как информативная роль других средств передачи информации, распространенных в современном обществе, сводилась к нулю»[53].
Второй пример взят из работы известного этнолога Э. Лича, следующего во многом К. Леви-Стросу. Пытаясь эксплицировать исходные теоретические посылки последнего, Э. Лич выделяет три, казалось бы, самоочевидных аспекта человеческого поведения: 1) естественная биологическая активность, 2) технические акты и, наконец, 3) экспрессивные акты. И далее единственно с этими последними он и связывает возможность коммуникации в обществе[54]. Подчеркну, два приведенных выше мнения о соотношении технической деятельности и коммуникативной являются примерами (хотя, быть может, и наиболее показательными) общераспространенного в антропологической литературе подхода к данной проблеме[55].
Как можно легко заметить, в обоих случаях мы сталкиваемся с полным игнорированием того решающего для нас обстоятельства, что техническая деятельность («технические акты», по Личу) уже сама по себе является в традиционных обществах одним из важнейших информационных каналов культуры. И чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на ту роль, которую она играет в обучении подрастающего поколения. Буквально все этнологи и этнопсихологи, специально занимавшиеся этим вопросом, сходятся в одном: основной формой обучения в традиционном обществе является непосредственное участие детей в производительном труде взрослых; при этом техника обучения носит в основном невербальный характер, опираясь главным образом на показ в контексте самого трудового процесса[56].
Так что же транслируется в ходе такого вербально не артикулированного обучения, непосредственно вплетенного в саму техническую деятельность? Ответ, на мой взгляд, очевиден – сама деятельность в первую очередь и транслируется, как в разобранном выше примере с Николаичем. Но это также означает, что вместе с ней от поколения к поколению будут одновременно транслироваться и все необходимые для ее воспроизводства навыки, а следовательно, и все стоящие за ними моторно-топологические схемы предметных действий, которые, естественно, просто не могут транслироваться иначе – минуя саму деятельность. Но если внутри технической деятельности ее прагматико-исполнительский аспект и информационный слиты воедино, если трудовой процесс является одновременно информационным не по каким-либо вне-положенным ему характеристикам, а по самой своей сути, будучи основным каналом трансляции моторно-топологических схем действий, то речь в ходе самой предметной деятельности никогда не сможет оформиться здесь в самостоятельную и обособленную от практики систему кодов. Она не выйдет за рамки симпрактичности, а ее роль будет в основном ограничиваться уточнением конкретного деятельного контекста и, в частности, вербальной категоризацией тех качественных характеристик пространства и времени (над, под, внутри, между, прежде, сейчас, потом и т. п.), которые непосредственно складываются на уровне предметных операций[57].
Отсюда уже можно предположить, что в традиционном обществе речь не в полной мере выполняет потенциально присущую ей функцию контроля над предметной деятельности и что, в частности, словесно объективированный алгоритм вовсе не является в данном случае ее необходимым элементом или предпосылкой[58]. В пользу этого предположения прежде всего говорят данные этнопсихологических экспериментов, свидетельствующих о наличии в традиционных обществах значительного разрыва между способностью к адекватному действию и способностью к его речевой артикуляции. Рассмотрим в качестве примера один из экспериментов на понимание «принципа сохранения вещества».
Эксперимент, проведенный М. Гринфилд в Сенегале среди народности волоф[59], состоял в подравнивании количества воды в двух одинаковых стаканах, в переливании после этого содержимого одного стакана в третий, иного размера, и в опросе испытуемых, осталось ли количество воды в двух стаканах одинаковым, или нет. Главный для нас результат эксперимента состоял в том, что все неграмотные взрослые давали неверные ответы. Однако можно ли на основании этого вслед за М. Гринфилд утверждать, что мы в данном случае сталкиваемся с фактом принципиального непонимания «принципа сохранения вещества»? Можно ли представить себе взрослого человека, живущего к тому же в пустыне, который переливает воду из большого ведра в маленькое и считает, что количество воды при этом увеличивается? Разумеется, нет. Решение проблемы лежит, по всей видимости, в том, что в действии понимание этого принципа достигается помимо словесно сформулированных суждений и что отрицательные (словесные) результаты опыта свидетельствуют лишь о наличии подобного разрыва. Замечу, что и сами психологи в ходе методологического анализа своей полевой работы приходят к аналогичному по своей сути выводу о необходимости различения способов оперирования предметами и способов описания испытуемыми своих предметных действий[60]. И вывод этот становится, надо сказать, вполне обоснованным и теоретически значимым, если признать, что в традиционном обществе контролирующая функция речи не является имманентной составной частью самого трудового процесса.
Оценивая результаты этнопсихологических экспериментов, важнейший итог которых состоял в установлении значительного разрыва между предметной деятельностью и речевой, можно, конечно, возразить, что это лишь косвенное свидетельство. И подобное возражение будет вполне справедливым, поскольку решающим аргументом в пользу нашего предположения может стать лишь материал непосредственных этнографических наблюдений в неформальных условиях. Однако приходится с сожалением констатировать, что таких конкретных исследований технической деятельности крайне мало. И все же то, что мне удалось разыскать в этнологической литературе, подтверждает, как кажется, выдвинутое предположение.
По наблюдениям Дж. Гэя[61], сделанным среди народности кпелле в Либерии, деревенские умельцы, которые легко могли сплести корзину, испытывали явные трудности, когда их прямо просили описать весь процесс труда[62]. Важно при этом подчеркнуть, что очевидный разрыв между предметной деятельностью и речевой не являлся в данном случае следствием постепенной редукции изначально данного вербального плана к системе предметных операций, поскольку и обучение этому ремеслу имело, естественно, невербальный характер. Об отсутствии вербальных планов деятельности говорит также Ф. Барт в своем замечательном (как в отношении информативности, так и в отношении применявшейся им методики) исследовании повседневной жизни бактаманов Новой Гвинеи. Согласно его сообщению, даже такие сложные, требующие значительной координации усилий многих людей операции, как охотничья экспедиция, собирание материала для постройки дома и т. п., также не предполагают предварительной сходки, на которой заранее вырабатывался бы некий план будущих совместных действий[63]. Сходным образом следует, по всей видимости, интерпретировать и описание коллективной ловли рыбы на Тробрианских островах, данное Б. Малиновским[64].
Если дальше подниматься по ступеням сложности технической деятельности в традиционном обществе, то ближе к ее вершине мы можем столкнуться (хотя и не так уж часто) с трудовыми процессами, предполагающими уже предварительное «школьное» обучение. Это обстоятельство ставит вроде бы под сомнение правомерность моей гипотезы о недостаточном развитии контролирующей функции речи, что, как и в других упомянутых выше случаях, должно выражаться в отсутствии объективированного тем или иным способом плана будущей деятельности. Однако, если судить по результатам исследований Т. Глэдвина аборигенной техники мореплавания в открытом море, сомнение в данном случае не представляется обоснованным.
Согласно Т. Глэдвину, навигационные знания, бытующие среди аборигенов Микронезии, передаются как непосредственно в ходе плавания, так и в отрыве от деятельностного контекста – в так называемой «школе»[65]. В последнем случае обучение преимущественно касается одного из важнейших элементов плавания – ориентации по звездам, что позволяет аборигенным мореплавателям совершать многодневные переходы, с большой степенью точности выходя на цель. Естественно возникает вопрос: меняется ли типологическая характеристика данного вида деятельности вследствие того, что абориген заранее (в «школе») усваивает основные навигационные направления?
В своей более ранней статье «Культура и логический процесс» Т. Глэдвин дает на это отрицательный по сути дела ответ. Отсутствие объективированного в какой-либо системе кодов плана, обусловливающее значительные трудности, которые испытывает абориген при попытке описать свою мореходную деятельность, рассматривается им как основное, что принципиально отличает европейскую технику мореплавания от аборигенной[66]. В более поздней монографии он смягчает несколько свою точку зрения, рассматривая усвоенные в местной «школе» навигационные направления в качестве своеобразного эквивалента европейского плана[67]. Подобные колебания в оценке «школьных» знаний заставляют нас самим обратиться к приводимым Т. Глэдвином данным, позволяющим достаточно надежно реконструировать основные этапы морского путешествия аборигенного навигатора.
Выбор курса, согласно Т. Глэдвину, осуществляется, как правило, днем, когда солнце находится в зените. Таким образом, в этот ответственный момент «школьные» знания по звездной ориентации не работают. Важно также отметить, что первоначальное наведение на цель не является операцией, оторванной от самого плавания. Чтобы лечь на нужный курс, мореход должен отплыть от своего острова, и именно вид последнего дает всю необходимую информацию для первоначального наведения каноэ на цель. Приучаясь к своему делу с детства, мореход просто помнит, как должен выглядеть остров из его каноэ, когда он отправляется в плавание к каждому из тех многочисленных островов, к которым он может совершать многодневные морские переходы. По сообщению Т. Глэдвина, существуют и более точные способы первоначального наведения на цель, но все они ничем принципиальным не отличаются от вышеизложенного.
После того как курс выбран, задача сводится к его поддержанию и корректировке. В дневное время всю необходимую для этого информацию предоставляют характер ветра, волн, облаков, направление течений, цвет воды, появление определенных видов птиц и т. п., т. е. все то, о чем мореход узнает в ходе неформального обучения, когда он, будучи еще ребенком, сопровождал в плавании своего отца. И лишь ночью включаются в работу «школьные» знания по звездной ориентации. Правда, именно в этот момент открывается возможность для наиболее точного наведения каноэ на цель. Но и здесь, так же как и в случае первоначального выбора курса, аборигенный навигатор руководствуется не эксплицитно сформулированными правилами, позволяющими ему с использованием технических средств определить свое местонахождение, а опять-таки все той же памятью. Роль предварительного «школьного» обучения сводится к тому, чтобы он с детства просто запомнил, каким должно быть соотношение его каноэ и звезд, фиксируемое с помощью раскладываемых на песке камушков, для каждого из всех возможных маршрутов. Но в таком случае едва ли правомерно сближать европейскую технику мореплавания с аборигенной на том единственно формальном основании, что обе они действительно предполагают предварительное обучение. Да и сам Т. Глэдвин признает, в сущности, это вопреки своему конечному выводу[68].
Тем не менее, мы все-таки вправе говорить здесь о наличии своеобразного плана. Только представлен он (как и во всех предыдущих случаях) не на вербальном уровне, а на уровне сформировавшейся у аборигенного «навигатора» общей системы предметных операций, по отношению к которой каждое его конкретное плавание является ее практической реализацией. Такой действенный, симпрактический план, непосредственно вплетенный в саму конкретную деятельность, не может быть, естественно, актуализирован вне ее пределов. И это позволяет объяснить один приведенный Т. Глэдвином весьма любопытный факт, оставленный им, однако, без всяких объяснений.
Речь идет о распространенном среди аборигенных мореплавателей представлении о плавающих островах. Считается, что если мореплаватель держит в открытом море верный курс, то движется не каноэ, а сам остров навстречу ему (движение каноэ допускается только в случае его отклонения от курса). Как подчеркивает Т. Глэдвин, аборигенные мореплаватели принимают сразу же, без всяких рассуждений, все познавательные предпосылки для подобного рода утверждений, несмотря на их явную нелепость с точки зрения европейца, который исходит из того, что плавание есть процесс, в котором фиксировано все, за исключением самого каноэ вместе с находящимся в нем мореплавателем[69]. Но почему же аборигенный мореплаватель не видит ничего нелепого в своих представлениях о плавающих островах? Все, по-видимому, объясняется тем, что организация деятельности аборигенного мореплавателя, предполагающая наличие одного лишь симпрактического плана, прямо препятствует ему в том, чтобы он смог отвлечься от эго-центрично структурированной реальности окружающего мира, абстрагироваться от непосредственного действенного контекста и соответственно взглянуть на себя со стороны как бы сторонними глазами. Но именно это обстоятельство и способствует возникновению столь нелепых (с точки зрения представителя теоретической культуры) представлений.
В связи с этим необходимо учитывать, что в открытом море отсутствуют постоянные точки отсчета, которые ясно указывали бы на движение каноэ. Более того, вся техника ночного мореплавания, обеспечивающая наиболее точное наведение на цель, покоится именно на том, что перцептивно воспринимаемое пространственное соотношение мореплавателя и звезд должно оставаться неизменным. Следовательно, когда он находится в открытом море, его непосредственное чувственное восприятие не только не наталкивает его на мысль, что движется именно каноэ, но скорее убеждает в обратном – в его неподвижности. Отсюда остается проделать один только шаг до представлений о движущихся островах. И этот шаг наш мореплаватель проделывает тем более легко, что ничто не препятствует ему в этом. Европейца в подобной ситуации данные восприятия не могут ввести в заблуждение (по крайней мере надолго), поскольку мысленное обращение к объективированному (пусть даже в самой общей форме) маршруту плавания сразу же разрушит иллюзию неподвижности. Отсутствие же такового у аборигенного мореплавателя не позволяет ему выйти за пределы эго-центрированного перцептивного поля, совершив таким образом своеобразную коперниковскую революцию в миниатюре.
Еще один показательный пример технической деятельности в традиционном обществе – причем деятельности, обращаю внимание, чрезвычайно сложной, предполагающей уже наличие в социальной структуре обособленных групп знатоков-специалистов, – связан с производством в Тропической Африке губчатого железа на основе его восстановления в так называемых (и, надо сказать, называемых неверно с точки зрения химических процессов) «домнах». Этот пример приводит, в частности, О. Леруа[70] в опровержение гипотезы Л. Леви-Брюля о «прелогическом» и «мистическом» характере «первобытного мышления», работающего якобы по законам «партиципации».
Гипотеза Л. Леви-Брюля, изложенная им в ряде работ[71], несомненно заслуживала самой серьезной критики, но все дело в том, с каких позиций она велась (и ведется подчас до сих пор) и насколько сама эта критика методологически корректна. У О. Леруа она практически полностью свелась к простой демонстрации хитроумного устройства африканской «домны», что было призвано прямо свидетельствовать в пользу «научного детерминизма», которому бессознательно следует «первобытный ум». Лишним подтверждением этому должен был, по всей видимости, стать приводимый автором чертеж «домны» (да еще в разрезе, да еще и с обозначением всех химических компонентов), после чего уже совершенно естественным и закономерным становился конечный вывод о принципиальном сходстве традиционной технической деятельности с современной: в обоих случаях, по мнению О. Леруа, мы имеем перед собой разные по степени, но все-таки сходные по своей сути проявления одного и того же «научного ума» (de l′esprit scientifique).
Судя по всему, приводя без всяких оговорок чертеж «домны», критик Леви-Брюля просто не отдавал себе отчета в диагностическом характере такого рода документов, требующих для своей трансляции совершенно особых, надстраивающихся над практической деятельностью информационных каналов. Ведь все различие между технической деятельностью симпрактического и теоретического толка как раз и состоит именно в том, что в первом случае артефакт объективно представлен в культуре в единственном числе (в виде, положим, той же реально сооруженной «домны»), тогда как во втором – в двойственном числе, поскольку здесь помимо самого артефакта с необходимостью должен иметься также и виртуальный его прообраз, т. е. соответствующий ему чертеж, над созданием которого действительно потрудился «научный ум», закрепив результаты своего труда с помощью специально разработанного инженерно-конструкторского языка.
Констатация этого факта, делая крайне сомнительными любые попытки до опыта усматривать в том или ином техническом достижении традиционного общества плод работы вневременного «научного ума», требует заменительно проведения каждый раз конкретно-исторического исследования, нацеленного на реконструкцию тех событий и природных обстоятельств, которые спонтанно (без волевого и целенаправленного акта изобретения) могли вплотную подводить к этому достижению и, что не менее важно, способствовать его введению в обычай. В связи с генезисом африканских «домн» подобная реконструкция процессов, приведших в конечном счете к их появлению, на наше счастье, уже проведена в замечательно емкой статье В. М. Мисюгина и З. Л. Пугач. Мне остается только отослать к ней читателя за подробностями и присоединиться к уважаемым авторам, которые, формулируя свои исходные методологические посылки, подчеркнули абсолютную неуместность употребления в данном контексте понятий «изобретение», «открытие» и т. п., указав при этом, что соответствующим явлениям просто не было места в традиционном производстве, где единственным своеобразным изобретателем оставалась сама же традиция[72].
Итак, поднимаясь по ступеням сложности технической деятельности в традиционном обществе и рассматривая ее с разных сторон, мы не смогли обнаружить ничего, что противоречило бы нашему исходному предположению о том, что в этом обществе производственная практика не требует вербализованного (или объективированного каким-то иным способом) плана деятельности в качестве необходимой своей предпосылки. Как мы видели выше, эмансипации слова от практики не происходит даже в том случае, когда техническая деятельность предполагает предварительное «школьное» обучение и достаточно высокий уровень специализации. Таким образом, правомерным, по всей видимости, будет заключение, что в этой сфере жизни традиционного общества речь, сохраняя контекстуальный характер, не превращается в самостоятельного и полноценного носителя информации, причем никакой нехватки в этом техническая деятельность вовсе не испытывает по причине присущего ей, как я пытался показать выше, свойства автотранслируемости.
48
В связи со «зрячестью» современной теоретической культуры в отношении техники и всего производства в целом позволю себе сделать здесь небольшое отступление в историю. В Западной Европе (и, судя по всему, только в ней) произошло уникальное событие мирового значения, связанное с радикальной и последовательной перестройкой технической деятельности на теоретический (в моем понимании) лад. Европейская культура не только смогла в конце концов «прозреть» в отношении техники, которая долго расценивалась ею как негодный обман природы (и даже посредством этимологии сближалась, как у Гуго Сен-Викторского, по шкале оценок с обманом и прелюбодеянием), но и, приступив приблизительно с Нового времени к ее последовательному нормативному описанию, разработать к концу XVIII в. необходимый для этого инженерный язык, использующий универсальную номенклатуру, некоторые разделы математики, начертательную геометрию и т. д. Это позволило во второй половине XIX в. сначала в Германии, а затем и в других развитых капиталистических странах окончательно развести процесс изготовления артефактов и его планирования за счет создания при заводах сначала конструкторских, а чуть позднее и технологических бюро, целиком взявших на себя функцию технического руководства производством. С этого времени чертеж и технологическая карта стали на заводе основными документами, что, в свою очередь, повлекло за собой необходимость в предварительном, и причем уже внеконтекстном, обучении рабочих-исполнителей, от которых требовалось теперь помимо ручного уменья и еще уменье читать эти производственные документы (о становлении инженерной конструкторской деятельности см.: Уварова Л.И. К вопросу о конструировании машин в XVIII в. // История машиностроения. Труды Института истории естествознания и техники. Т. 45. М., 1962. С. 19–27; она же. Научный прогресс и разработка технических средств. М., 1973. С. 124–128; и особенно: Грейм И.А., Кеосаар Ю.Ю. Историческое развитие конструирования // Вопросы естествознания и техники. М., 1986, № 2. С. 38–43).
49
О моторно-топологических схемах предметных действий, являющихся результатом абстрагирующего преобразования пространства и времени на уровне самого совершаемого действия, см. подр.: Бернштейн Н.А. О построении движений. М., 1947. С. 120–126.
50
Выражение «ручные понятия» было введено в научный оборот замечательным американским этнологом Ф. Кашингом в самом конце XIX в. Его имя получило среди этнологов широкую известность благодаря успешно поставленному им опыту погружения в традиционную культуру одного из индейских племен. Для нас особый интерес представляет в данном случае то обстоятельство, что свое погружение в жизнь племени зуньи (а в конце концов он даже достиг в нем статуса племенного вождя) Кашинг начал с освоения всех тех ручных операций и соответственно всех тех ручных понятий, которыми владел каждый из мужских представителей этого племени. По его же собственным словам, он «вернул свои руки к их первобытным функциям, заставляя их проделывать все то, что они делали в доисторические времена, с теми же материалами и в тех же условиях, которые характеризовали эпоху, когда руки были так связаны с интеллектом, что они действительно составляли его часть» (Cushing F. Manual Concepts // American Anthropologist. 1892. V. 5. Цит. по: Иванов Вяч. Вс. Чет и нечет. Асимметрия мозга и знаковых систем. М., 1978. С. 62).
51
Ср. здесь: превосходное и удивительно точное (даже и с научной точки зрения) описание косьбы у Л.Н. Толстого в «Анне Карениной», которое мог дать (и, замечу в скобках, может в полной мере понять) только тот, кто сам пережил все сопровождающие косьбу неповторимые ощущения: «Чем долее Левин косил, тем чаще и чаще он чувствовал минуты забытья, при котором уже не руки махали косой, а сама коса двигала за собой все сознающее себя, полное жизни тело, и, как бы по волшебству, без мысли о ней, работа, правильная и отчетливая, делалась сама собой» (Толстой Л.Н. Анна Каренина // Собрание сочинений: В 22 томах. Т. 8. М., 1981. С. 279–280)
52
О концепте «схема тела человека» см. примеч. 17. Ср. здесь: данное Я.А. Ляткером образное, но вполне согласующееся с данным концептом описание искусства средневекового ремесленника-рукодельника: «Рука ремесленника слита с инструментом и через него с природой материала. Но полностью природа эта выявляет себя при полной слитости тогда, когда кончики пальцев “искусника” обретают чувствительность открытого нерва. Волокна человеческих нервов продолжаются в волокнах инструмента, и инструмент “чувствует” фактуру материала […]. Методом был секрет, суть которого – в отточенности техники и развитой ”мускулатуре” ума “искусника”…» (Ляткер Я.А. Декарт. М., 1975. С. 30).
53
Алексеев В.П. Возникновение человека и общества. // Первобытное общество. М., 1975. С. 29.
54
См.: Leach E. Culture and Communication. Cambridge, 1976. P. 9.
55
Насколько мне известно, лишь у одного исследователя аналогичная точка зрения вызвала решительные возражения: «Антропологи часто делают совершенно необязательное и наивное допущение, что, поскольку символический аспект и технический аспект действий могут быть разделены в анализе, их корреляты в форме акта также должны быть раздельными. Они, по всей видимости, полагают, что технические требования налагают определенные ограничения на форму акта, поэтому его символическое значение должно лежать где-то еще, в тех формальных чертах, которые технически излишни и необязательны» (Barth F. Nomads of South Persia. Oslo, 1961.P. 147). Надо сказать, что эвристическая ценность этой мысли Ф. Барта не была вполне осознана этнологами (ср. Douglas M. Purity and Danger. An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo. Harmondsworth, 1978. P. 38).
56
См., например: Alt R. Vorlesungen über die Erziehung auf frühen Stufen der Menschheitsentwicklung. B., 1956; Miller N. The Child in Primitive Society. L., 1928; Mead M. Growing up in New Guinea. Harmondsworth, 1942; Kidd D. Savage Childhood. A Study of Kafir Children. N. Y., 1969; Hambly W. Origins of Education among Primitive Peoples. N. Y., 1969; и особенн: Fortes M. Social and Psychological Aspects of Education in Taleland. L., 1938 (Suppl. to «Africa». Vol. 2, № 4). Ср. также: Эльконин Д.Б. Психология игры. М., 1978; Брунер Дж. Психология познания. М., 1977; Коул М, Скрибнер С. Культура и мышление. М., 1977.
57
См.: Бернштейн Н.А. О построении движений. С 122; ср.: Лурия А.Р. Язык и сознание. М., 1979. С. 32–33; Левада Ю.А. Социальная природа религии. М., 1965. С. 110–111.
58
Мне и в страшном сне не могло привидеться, что эти мои рассуждения о симпрактическом характере речи могут быть истолкованы так, будто я настаиваю на буквально немотствующем состоянии традиционного социума. В действительности же я говорю только то, что говорю: речь в традиционном обществе имеет контекстуальный характер, и все. Если аналогичным образом будет истолковано и мое высказывание о принципиальной «незрячести» (заметьте, в кавычках) традиционной культуры, прямо вытекающей из симпрактического характера последней, то я еще больше укреплюсь во мнении, что культура теоретического типа лишь открывает перед ее носителями возможность адекватно воспринимать абстрактную мысль, но никак не гарантирует им этого. Тем не менее, в очередной раз идя на риск, приведу в связи с моей трактовкой «незрячести» одно вроде бы удивительно зримое описание весны деревенского первоклассника, в котором, однако, еще очень трудно заподозрить типологического теоретика. Вот его домашняя работа – цитирую по памяти целиком: «Весна. Навоз парит. А сверху кобель лежит, греется». Если бы это сотворил писатель, я бы сказал – гениальное по своей краткости и синестезической образности описание ранней весны: тут тебе и зрительная картинка дана, да еще в зыбком движении, тут и запах присутствует, и характерное ощущение мартовской знойкости, когда солнце с одного бока греет, а с другого нет, и т. д. Но в том-то и дело, что все это не «зрячий» писатель сочинил, который, отстраняясь от действительности, самочинно выстраивает ее художественный образ, а деревенский мальчишечка. И не сочинил он вовсе, а, получив от учителя задание написать сочинение на тему «Весна», увидел и описал то, что у него непосредственно перед глазами. Вот приходит он из школы домой, садится в избе к окну, а за окном и впрямь весна, и навоз (конечно, конский) на дороге парит, а сверху действительно кобель лежит, греется себе в удовольствие на тепленьком. Здесь мы сталкиваемся с тем, что Г.И. Успенский, анализируя сочинения не больно грамотных деревенских школьников 9—14 лет, назвал еще в позапрошлом веке «покорностью факту», имея в виду ситуативный характер даже их письменной речи (см.: Успенский Г.И. Из деревенского дневника // Собрание сочинений: В 9 тт. Т. 4. М., 1956. С. 410–414).
59
Гринфилд П. О культуре общества и о понимании принципа сохранения количества вещества // Исследование развития познавательной деятельности. М., 1971. С. 272—306
60
См.: Коул М, Скрибнер С. Культура и мышление. С. 150; Брунер Дж. Заключение // Исследование развития познавательной деятельности / Под ред. Дж. Брунера и др. М., 1971. С. 381.
61
Ссылку на них см. в работе: Коул М, Скрибнер С. Культура и мышление. С. 230–231.
62
Относительно моего знакомого деда, учившего меня плести корзины, сказать сейчас то же самое с абсолютной уверенностью не берусь, однако почти не сомневаюсь, что и для него трудности были бы ничуть не меньшие.
63
Barth F. Ritual and Knowledge among the Baktaman of New Guinea. Oslo-New Haven, 1975. P. 135.
64
Malinowski B. Magic, Science and Religion and Other Essays. Boston, 1948. P. 245.
65
Gladwin T. East is a Big Bird. Navigation and Logic on Puluwat Atoll. Cambridge (Mass.), 1970. P. 128 и сл.
66
Gladwin T. Culture and Logical Process // Explorations in Cultural Anthropology. Essays in honor of G.P. Murdock. N. Y., 1964.
67
Gladwin T. East is a Big Bird. Navigation and Logic on Puluwat Atoll. P. 232.
68
Там же. P. 56.
69
Там же. P. 181.
70
Leroy O. La raison primitive. Essai de rе́futation de la thе́orie du prе́logisme. P., 1927. P. 247–249.
71
См. переводы: Леви-Брюль Л. Первобытное мышление. Л., 1930; он же. Сверхъестественное в первобытном мышлении. М., 1937.
72
Мисюгин В.М., Пугач З.Л. Традиционное производство железных изделий в Тропической Африке (по материалам коллекции МАЭ) // Труды Института этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. Новая серия. Т. CV. Л., 1978. С. 56.