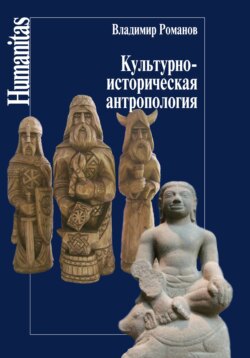Читать книгу Культурно-историческая антропология - В. Н. Романов - Страница 9
Часть I
Человек, язык, культура:
По эту сторону от объективного
Глава 1
Становление одушевленной реальности,
или По эту сторону от объективной
ОглавлениеИтак, человек и именно в животной своей ипостаси. Как и любое другое животное, он в силу специфики присущих его телу кинематических цепей будет обладать своими, анатомически опреде́ленными возможностями для развертывания той или иной двигательной активности. Но движение живого существа никогда не случается в однородном и изотропном физическом пространстве[10]. Напротив, оно всегда имеет место в качественно определенном и топографически разнородном предметно-событийном мире. Следовательно, говорить о возможностях тела в связи с двигательной активностью имеет смысл только потому, что сам этот мир как совокупность всех доступных мест пребывания также таит в себе самые разнообразные возможности, причем разом для всех животных, включая, естественно, и человека.
Реализуя в данный момент времени и в данном месте определенную выборку из всех возможных для живого существа движений, оно реализует одновременно и выборку соответствующих возможностей, предоставляемых ему для этого предметно-событийным миром. Если попытаться графически передать эту мысль, обозначив возможности обоего рода вектором и сосредоточив преимущественное внимание на факте их координации, то получится следующее:
Приведенная схема призвана как можно наглядней продемонстрировать, что мир, актуально окружающий каждое наделенное телом живое существо, есть прежде всего мир подлежащих согласованию возможностей: возможностей, с одной стороны, внутренних, телесных, а с другой – внешних, связанных уже с предметной средой. Само устроение тела животного и, конкретнее, его двигательного аппарата заранее будет однозначно определять, какие именно из всей совокупности возможностей, которые объективно предоставляются вещно-оформленной предметной средой, могут быть при случае востребованы им, а какие раз и навсегда, с самого рождения и до скончания дней, так и перейдут для него в разряд вырожденных, лежащих по ту сторону от актуально окружающего его в каждый момент времени посюстороннего мира.
В более развернутом, но на этот раз в алгебраическом уже виде та же, по сути дела, мысль может быть выражена следующим образом: мир, окружающий животное X в точке A, не будет тождественен окружающему миру животного Y в той же самой точке, даже если различия между X и Y касаются их телесного исключительно устроения. В силу одного только различия между ними в двигательном аппарате оба мира подлежащих согласованию возможностей, Xa̲ и Ya̲, порождаемые разнесенным во времени присутствием данной пары животных в точке A, несмотря на абсолютную идентичность внешней вещно-оформленной среды в этой точке, будут хотя бы немного, но все же различаться между собой. Однако различаться будут они, сходясь, несомненно, в главном – в их принципиальном типологическом сходстве. Ведь и тот и другой вне зависимости от конкретного телесного устроения X и Y и, следовательно, от анатомически доступных для каждого из этих животных движений будут в равной степени обладать свойством одушевленной реальности, т. е. такой единственно актуальной для них посюсторонней реальности, в которой возможности (причем как положительного, так и отрицательного свойства), которые предоставляются предметным миром для развертывания двигательной активности, изначально являются им как возможности собственного тела, как их же собственные телесно-динамические проекции.
В связи с этим полезно продумать другое условие, абсолютно необходимое для того, чтобы косная реальность потустороннего мира материальных объектов смогла действительно трансформироваться в одушевленную реальность окружающего мира согласованных возможностей. Прежде всего здесь следует принять во внимание тот очевидный факт, что любое млекопитающее, к классу которых принадлежит, в частности, и человек, характеризуется наличием не только кинематических цепей, обусловливающих самое подвижность его тела и анатомически доступный ему состав движений, но в добавок к этому еще и особых органов чувств, которые в ходе развертывания двигательной активности обеспечивают согласованное восприятие двух множеств указанных выше разнородных возможностей, внутренних и внешних. Главенствующую роль в этом их согласовании, хотя и в разной степени, играют у всех млекопитающих земной поверхности такие дальнобойные телерецепторы, как зрение, слух и обоняние.
Как было показано в свое время Н. А. Бернштейном[11], данные телерецепторы, всей своей экстероцептивной природой нацеленные вроде бы на извлечение информации о текущем состоянии предметной среды, обладают вместе с тем и проприоцептивной функцией, состоящей в наблюдении за текущими движениями собственного тела и сигнализации об этих движениях в центральную нервную систему в порядке выполнения сенсорных коррекций. Если, однако, посмотреть на ту же проприоцептивную функцию дальнобойных телерецепторов не с физиологической точки зрения, а с точки зрения психологии, суть дела будет заключаться скорее в другом. Главное будет состоять уже не столько в ее непосредственной вовлеченности в процессы управления движениями, сколько в том, что прямым результатом этого как раз и становится конституирование эгоцентрично организованной одушевленной реальности с совершенно неведомой объективному миру центростремительной интенцией.
Благодаря функциональной проприоцепции запредельно нереальная для нас как животных потусторонняя реальность объективного мира, который сам по себе лишен иерархически выделенного в нем места и таким образом вовсе не предполагает для движущихся в нем косных материальных объектов абсолютной точки отсчета, преобразуется в единственно реальную для нас реальность нашего же собственного мира возможностей, который, в противовес объективному, характеризуется уже наличием в случае каждой конкретной особи своего особого четко выраженного структурного центра и соответствующей ему периферии.
Действительно, посредством телерецепторов, непроизвольно и без всякой задумчивости задействуемых нами при согласовании двух множеств разнородных возможностей, мы, как и другие млекопитающие, не только локализуем объекты относительно своего тела[12], но и сами, в свою очередь, локализуемся относительно них. И лишь в силу этого обстоятельства наша родовая животная самость, впервые конституируясь именно как средоточие согласованных, скоординированных возможностей, только и имеет место быть, т. е., находясь в центре актуально окружающего ее на текущий момент времени посюстороннего мира, осуществлять с этого места выбор единственного из всех в принципе возможных здесь и теперь двигательных актов. Но поскольку события такого рода никогда не прерываются, образуя собой преемственную череду, одушевленная реальность постоянно регенерирующего мира собственных возможностей, окружающего каждую животную особь на протяжении всей ее жизни, будет отличаться также динамической устойчивостью во времени и обладать соответственно вполне определенной и постоянно к тому же возобновляемой пространственно-временной морфологией. Последняя, будучи хронотопической по самой своей сути, с необходимостью предполагает:
– выраженный структурный центр, имеющий место в точке пересечения (интеграции и координации) возможностей, воплощающих результат прошлых перемещений;
– ближнюю периферию так называемого (в среде этологов) «эгоцентричного пузыря»[13], в котором наличествующие здесь и сейчас возможности по преимуществу актуализируются;
– и дальнюю периферию отложенных, будущих возможностей, связанных с предыдущими посредством потенциальной локомоции.
Из всего вышесказанного следует, что наша общая с животными телесная самость, формирующаяся на двигательно-перцептивном уровне, не есть некая идеальная субстанциональная данность, изначально противостоящая объективному миру материальных предметов и наделенная способностью удваивать его подобно зеркалу, порождая при этом квазипредметную образную реальность. Нельзя, как мне думается, видеть в ней и статичный, конечный результат становления этой отражающей способности. Скорее, конституирование обособленной и строго локализованной самости в ее конкретном на каждый момент времени состоянии следовало бы рассматривать одним из моментов непрерывно текущего процесса структуризации одушевленной реальности, чья центростремительная хронотопическая морфология, обязанная своим возникновением функциональной проприоцепции, всей своей сутью уже изначально предполагает эту самую телесную самость в качестве абсолютно необходимой для развертывания двигательной активности животного точки отсчета.
Иными словами, постоянно регенерирующая, сама себе наследующая и благодаря проприоцепции самоощущающая себя самость, отвечающая в конечном счете за инерционность всего этого непрерывно текущего процесса, имеет место быть лишь постольку, поскольку предметный мир, постоянно, в каждый отдельный момент времени, предоставляя отдельной особи конкретные возможности для развертывания той или иной двигательной активности и таким образом постоянно же трансформируясь для нее в окружающий, непрерывно задает и определяет ее место в нем – в его каждом дейктическом здесь-и-сейчас.
Если согласиться с предложенным выше ходом рассуждений, неизбежным становится вывод о том, что в отличие от принципиально децентрированного мира косных материальных объектов, который уже по определению – поскольку это мир именно без нас, т. е. мир, не одушевленный и не осмысленный нашим собственным присутствием в нем, – доступен нам исключительно лишь в категориальном его представлении, лишь с помощью того или иного искусственного языка умозрящей науки, эго-центричный мир подлежащих согласованию возможностей, напротив, спонтанно начинает значить для нас еще до всякого языкового его представления и тем более категориального. Более того, можно, по-видимому, настаивать на том, что само языковое представление этого мира возможностей должно протекать у нас отнюдь не безотносительно к его одушевленной природе. По крайней мере присущая ему хронотопическая морфология, влекущая безусловную инвариантность его временных и пространственных параметров, уж точно находит свое прямое продолжение в том хорошо известном языковедам языковом факте, что многие слова, принадлежащие сфере пространственной ориентации, будучи неоднозначны по своей семантике, принадлежат одновременно и сфере временной ориентации.
Как бы то ни было, но одушевленная реальность значений-возможностей, соответствующая нашей родовой, животной самости, конституируется без посредства каких бы то ни было языковых знаков. И тот факт, что эта не означенная ими реальность практически никогда не является человеку в интроспекции, вовсе не отменяет ее и не делает ее неактуальной для нас. Ведь в течение всей нашей жизни мы, как и любое другое животное существо, продолжаем совершать, к примеру, множество локомоторных актов, настоятельно требующих от нас постоянной координации – и притом на доречевом уровне – своих телесно-двигательных возможностей с возможностями, предоставляемыми предметно-событийным миром. И хотя иной раз нам и случается выпадать из него (положим, в состоянии глубокого опьянения или столь же глубокого западения в себя по поводу целиком захватившей нас мысли) и даже удается пережить эту потенциально опасную для жизни ситуацию без сколько-нибудь ощутимых, как правило, потерь, тем не менее не может быть никаких сомнений в том, что подобная координация остается необходимым и непременным условием нашего человеческого бытия[14].
Именно остается, поскольку в жизни каждого из нас был период, когда мы еще не владели словом и наша самость могла реализовываться лишь на уровне родовой. Появившись на белый свет, мы вовсе не стремились с лихорадочной поспешностью неофита к объективному отражению мира. Напротив, сама телесная наша самость только начинала постепенно конституироваться с этого момента и начинала по мере того, как мир, в который мы противно нашей воле насильно выталкивались из материнской утробы, превращался для нас в окружающий мир, со всеми присущими ему структурообразующими, центростремительными интенциями. Феноменологически этот начальный этап становления нашей обособленной от матери телесной самости как раз и выражался в овладении двигательными возможностями собственного тела в их непосредственной соотнесенности и согласованности с возможностями новой внеутробной среды.
И вот здесь-то, прежде чем предпринять следующий шаг в наших рассуждениях, самое время остановиться и задаться таким вопросом – а какую же это внеутробную среду мы, собственно говоря, застаем, которая только и обладает уникальной потенцией превращаться в мир, окружающий именно человека? Получив ответ на него, мы сможем – по крайней мере я на это рассчитываю – более или менее четко обозначить ту искомую нами грань, которая уже на уровне двигательной активности и еще до всякого слова принципиально отделяет человеческое существо от животного, несмотря на все отмеченное выше морфологическое сходство окружающих их телесную самость миров.
10
Абстракция однородного и изотропного физического пространства есть необходимый коррелят исчисляюще-измеряющего субъекта, графически представимого в виде декартовой системы координат. И однородность, и изотропность фиксируют в данном случае условия осмысленного «экзистирования» подобного субъекта. Ведь оба эти признака, по сути дела, означают для него, что операция измерения возможна в любой без исключения точке, а сопоставление полученных в ходе измерений результатов имеет, безусловно, смысл.
11
См.: Бернштейн Н.А. Физиология движений и активность. М., 1990. С. 35.
12
О теле как исходной «системе координатных осей, которую мы носим всегда с собой» и в которой развертывается у нас процесс локализации внешних предметов, писал в свое время А. Пуанкаре (см.: Пуанкаре А. О науке. М., 1990. С. 245). Примечательно, что математик (правда, математик, по общему признанию математиков, выдающийся), задавшись вопросом о генезисе геометрического представления пространства и проясняя в связи с этим психологическую сторону процесса локализации, категорически настаивал на безусловном наличии в нем не только визуальной составляющей, но еще и двигательно-моторной и причем в качестве ведущей: «Локализовать предмет значит просто представить себе те движения, которые нужно было бы сделать, чтобы достигнуть его; объяснюсь подробнее: дело не в том, чтобы представлять себе самые движения в пространстве, но только те мускульные ощущения, которыми сопровождаются эти движения и которые не предполагают предсуществования пространства» (там же, с. 246). Остается только добавить, что, говоря в данном случае о подлежащих представлению мускульных ощущениях, А. Пуанкаре, в сущности, имел в виду то, что Р. Варен впоследствии назвал эголокомоцией (Warren R. The perception of ego motion // Journal of Experimental Psychology. Human Perception and Performance. 1976, № 2).
13
Именно так Дж. Голд называет личностное пространство, границы которого постоянно перемещаются вместе с животным (Голд Дж. Психология и география. Основы поведенческой географии. М., 1990).
14
Кстати сказать, нарушение у пьяного спонтанной координации движений нередко сопровождается (по крайней мере до тех пор, пока человеческая особь еще в состоянии ворочать своим языком) попытками взять ситуацию под контроль именно за счет слова – за счет отдаваемых себе команд, словесного (часто нецензурного) комментирования их исполнения и т. п. Показательно, однако, что этот вроде бы чисто человеческий компенсаторный ход оказывается на практике не больно продуктивным, нередко оборачиваясь весьма неприятной для особи, безуспешно пытающейся подтвердить свой двуногий статус, «асфальтовой болезнью».