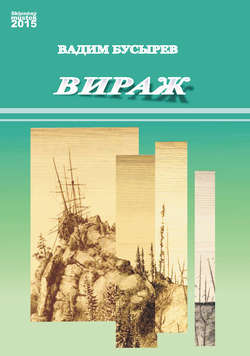Читать книгу Вираж (сборник) - Вадим Бусырев - Страница 3
2. Мелодрама
Оглавление«Хлеба и зрелищ!» – какие-то, в Древнем Риме что ли, массы людские настоятельно требовали у своих правителей. Жестко, видать, требовали, раз до нас их лозунг дошёл. И отклик в душах наших имеет повсеместный. И разрастается он, и ширится. (Потому, что «ширяются»?)
Требовали они у тех, у своих же, что над ними властвовали в тот исторический момент. Которым они позволили делать это. Править ими.
Значит: Мы – Люди – сперва из рядов своих выдвигаем, прямо скажем, Царей, а потом желаем, чтоб они нам обеспечивали еду и развлечения.
А ежели они нам это предоставить не в состоянии (плевать по какой причине) – начинаем бороться за их свержение. Неминуемое. Варианты тут – самые разные.
Суть – одна. Это идёт он – процесс нашей человеческой эволюции. Исторический процесс движения Земной нашей цивилизации.
Вопрос первый: «куда?»
А всё на планете нашей состоит из двух частей. Двух взаимных противоположностей. Свет – тьма, тепло – холод, плюс – минус… (С добром и злом, подозреваю я, всё несколько сложнее).
Поэтому и вопросов два. И вторым будет вопрос: «как долго?».
То есть: куда же это Мы идём и сколько будем ещё это делать?
Несогласные с такой постановкой есть? Можете высказываться, если захочется. И везде, где пожелаете. Если денег хватит. «Капусты», то есть.
Продолжим.
Цари – правят. Руководят. Так думают все. И сами Цари и все остальные На самом деле это, конечно же, заблуждение.
Править они, какое-то время, правят. Все по-разному. В силу своих личных возможностей. По мере личной испорченности. Благодаря ей и только ей одной. Ни один трон никого ещё лучше не делал.
А руководить нами всеми? Это нельзя. Это уж – дудки. Мы всегда делали и будем делать лишь то, что желаем. Что захочет, в данный момент исторический – большинство изо всех нас. Сами о том, не подозревая.
Ну, а постоянно, потихонечку, в первую очередь распределяемся мы на два основных лагеря: кому хлеб растить, а кому зрелища представлять. И кто из нас где окажется – загадочно и непостижимо.
Потому как: и туда, и туда (и пахать, и паясничать) попадают с разными способностями и без них. Уж, не говоря про желания.
И почему кому-то судьба отваливает вдруг целый талант – вообще тайна неимоверная. А про «гены» лучше помолчать. Сплошь и рядом-наоборот.
Вот взять наш класс в школе на Чайковской улице.
Сперва был вообще целиком класс мужской. То есть вся школа. А на следующий год попали мы под реформу, для нас в жизни – первую. Объединили школы. Мальчиковые и девочковые. Сейчас только становится ясно – дуновение тлетворное Запада. Можно сказать: первый шаг неосознанный к теперешней продвинутой конкретной демократии. «В натуре».
Тогда мы, ясно дело, этого не сознавали. Ни сном, ни духом.
И помню точно: на «поступление» к нам девочек – не реагировали никак.
Только классы забиты стали под завязку. А если глядеть на это, как на вливание свежей крови, на добавление новых «генов» что ли – то ни фига не получилось. Не отмечалось заметного культурного сдвига.
К точным наукам беззаветной любви никто не проявил. Физиков полоумных в своих рядах мы не взрастили. А «лириков», служителей искусств, богемы, зрелищ…?
Рядовой мы были школой. Рядом с улицей Воинова, к Смольному ведущей.
– А сейчас Яша Шафран из четвёртого «Г» класса. – Наша «классная» Софья вела школьный утренник. Не помню, уж чему посвещённый.
– Яша сыграет нам на скрипке. «Полёт шмеля», да – Яша. А ты, Фёдоров не строй рожи-то. Мы знаем все, что ты любишь-то. Покажешь нам потом. Дойдёт и до тебя очередь.
Софья выпустила на сцену нашу крохотную, живого как ртуть, чернявенького Яшку.
Шафранчик места себе не находил. Вылетел со скрипкой и смычком уже наизготовку. Так и хотелось сказать: «к стрельбе готовыми». Яша к музыке и к скрипке относился – терпимо. А любил самозабвенно – рогатку. Играл очень бойко, без запинок, нам нравилось. Стрелять из рогатки у Якова получалось тоже весьма прилично.
«Полёт» он пропиликал кажется быстрее, чем по радио слышать нам доводилось. Мы аплодировали, не скупились. Скрипка Шафранчика тоски на нас не нагоняла. Не то, что порой из репродуктора.
– Поаплодировали Яше, поаплодировали, – Софьюшка очень к скрипкам неравнодушно дышала, – ты у нас очень способный, только неусидчивый. А в консерваторию таких не берут, – это во след она «лауреату» нашему. Которого след этот самый уже и простыл.
– А вот и Валерик Лядов. На пианино он у нас учится. Хорошо учится.
Старается. Что ты нам сыграешь? – вопрошала Софья Григоьевна у Ляды. Он стоял насупленный. Он из нашего класса был. Из четвёртого «Б».
Мы его понимали. Даже особенно и не дразнили Ляду. Когда шел он с огромной чёрной нотной папкой в музыкальную школу. Брёл натуральным образом. Как на каторгу.
– Я, это…, «пупури»
Так вот – как Валерка решил нас порадовать. Тех, кто не обречён был папку с нотами проклятыми таскать.
– А, из кого будешь, Валерик, «пурпурри» играть? – уточнить решила Софья. Чтоб нас лишний раз просветить культурно.
Ляда подумал и туманно-снисходительно пояснил:
– Пупури классическое. Из опусов форте… пьяных.
Ванька наш, Фёдоров, радовался искренне и безгранично. За музыку вообще, за утренник, за Ляду, за всех нас, за то, что скоро ему тоже предстояло играть на своём любимом инструменте – гармошке. Он кричал и все мы за ним тоже:
– Да, давай, опусов, давай, пьяных!
Ляда застучал по клавишам пианины бойчей обычного, получилось в этот раз не из-под палки. С налётом энтузиазма.
Софьюшка отпустила Ляду с некоторым сожалением и опаской.
Настало ей основное испытанье. На сцену выкатил радостный Ванюшка. На стул уселся, гармонь готов был растянуть во всю ширь, не теряя зря времени. «Классная» ладонью меха разухабистые трёхрядные попридержала.
– И чем же нас порадуешь, гармонист ты наш? – и радуясь Федоровскому предстоящему номеру музыкальному, и побаиваясь его, вопросила Софьюшка.
– Тоже могу! – вдохновенно обьявил Иван. – Разные фантазии.
И тут же начал безудержно на самом деле, как бы теперь сказали, импровизировать. Тогда мы такого слова ещё не знали.
Фантазии Ванюшкины обгоняли его технические навыки. Он ведь в школу музыкальную не ходил. Дома, сам, в крохотной комнатушке то ли на батькиной, то ли дедовой гармошке упражнялся. Для души. Бабку старую тем то ли доводил, то ли радовал.
Нас он, ясное дело, не расстроил.
– А, серьёзную музыку ты можешь нам сыграть? – необдуманно понадеялась Софьюшка.
– А-а, как же! – самодовольно заявил Ванёк и тут же по залу нашему школьному поплыла жалостливая, сверхмодная в ту пору, из индусского капуровского кинофильма:
«Абара-я-а! Бродяга я, а-а-а!
Никто нигде не ждёт меня а-а-а!»
Иван только, что не запел её. Да и не требовалось этого. Запели, кажется, её мы. Она тогда из каждой подворотни звучала.
Утренник наш двигался радостно и незамысловато.
Спонсоров для этого (Удивительно, да?) не требовалось.
У Ляды оба родителя в экспедициях подолгу работали. От него я впервые услышал, кажется, слово это. Что такая профессия существует на белом свете: в экспедиции уходить. Ничего в жизни не проходит бесследно.
Сыграло потом оно, это слово, со мной роль свою важную.
И родители «лядовы» сына в музыкальную школу определили. Помимо обычной нашей на «Чайкиной» улице. Это, чтоб он меньше по улицам без присмотра шлялся. И пианино дома, чтоб не простаивало без дела. Не ржавело почём зря. Соседка по квартире следила по мере сил и сознательности за музыкальным приобщением Валерки.
А гармониста нашего Ванюшку, не могли в самой школе музыки не заметить. В силу таланта его самобытного. Приходили тогда, бывало, на уроки соответствующие «спецы» разные. К нам прислушивались, приглядывались.
Заботливо приняли в слои ряды паренька с «трёхрядкою». Но по другому профилю. По – ударному. И дали инструмент – ксилофон!
Мы раньше о таком и не слыхивали. Поражены были чрезвычайно.
Лично я – так до сих пор изумляюсь. Особенно не могу такого вообразить для нынешних времён лихолетних. Зато слова появляются «лихие». Вроде – «кастинга». Хотя самим фемидовым служителям похоже нравится.
«Как бы, конкретно».
Ну, да не мне судить.
Попробую об этом поведать далее…
И спросил меня тогда дружок школьный Деник:
– Тебя-то чего ж родители в музыку не отдали? Совсем нет слуха что ли?
А мне самому и обидно было, и радовался внутри, что на каторгу с каким-нибудь роялем за спиной ходить не надо.
– Из-за меня предки ссорятся, – горделиво так ответил я Деннику.
– Отец в Суворовское мечтает отдать, – это я естественно про себя.
– А мать? – тоже естественно поинтересовался друг мой.
Про маманьку свою, про её желание, сказать я не мог. Не только Денику, но и никому другому. В те времена-то…
Я и сам точно не знал – догадывался, лишь. Тайком, краем уха.
Хотелось бы мамке увидеть меня в семинарии. Ни хрена себе, да?
Уж, много-много позже узнал я, что кто – то в роду нашем сутану носил. Но что б тогда? Я?
И так ответил другу на вопрос для меня насущный. Вскользь, а позже сам назвал бы это «по-еврейски»:
– А ты сильно хотел бы сам-то ходить строем? В фураге суворовской?
Про семинарию, ясно дело, «затемнил» я. Как выразиться можно сейчас:
«Боже упаси» было мне тогда об этом обмолвиться.
И никому в этом не признавался никогда. Вот только сейчас Вам. Открылся.
По истечению стольких лет всяческих событий. Эпохальных.
А под конец того года учебного сверкнул в школьной жизни неожиданно яркий момент. Можно сказать – ослепительный. Лучезарный.
– Куда бежишь? Смотри, не споткнись, – за рукав формы школьной ухватил я Деника, подножку не успел подставить, в виде дружеского внимания.
– Идём…, бежим…, не успеем…, – задыхаясь, запинаясь, тащил меня за собой Денисов. – Там! Там в зале в этот…, в театр берут!
Мы еле-еле успели.
Серьёзный такой дяденька, в очках, ещё совсем даже и не старый, а напротив почти очень молодой, набирал из нас – «труппу».
Позже мы узнали и осознали это более, чем странное слово. А сперва просто было: многим хотелось «попасть в театр». Кто прознал об этом случаем. Как Денник. И я – за ним уцепившийся.
На сцене глупо выглядем Сёмка из восьмого. Стих какой-то читал.
Что-то про штаны. И про паспорт, что ли. Народу было – средне. Но никто, правда, не смеялся. Хотя была возможность. Сёмка уже тогда был толстоват. Потом в театре играл матроса. В тельняшке и с ружьём. Стих его, видать, понравился. Очкастому.
До нас с Деником очередь в конце самом дошла. Вернее не дошла вовсе. Нас он глядеть и слушать не собирался. Он с шестого класса брал. А у нас на сцене лампа переносная только одна была. Деник, хитрюга такая, сунулся помогать. С лампой, с этой. Таскать, подсвечивать.
Вот – он уже и в театре! Осветителем.
А мне в конце уж почему-то (как прибежавшему с осветителем, что ли?) режиссёр-очкарик благодушно разрешил:
– Ну, давай, курносенький, прочти нам стишок какой.
А я-то? Ни сном, ни духом ведь не готовился. На такой «кастинг».
Да ещё под самый занавес.
Отец мне говорил как-то:
«Не знаешь, как ответить? Если спрашивают что-то серьёзное. Только не молчи. Главное-говори! Что угодно говори, но не тушуйся. Не показывай, что застали тебя врасплох».
Не раз потом в жизни меня это, без трёпа скажу, спасало. Так это – уж когда было! В институте, армии, в море.
А тут: пятый класс, школьная сцена…
В голове вроде завихрилось:
«Буря мглою небо кроет…»
А дальше, а дальше замело всё ею. А молчать – нельзя! И «труппа» набрана, и «осветители».
Бабушку вспомнил. Полю. Почему?
«Жили у бабуси —
Два весёлых гуся…»
А это я уже рассказываю. Прикрыв глаза и руки растопырив:
«А гусак, ох, здоровущий гусачище, меня всё норовил за ногу тяпнуть, а гусёнки, не гляди, маленькие, ему помогали, убежать не давали, а вы не смейтесь, не смейтесь, я сперва тоже смеялся, от него уворачивался, да и доуварачивался – на одного гусёнка-то и наступил, уж, как бабка меня ругала-то, как ругала: «ох, убил меня, оголец, ох, убил», а сама плакала, а я за нею…».
– Ладно. Хватит. Насмешил «два весёлых гуся», понимаешь…, м-ым.
Попробуем. Есть у меня один водевильчик. Как раз для Мариночки.
С этими словами «режиссёра» нашего – для меня тогда непонятными – стал я последним членом театрального самодеятельного коллектива. Школьного театрика нашего с «Чайкиной» улицы.
Маринка была на год меня старше. Белобрысенькая худенькая шестиклассница. Очень смешливая и общительная. Вообще-то, Машкой её звали. Из породы нынешних «блондинок». Режиссёр, «Станиславский» наш, взял её, а роли ещё не придумал. Тут я подвернулся. И наметился у нас с Машкой (в голове его «очкастой», то есть), сценический дуэт.
Я – по ходу водевиля – клей вроде бы придумал. Как теперь говорят поголовно: «реальный» клей. И всю посуду дома бью. Бью и клею. А Маринка (по ходу спектакля сестра моя младшая – Люська) мне эту посуду всё подтаскивает и подтаскивает. Уж не помню в чем там соль вся, но публика нас принимала: «будте-нате». Хохотали все, не вру. Не сравнить с толстым Сёмкой и его братиками-матросиками.
Сейчас мнится мне по прошествии, что были мы прообразам нынешнего «Ералаша». Во загнул, да? Но, что поделаешь? Как говаривал потом дружок мой один в море: «Сам себя не похвалишь – сидишь, как…»
И было ведь у «Станиславского» нашего чутьё. Не отнимешь.
И ездили мы на гастроли. По всему нашему району Дзержинскому. И за город ездили. В Петергоф, в Стрельну…
Пару раз нам даже гонорар платили. По рублю и по полтора. Это было потрясающе. Можно было мороженым обожраться.
А сколько я посуды из дома перетаскал? Мать всё это терпела. Как же!
Сынок в артисты выходит.
И лето прошло. И следующий год начался учебный. И должны мы были давать представление в школе на улице Пестеля. Около собора Преображенского. В храме этом крестила меня бабушка Поля. Тайком от родителей.
В школьном спортивном зале спектакль наш проходил. В раздевалках мы К нему готовились. Заглянул я зачем-то в женскую раздевалку. Там наших сидело несколько, Актёров, так сказать. Трепались. Старшеклассники курили.
И… Моя партёрша. Маринка. Сидела. Почти в обнимку. И с кем? С толстым «матросом». С Сём-ко-ой! И – курила.
Всё. Всё – рухнуло. Для меня, по крайней мере.
Как сыграли тогда, сколько времени я ещё на подмостках кантовался – убей меня Бог – не помню. С театром мы разошлись. Навсегда.
Хорошо это было или плохо? Для меня (не для театра же) я по сю пору не знаю. Порой сожалею. Но это, пожалуй, как вообще о минувшем. Иногда радуюсь. Знаю, что придуриваться я мастак. Но, видимо, не более того.
А ведь, чтоб вырваться из общих рядов «подтанцовки», этого совсем недостаточно. А что ещё надо?
Кроме «искры Божьей»?