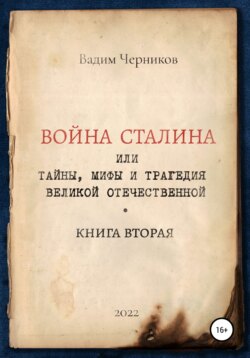Читать книгу Война Сталина, или Тайны, мифы и трагедия Великой Отечественной. Книга вторая - Вадим Валерьевич Черников - Страница 4
Часть четвёртая. От плана до миссии
Глава четвёртая
ОглавлениеО начале катастрофы Красной армии. Про гибель авиации и самоубийственные атаки мехкорпусов. О том, как советская танковая армада «сгорела» в первые две недели войны. О «Бродском треугольнике». О спектакле для одного актёра. Про Сталина и «ближний круг». О том, как Сталин сценарий из «Ивана Грозного» украл. Про то, как Сталин придумал сразу два мифа: о блицкриге и о его провале. Как «бояре» на верность «царю» присягали. О том, как Сталин произвёл военный переворот и стал полновластный хозяином страны и армии. Как «Молотов и K°» избежали смерти и про то, как армию виноватой назначили.
А вот на деле всё очень плохо. В первый же дни на всех приграничных фронтах начинается страшная, но логичная катастрофа Красной армии. Об этом подробно сказано и написано, поэтому обратим внимание на главное. Итак, удар вермахта и союзников был нанесен по всей границе между двух морей. А основной-как и предсказывали полгода назад Мерецков, а ещё раньше Шапошников-вермахт направил как раз на Западный и Северо-Западный фронты. Пока пограничники геройски сражались и погибали на заставах, а дивизии прикрытия границы вступали в бой-кто выдвигаясь из мест постоянной дислокации, а кто и с марша-ударами германской авиации была уничтожена от одной трети до половины советских самолётов на приграничных аэродромах. Ещё одну треть истребили в течение двух-трёх дней в воздушных боях. Таким образом, авиация как род войск в первом войсковом эшелоне практически перестала существовать буквально через несколько дней. Ещё один «не сбитый» Сталиным до войны «испанец»-командующий ВВС Западного фронта, герой Советского Союза генерал-майор Иван Копец 22 июня в последний раз поднимется в небо. Он лично облетит разрушенные аэродромы фронта, на которых остались более полутысячи так и не взлетевших, сожжённых самолётов и в тот же день застрелится в своём кабинете…
Немедленно выявились критические недостатки связи, что явилось одной из главных причин несогласованности действий войск. Поработали над этим как немецкие диверсанты, так и местные, недавно ставшие «советскими» жители западных областей Украины, Белоруссии и прибалтийских стран. Уничтожение самолётов так же привело к полной прострации командования фронтов при оценке обстановки. Удар по «всей границе», как и предполагалось «Барбароссой», сковал силы всех фронтов. При этом Директива № 3 предписывала трём фронтам нанести встречные удары и перейти в стратегическое наступление. По плану Сталина. Он рассчитывал, как мы помним, на механизированные корпуса. Посмотрим, к чему они были готовы…
Немного предыстории. К началу 1939 года в РККА были четыре мехкорпуса, но в ноябре того же года наркомат обороны во главе с Ворошиловым принял решение о расформировании этих частей, исходя из опыта войны в Испании. Новый нарком Тимошенко, опираясь на немецкий опыт уже войны во Франции, принимает решение вновь сформировать мехкорпуса в июле 1940 года уже в количестве восьми. А в феврале-марте 1941 года было принято решении о формировании ещё 21 мехкорпуса. Однако Сталин утвердил их штаты только в апреле. В каждом корпусе должны были состоять: почти тысяча танков-2 танковые и моторизованная дивизия-артиллерия, минометы, зенитные части, броневики, мотоциклетные части, огнеметы и так далее. Естественно, по штату. И ещё более естественно, что подготовка мехкорпусов опоздала. Представьте себе, что нужно укомплектовать подразделения, обучить экипажи танков, согласовать взаимодействие со стрелковыми частями, артиллерией и авиацией. Не говоря уже про учения, которые должны были проходить непрерывно. Конечно же за три-четыре месяца почти никто ничего не успел. К 22-му июня только 4 мехкорпуса завершили формирование, но по штатам сорокового года! Остальные находились не просто в стадии реорганизации, а в катастрофическом, без преувеличения, состоянии.
Крайне низкой была подготовка танковых экипажей. Как тут не вспомнить крылатую фразу-лозунг Сталина, которую кто-то «умный» кастрировал вместе со смыслом до: «Кадры решают всё». На самом же деле в оригинале Сталин говорил: «Кадры, овладевшие техникой, решают всё», а всю страну немедленно оклеили соответствующими плакатами. И, как обычно у большевиков, лозунги делом не подтверждались. На этот раз уже применительно к подготовке танкистов вообще, не говоря уже об экипажах для новых моделей танков: «Т-34» и «КВ-1». А уж о слаженности действий корпусов, а тем более об отработке взаимодействия со стрелковыми частями, авиацией и артиллерией в реальной боевой обстановке и говорить не приходилось. В результате затягивания Сталиным всех необходимых мероприятий, не были обеспечены к 22-му июня танковые части даже боеприпасами и горючим. Естественно, всё это непотребство немедленно дало о себе знать. Один из стандартных докладов по средним танкам начальника автобронетанкового отдела Северо-Западного фронта от 8 июля 1941: «С началом войны вышло в поход 333 штуки. Потеряно от огня противника 144. По технической неисправности 122 шт. Состоит в наличии 58 штук. Из них исправные 2 штуки». Что же касается тяжелых КВ-1, то вот доклад бригадного комиссара Юго-Западного фронта, также от 8 июля: «Исключительно велики потери танков КВ. Потери объясняются плохой подготовкой экипажей, низким знанием материальной части. Были случаи, когда экипажи не могли устранить неполадки и подрывали их».
Однако это общие недостатки, но всё-таки мехкорпуса, пусть разной укомплектованности и готовности, но были в наличии и, при грамотном их использовании, они могли достаточно успешно контратаковать и выполнить если не стратегические, то по крайней мере тактические задачи. Однако сталинская Директива лишила командование округов возможности использовать мехкорпуса по обстановке, а направила их в безнадёжный прорыв. Итак, согласно Директиве № 3, командующие фронтами отдали приказы о контратаках мехкорпусами и уже с 23 июня пошли «машины в яростный поход». Не взирая на то, что некоторым мехкорпусам пришлось выдвигаться из мест постоянной дислокации и пройти сотни (!) километров маршем, с этих самых маршей тысячи танков ринулись в бой…
Мы уже приводили пример такого неудачного удара Западного фронта, о котором говорил маршал Ерёменко в своих воспоминаниях. Вот ещё один, уже «ударного» Юго-Западного фронта, говорящий о том, как Директива № 3 не согласовывалась с реальной обстановкой, о чём говорили и Жуков и командующие западными округами. И как нарушался главный принцип танковой войны: нанесение ударов только после полного сосредоточения и развёртывания всех частей танкового соединения, которое является условием успеха, так как удар будет в этом случае действительно мощным. Однако, как мы уже не раз писали, как раз эти мероприятия Сталин провести не дал. Командиры пытались сделать это уже в ходе войны. Так, могучий 8-й мехкорпус, по приказу своего командира генерала Дмитрия Рябышева, ждал подхода всех дивизий для нанесения мощного удара, но… На командный пункт прибывает Член Военного совета Юго-Западного фронта, полковой комиссар Николай Вашугин. Да не один, а с военным прокурором, с комендантским взводом и приказом-угрозой: «Если не начнёшь атаку немедленно, расстреляю под этой самой сосной!» Рябышев отдал приказ и в бой ринулась лишь одна танковая дивизия, а остальные направлялись в атаку по мере прибытия, в течение нескольких суток. Гальдер заранее оставляет в своём дневнике пророческую запись: «В полосе группы армий «Юг» 8-й русский танковый корпус наступает от Броды на Дубно в тыл нашим 11-й и 16-й танковым дивизиям. Надо надеяться, что тем самым он идет навстречу своей гибели». К сожалению, так и случилось. Итог: сотни подбитых танков в первые же дни, невыполнение боевой задачи и выход частей корпуса из окружения практически без техники. Ещё одним итогом стало самоубийство ретивого Вашугина 28 июня, когда выяснилась вся правда о разгроме. Не совесть заела комиссара, а страх, ведь свидетелями безобразной сцены были десятки офицеров… Генерал-лейтенант Рябышев же, проживший 100 лет, прошёл всю войну, воевал и успешно, и не очень, а представление к Герою ему в итоге заменили на награждение орденом Ленина.
Итак, никаких «широких наступательных действий», разгрома и уничтожения противника-не говоря уже о прорыве на польскую территорию-не могло произойти в принципе. И не произошло. Заранее невыполнимая сталинская Директива № 3 и на деле выполнена не была. Мехкорпуса фронтов нанесли поспешные контратакующие удары и сгорели в них в первые неделю-две, а остатки их вскоре превратились в обычные стрелковые дивизии по причине… отсутствия техники. Вот лишь один пример печально знаменитой атаки самой мощной танковой группировки того самого «ударного» Юго-Западного фронта. 23–30 июня в т. н. «Бродском треугольнике» – Броды-Луцк-Дубно-были разгромлены пять полностью и один частично мехкорпусов РККА. 8-й, 9-й, 15-й, 19-й и 22-й мехкорпуса, имевшие 2803 танка, прикрывал самый мощный 4-й МК с 892 боевыми машинами, из которых в наличии было танков КВ-1-89 шт. и Т-34 – 327 шт. Примерно 3,5 тыс. танков! Мощь, конечно, хотя если исходить из штатного расписания, то каждый корпус должен был иметь по тысяче танков. Здесь же-чуть больше половины. В 9-м мехкорпусе Рокоссовского, к примеру, было всего 300 танков и все лёгкие. Им противостояли танковые и пехотные дивизии вермахта, в которых было всего 800 танков. Итог боёв: 2,5–3 тысячи наших танков были потеряны. От 70 до 94 %. Немцы потеряли 186 танков. Причины: недостаток бронебойных снарядов, отсутствие авиационной и артиллерийской поддержки, несогласованность действий… И так везде, на всех фронтах. Лишь на Южном фронте удалось остановить атаки румынских частей, однако ненадолго.
Безусловно, непрерывные контратаки мехкорпусов затормозили, а где и остановили, и даже обратили в бегство немецкие части, однако главной цели они не достигли. Растеряв преимущество первого удара, не поддержанные авиацией, артиллерией и пехотой мехкорпуса наносили мощные, но бесполезные в стратегическом отношении удары. Немедленно сказалось недостатки: отсутствие запасов топлива и боеприпасов, преимущественно старые модели танков, непрерывные поломки техники, отсутствие средств к ремонту и слабая подготовка экипажей. Потеря авиации нанесла решающий удар по танковой армаде РККА и она просто перестала существовать. Через месяц после начала войны от 20 тысяч танков осталось менее 30 %. Около 5 тысяч боевых машин.
Мы уже говорили о том, что вермахт обманулся в оценке силы Красной армии, и в первую очередь в количестве и качестве советских танков. Однако если имела место «цифровая» недооценка, то стратегически вермахт действовал умело. Вполне себе представляли в Генштабе вермахта о том, что танков у РККА не мало, знали они и о том, что возможны контрудары советских мехкорпусов. Ещё 6 июня Гальдер оставил запись: «Тактика русских танковых войск. Использование небольших подразделений (для контрударов и контратак) и массированное использование. (Новость!) Выдвинуть вперед противотанковую артиллерию (возможно, даже из дивизий, расположенных в тылу)». Кроме всего прочего, передовые немецкие части были заранее вооружены бутылками с горючей смесью, которыми они сожгли сотни наших боевых машин. Тем самым «коктейлем Молотова», хотя это очередная подмена понятий и правильнее было бы его назвать «коктейлем Гальдера». Не говоря уже о том, что глухие, но упорные слухи, появившиеся в последнее время, обнаруживают в Генштабе РККА глубоко законспирированного агента – «крота», передавшего много ценных сведений в предвоенный период. Доказательства, правда, скудные или, наоборот, хорошо засекреченные, но полностью исключать этого факта нельзя. Однако это предположения, а вот фактом является то, что постепенный-и по частям-ввод мехкорпусов в бой из мест постоянной дислокации немедленно замечался немецкой авиацией и к встрече с ними немцы были готовы заранее. Нередко мехкорпуса несли серьёзные потери от той же авиации ещё даже не вступив в бой.
При этом немцы немедленно ощутили на себе упорство и героизм наших солдат. Что не помешало им профессионально оценить, как состояние, так и действия РККА в этот период как «посредственное». К сожалению, спорить с этим трудно, учитывая и то самое мирное благоденствие, царившее в войсках под приказом: «не провоцировать». А ведь в спорте есть хорошее выражение: «Порядок бьёт класс». Оно означает, что средняя по мастерству, но организованная, подготовленная, дисциплинированная и выполняющая установки тренера команда-футбольная, хоккейная и так далее-нередко играет на равных, а порой и одерживает верх над более классной, талантливой и мастеровитой, имеющей в своём составе настоящих «звёздных» игроков. К этому можно добавить: «не умеешь играть-бегай». В смысле, бери не мастерством, а физической подготовкой. Немецкая армия, безусловно, была самой «классной» в то время. Однако это не означает, что она добилась бы серьёзного успеха-не говоря уже о таком разгроме-если бы в Красной армии были элементарный порядок, организация и подготовка. К сожалению, и пресловутый порядок был тоже на стороне германской армии, а Директива № 3 буквально лишила РККА всех шансов на успех в приграничных сражениях.
Возникает вопрос: а какой же орган вообще руководит действиями фронтов РККА в первые дни войны, ведь практически весь Генштаб разогнан Сталиным, а его офицеры направлены на фронты? 23 июня постановлением Совета Народных Комиссаров и Верховного Совета СССР № 825 был создан «Чрезвычайный орган военного управления для стратегического руководства вооружёнными силами СССР в ходе войны»-Ставка Главного командования. В неё вошли: Сталин и Молотов, Жуков и Тимошенко, Ворошилов и Будённый, а также Нарком флота Кузнецов. Председателем же её стал… Тот, кто назовёт Сталина, видимо, не читал предыдущих глав. Потому что Сталин был-пока что-лишь «скромным» членом Ставки, а председателем её назначили Тимошенко. Кто его назначил, тоже не секрет. Сталин. Потому что ещё не время, ведь приграничные сражения могут пойти не по успешному, а по иному, плохому сценарию и Сталину совершенно не хочется нести за это ответственность. Он, как всегда, «просчитан» до мелочей… При этом Сталин, по воспоминаниям адмирала Кузнецова, вообще в первые дни на заседаниях Ставки под председательством Тимошенко не появлялся, нивелируя таким образом её значимость и по-прежнему уходя от любой ответственности. Кузнецов добавляет: «Функции каждого были неясны – положения о Ставке не существовало. Люди, входившие в её состав, совсем и не собирались подчиняться наркому обороны. Они требовали от него докладов, информации, даже отчёта о его действиях. С. К. Тимошенко и Г. К. Жуков докладывали о положении на сухопутных фронтах…» Комментарии излишни.
В то же время в Кремле в первые дни Тимошенко и Жуков, вернувшийся 26 июня с Юго-Западного фронта, часами просиживали в приемной Сталина, ожидая аудиенции. Обстановка на тех самых фронтах менялась каждую минуту, но Сталин никуда не торопился. Когда их наконец принимали, приходили уже новые неутешительные доклады. И так каждый час и каждый день. Впрочем, сколько верёвочке не виться… а петелька-петля уже свивается и к концу июня катастрофа принимает зримые очертания. Которые Сталин начинает видеть. И это, кроме всего прочего, очень недобрый знак для него лично. Однако он готов и к такому ходу событий и запускает очередную хорошо-и давно-продуманную акцию. Пока солдаты и офицеры героически стоят насмерть, «вождь» решает заняться вопросом концентрации всей власти в своих руках. Самое время, правда? Не войной же заниматься лидеру державы…
Итак, пока всё шло «по плану» и, «гремя огнём» шли машины, Сталин оставался хмурым, но спокойным. Однако после того, как стали понятными примерные масштабы катастрофы приграничных сражений, тучи над вождём стали сгущаться. Его план ответного блицкрига так же молниеносно-а иного было и не дано! – провалился и, вместо успешного широкого наступления, привёл к глобальному разгрому приграничной группировки РККА. И тут Сталина в первую-впрочем, как и всегда-очередь тревожил вопрос личной власти. После многочисленных и прилюдных признаний в «обмане Гитлером» и последовавшим за этим разгромом армии в приграничных сражениях, авторитет Сталина несомненно пошатнулся. Его нужно было срочно восстанавливать, укреплять свою личную власть и «брать» её всю без остатка уже в новых условиях.
Однако Сталин предвидел возможность негативного хода начального этапа войны и был к этому готов. У него был загодя подготовлен план и на этот случай. План на сей раз был рассчитан на «ближний круг» соратников, которые прекрасно знали, кто до последнего тормозил подготовку страны и армии к войне и кто отдал приказ наступать уже 22 июня. Однако эти их мысли Сталин легко «считывал». И готовил для них небольшую авторскую трагедию. На сей раз задача перед ним стояла непростая. Скажем, «три в одном». Во-первых, снять ответственность с себя не только за само нападение, но уже и за военный провал первой военной недели. Второе: одновременно найти виновников и того и другого. И третий: окончательно захватить всю власть. Другими словами, Сталин готовит уже второй за неполных два месяца государственный переворот. Первый закончился, как мы помним, «мирным», но громким снятием Молотова с поста Председателя СНК в апреле-мае. На этот раз Сталин готовит новый, который можно с полным правом назвать военным переворотом.
Итак, сценариев развития событий у Сталина на этот раз было два и он устраивает спектакль, чтобы выбрать один из них. Занавес открывается и представление начинается… Оставив железное спокойствие и хмурую неторопливость первых военных дней, вождь примерно с 27 июня мрачнел на глазах. Всем стало понятным, что снова «планируются казни». Осталось решить, кого именно казнить. «Ближние», как водится, немедленно организовали для Тимошенко и Жукова, а заодно и для Ворошилова, «вакуум общения» и насторожились. Хотя на самом-то деле сильнее всех насторожился и, возможно, впал в отчаяние… верный друг и соратник Молотов! А он-то с чего, спросим мы? О, очень даже с того! Скоро расскажем. А пока Кремль замер в ожидании. Долго ждать не пришлось. Когда Западный фронт, лишённый танков и авиации, стал рушиться и 28 июня пал Минск, тучи прорвались громом и молниями. Метал их, конечно же, «непогрешимый военный гений и вождь» Сталин.
Итак, вопреки мифам, сорвался Сталин не в первые дни войны, а 29 июня. Естественно «сорвался» Сталин намеренно. Грубо и рассчитано. В этот день он дважды приехал в Генштаб и на второй раз устроил военным разнос. Досталось прежде всего Жукова которого Сталин даже грозился расстрелять, вроде бы найдя того самого крайнего. Жуков об этом пишет обтекаемо, конечно: «29 июня И. В. Сталин дважды приезжал в Наркомат обороны, в Ставку Главного Командования, и оба раза крайне резко реагировал на сложившуюся обстановку на западном стратегическом направлении». Но это всё якобы. Истерики вождя были всегда тонко рассчитаны. Разыграв безобразную сцену в Генштабе, Сталин неожиданно всё бросает и уезжает на дачу. На первый взгляд, решение спонтанное, вызванное чисто человеческим, нервным срывом. Однако это не так. Нервные срывы вождя также всегда были чётко просчитаны. Вот и мы их просчитаем… Ведь Сталин не просто «срывается» и уезжает. Нет, конечно. Перед отъездом он идёт дальше и втягивает весь «узкий круг» руководства страны в орбиту вины. Он заявляет уже партийным деятелям о том, что «Мы»-ну, естественно, не он один, а все-«просрали государство, которое нам Ленин доверил». Таким образом, разделив со всеми ответственность за неудачи первой недели войны, Сталин просто отстраняется от руководства и уезжает «в расстроенных чувствах» на дачу. Якобы в прострации, а на самом деле внимательно-как всегда-наблюдая даже не за запуганными военными, а за «ближним кругом» советских управленцев.
Ах, какой сценарий! Браво-браво! Автора на сцену! Однако он не оригинален, если вспомнить, как Сталин лично выдвинул идею о съёмках фильма «Иван Грозный» примерно за год до войны и лично же редактировал сценарий первой части. Вторая часть-где опричнина дико гуляет, а сам царь превращается в маньяка-Сталину активно не понравилась, и на экраны ее не пустили, попутно прикрыв и третий, заключительный фильм. Первая же часть трилогии как раз и заканчивается неожиданным бегством Ивана Грозного из Белокаменной в Александровскую слободу 3 января 1565 года. Царь только что «раскрыл» боярский заговор, он «отрекается» от престола и таким образом ставит народ и высших сановников-бояр в неудобное положение, надеясь «на выбор народа». На самом же деле, царь действует строго по плану, ведь у него на тот момент нет всей полноты власти. Боярская Дума участвует в принятии многих решений, вплоть до назначения командующих в войсках и это царю мешает. В слободу вскоре начинает стекаться простой люд, умоляя царя вернуться, а затем и мятежные бояре подтягиваются. В результате царь возвращается полновластным хозяином страны, которую он делит на опричнину и земщину и вскоре те самые бояре заплатят своей головой и имуществом. Теперь в его руках неограниченная власть…
Так что в конце июня Сталин действует слово в слово по этому сценарию. Думается, правда, что тогда Иван Четвёртый рисковал больше, а сейчас ход Сталина был беспроигрышным. Ведь народ и не знал об этом «трюке со шляпой», а скорее с «шапкой Мономаха». Оставались одни «бояре», то есть тот самый «ближний круг». В том случае, если соратники попытались бы отодвинуть Сталина от власти, они были бы немедленно арестованы и казнены как шпионы и изменники. Именно на них Сталин и свалил бы всю вину за начало войны и первую её катастрофическую неделю, прибрав всю полноту власти с новыми опричниками. И дело ведь отнюдь не только в первых кандидатах «к стенке» в лице Жукова и Тимошенко. Отнюдь! Угрозы в адрес начальника Генштаба и «Мы» дают ясно понять всем остальным, что и они-«просравшие страну»-тоже под ударом! Кто это «они»? Спросим себя, кто эти кандидаты «к стенке»? И ответим…
Самое время вспомнить, что Сталин ничего не подписывал перед войной, самое время! А также «неожиданный» разнос, который Сталин устроил Молотову в апреле 1941-го, когда сместил его и сам стал Председателем СНК. И тогда станет понятным, что Сталин уже тогда готовил Молотова к будущей роли главного виновника и возможной жертвы. Как? Да очень просто! Пакт о ненападении-не говоря уже про договор «О дружбе»-в 1939 году подписывал Молотов, в Берлин с Гитлером в 1940-м ездил встречаться тоже Молотов. Все эти договорённости пошли прахом, раз Гитлер всё-таки вероломно напал. Тем более что является чистой правдой то, что в 1939 году немецкая армия была слабее Красной, не говоря уже об армиях не разгромленных к тому времени Франции, Польши, Бельгии, Югославии, Норвегии, Греции и далее по списку. Это открыто признавали и генералы вермахта. Вот вам и время для подготовки, предоставленное этим самым Пактом. Кому оно пошло на пользу, если не Германии? И возможный вывод «для прокурора»: что это, если не предательство Молотова, тогдашнего Председателя СНК? Не забудем, кстати, что именно Председатель СНК с ленинских времён считался первым лицом государства, а отнюдь не секретарь партии. Соответственно и ответственность на нём лежит неизмеримо более серьёзная. Идём далее. Пакт с японцами-который мог быть нарушен в ближайшие дни-тоже визировал Молотов. Так что всю деятельность Молотова до мая 1941 года на посту Председателя Правительства-а тем более с его подписями на всех пактах и договорах-легко в любой момент объявить предательством и государственной изменой. Где первым и главным пунктом можно «вписать»-объявить в первую очередь пакт Молотова-Риббентропа преступной ошибкой или того хуже-прямым сговором с врагом. Ведь с Заявлением о начале войны «в нарушение Пакта» 22 июня выступил также Молотов, а не Сталин. Всё предусмотрено…
Можно было припомнить также «дружеский договор» и вот такую цитату Молотова от 31 октября 1939-го: «На смену вражде, всячески подогревавшейся со стороны некоторых европейских держав, пришло сближение и установление дружественных отношений между СССР и Германией. Дальнейшее улучшение этих новых, хороших отношений нашло своё выражение в советско-германском договоре о дружбе и границах…» И прокомментировать её в «Правде», к примеру, так: «Вот такую «дружбу» принёс нам предатель и фашистский шпион-выбирай с какого угодно года-Молотов с Германией, чьи войска сейчас убивают наших мирных жителей, жгут наши деревни и сёла, бомбят наши города…» Не говоря уже о том, что можно было «прозрачно» намекнуть на некие секретные и доверительные протоколы, «которые Молотов подписал в обход партии и правительства с нашим злейшим врагом»… Вполне можно было даже приложить фото с подписями Молотова и Риббентропа под любым протоколом, «замарав» его название. И всё это Сталину, ставшему лишь 7 мая-«потому что именно тогда мы стали подозревать, что Молотов-шпион и сняли его с поста Председателя Совнаркома»-во главе Правительства теперь приходится «разгребать». После этого, «при всенародном презрении и поддержке» Молотова быстро ставят к стенке и дело с концом. Ловко? Конечно, ведь всё по планам…
Вторым «в распыл» и, конечно, «в сговоре с Молотовым» вполне может пойти руководитель разведки Берия. Или по крайней мере начальники ИНО и Разведупра Фитин и Голиков. «Не предупредили», «не убедили», «предали». Выбирай любое обвинение. А «признания», как известно, позже давали все. Про Тимошенко и Жукова мы уже сказали. Им можно вменить всё: от плохой подготовки армии и вплоть до свеженьких директив первых дней войны, которые Сталин готовил и правил, но предусмотрительно не подписывал. Они пойдут «паровозом» всё к тем же расстрелянным не так давно маршалам-шпионам Тухачевскому-Егорову, «в сговоре» всё с теми же молотовыми-бериями. К ним могут присоединиться и Ворошилов с Будённым. Ну и, «по мелочи» разные Микояны-Кагановичи. Он за ценой не постоит!
Хотя есть и другой вариант. Когда тот же Пакт будет окончательно оправдан, «Договор о дружбе» просто забыт навсегда, деятельность Правительства-не говоря уже про партию Ленина-Сталина-будет признана правильной, разведка не тронута, а армия… Армия ответит за всё. Ответит за провал начала войны. Ну то есть ответит народ. Итак, Сталин «сидит» на даче, ожидая того, что решит его «круг». Точнее, что они выберут-смерть или жизнь.
Однако приближённые бояре-чиновники прекрасно изучили повадки Сталина, на эту удочку не попались и в жертвы себя массово приносить отказались. Тем более что Сталин, находясь на даче якобы в той самой «прострации», посылает им серьёзный сигнал: «Вечернее сообщение Совинформбюро» по итогам первых восьми дней войны» от того же 29 июня 1941 года. Показывая всем, что ни в какой он не в прострации, а работает на даче и работает эффективно. А именно: Сталин «стелит соломку» в оправдание неудач первой недели войны, которые мановением «волшебного пера» он делает… успехами! В ход идёт гениальная-без кавычек, потому что так оно и есть! – придумка вождя о той самой «молниеносности», которая пока что не стала «войной», а выступает в виде «молниеносных ударов» и «молниеносной победы». И которая УЖЕ «провалилась»! Сталин «бросает пробный шар» и выдвигает, так сказать, предварительный тезис:
«Гитлер и его генералы, привыкшие к лёгким победам на протяжении всей второй империалистической войны, сообщают по радио, что за семь дней войны они захватили или уничтожили более 2.000 советских танков, 600 орудий, уничтожили более 4.000 советских самолётов и взяли в плен более 40.000 красноармейцев; при этом за тот же период немцы потеряли будто бы всего лишь 150 самолётов, а сколько потеряли танков, орудий и пленными-об этом германское радио умалчивает. Нам даже неловко опровергать эту явную ложь и хвастливую брехню.
На самом деле положение рисуется в совершенно другом свете. Немцы сосредоточили на советской границе более 170 дивизий; из них по крайней мере третья часть представляет танковые и моторизованные дивизии. Воспользовавшись тем, что советские войска не были подведены к границам, немцы, не объявляя войны, воровским образом напали на наши пограничные части, и в первый день войны хвалёные немецкие войска воевали против наших пограничников, не имевших ни танков, ни артиллерии. К концу первого дня войны и весь второй день войны только передовые части наших регулярных войск имели возможность принимать участие в боях, и только на третий, а кое-где на четвёртый день войны наши регулярные войска успели войти в соприкосновение с противником. Именно ввиду этого удалось немцам занять Белосток, Гродно, Брест, Вильно, Каунас.
Немцы преследовали цель в несколько дней сорвать развёртывание наших войск и молниеносным ударом в недельный срок занять КИЕВ и СМОЛЕНСК. Однако, как видно из хода событий, немцам не удалось добиться своей цели: наши войска всё же сумели развернуться, и так называемый молниеносный удар на КИЕВ, СМОЛЕНСК оказался сорванным. В результате упорных и ожесточённых боёв-за период в 7–8 дней немцы по теряли не менее 2.500 танков, около 1.500 самолётов, более 30.000 пленными. За тот же период мы потеряли: 850 самолётов, до 900 танков, до 15.000 пропавшими без вести и пленными.
Такова картина действительного положения на фронте, которую мы с полным основанием противопоставляем хвастливым сообщениям германского радио.
Итоги первых 8 дней войны позволяют сделать следующие выводы: молниеносная победа, на которую рассчитывало немецкое командование, провалилась; взаимодействие германских фронтов сорвано; наступательный дух немецкой армии подорван; а советские войска, несмотря на их позднее развёртывание, продолжают защищать советскую землю, нанося врагу жестокие и изнуряющие его удары».
То, что это именно сталинское «перо», сомнений нет. Все признаки авторского стиля налицо: отсылка к врагу, громкие эпитеты, уничижительные словечки, типа «хвастливая брехня». Нападение Сталин называет уже «воровским». И главное: главное в этом тексте слово «молниеносная», которое Сталин повторяет целых три раза, в своём стиле «вбивая» в общественное сознание нужное ему понятие, как гвоздь. Вот так прелюдия мифа о «молниеносной войне» впервые появляется на свет. Вслед за двумя «молниеносными ударами», которые были «сорваны», Сталин в конце говорит уже о «провале молниеносной победы», которую якобы планировал вермахт. Естественно, Сталин лжёт, вводя в обиход этот термин. Ведь, как мы помним, никакого слова «блицкриг» в немецких документах нет и в помине. Мы помним, что, согласно «Барбароссе», война планировалась «кратковременной», а вовсе не молниеносной. Разница громадная, не правда ли? Кроме того, главной задачей немцев был вовсе не захват городов-не говоря уже о Киеве и Смоленске «в недельный срок», это Сталин просто придумал-а разгром советских армий в приграничном сражении. Что они прилежно и чётко выполняют. Сталин же, попутно оправдывая захват вермахтом некоторых городов-не всех, конечно, Минск, например, «забыт»-уже пишет о «провале молниеносной победы», на которую так «рассчитывало немецкое командование». Далее Сталин уже начнёт впрямую говорить-и мы это увидим-о молниеносной войне и её провале или срыве Красной армией. Вопиющая ложь, которая тем не менее до сих пор для массового общественного сознания не ложь вовсе, а «наш компас земной».
И… «пошла писать и плясать губерния» о молниеносной сорванной войне и о провале блицкрига. И доплясалась до наших дней. Ловко? Ещё как! Чем наглее соврёшь, тем быстрее поверят! Кто станет слушать какого-то Гитлера, который, услышав, как в СССР «клеймят позором» и одновременно заявляют о срыве некоего «плана молниеносной войны» буквально взбесился: «Я никогда не применял слова «блицкриг», потому что оно совершенно идиотское!». Да никто! Не говоря уже о том, что той самой «молниеносной» войной, как мы знаем, грезил никто иной, как сам Сталин, планируя те самые одноимённые удары, наступление и победы после гитлеровского нападения в Директиве № 3. Вот так Сталин буквально перевалил «с больной головы на здоровую» свой собственный план, а попутно оставил для будущей советской истории непререкаемый тезис. Миф. Точнее сразу два: о самом «немецком блицкриге» и о его «провале». Попутно Сталин объяснил и причины неудачного начала войны, которые произошли из-за отсутствия «развёртывания» наших частей. Ну то есть «объяснил». Потому что ответа на то, почему же наши части не были «развёрнуты», он, естественно не дал и просто констатировал этот факт. Хотя мы-то отлично понимаем, что сам Сталин не дал команды на оперативное развёртывание, которого от него требовали военные. Но и так сойдёт. А скоро «дойдёт» до тех самых «временных неудач»… А пока что Сталин одним росчерком пера превращает неудачи армии в успехи, попутно забрасывая в самый дальний ящик свой план «молниеносной войны» и приписывая его Гитлеру. Волшебная сила слова, не правда ли?
Естественно, «ближний круг» это важное и лживое сообщение слышит, читает, анализирует и делает выводы. А выводы простые: хоть первая неделя войны и выдалась провальной, но не всё потеряно. Ложь «для народа» вождём уже придумана, но для руководящей элиты всё не так уж страшно. Их никто-пока что-не обвиняет, но надо думать быстрее. И они думают-соображают ещё молниеносней, чем Гитлер «хотел» разгромить СССР. «Свидетели» пишут, что на следующий же день у Молотова-а у кого же ещё, ведь именно он под ударом прежде всех! – собираются без вины виноватые Берия, Микоян, Вознесенский, Каганович, Ворошилов. И, конечно же, Маленков. А как же без него? Жукова и Тимошенко-первых кандидатов на расстрел, как они предполагали-предусмотрительно не приглашают. В итоге они решают учредить Государственный Комитет Обороны. Напомним, что это «масло масляное», так как Комитет обороны давно существует. Однако ГКО теперь высший орган власти в военное время с неограниченными полномочиями. Во главе которого-тут сомнений у соратников нет-конечно же, Сталин. Они прекрасно понимают, что иное решение подпишет им самим и их семьям смертный приговор.
Интересно, как упорно молчат «ближние» о том, кому первому пришла «светлая и мудрая мысль» про Государственный Комитет Обороны, но что-то подсказывает, что принадлежала она тому самому Маленкову. Мало того, сей экспромт-как водится-был подготовлен заранее. Кем? Конечно, Сталиным, а «мысль» была озвучена тому же Маленкову заранее. Так что и тут на самотёк-слишком высоки ставки(!) – ситуацию Сталин не пустил. Маленков на совещании озвучивает эту заготовку «товарищам», которые тут же хватаются за это предложение, как за спасательный круг. Вполне возможно, что они знали о роли Маленкова в истории с Директивами от 22 июня и обоснованно ждали именно его слов. Получив этот совет именно от Григория Максимилиановича, они всё окончательно поняли и решение было принято. Сам же Маленков вскоре получит «награду», а мы получим подтверждение этой версии.
Осталось разобраться со временем этого совещания. «Свидетели» заявляют, что оно проходило 30-го июня, однако это не так. Совершенно ясно, что всё это делалось отнюдь не на следующий день после сталинской «истерики», а вечером-ночью всё того же 29 июня. Все «ближние» прекрасно знали распорядок дня Сталина, который работал до поздней ночи, спать ложился поздно, а вставал около полудня. Тянуть до утра 30 июня они не собирались. Опасно. Ясно, что совещание «ближнего круга» состоялось уже вечером 29-го июня. А со своим предложением они поехали глубокой ночью 29го-или уже в первые часы 30-го-июня на дачу к заждавшемуся их «вождю». Тот с виду был непривычно тих и грустен. Своеобразным актёрским талантом диктатор вполне обладал. Они слышат от Сталина всего два вопроса: «Зачем приехали?» и, после предложения учредить ГКО: «Кто председатель?» Услышав, что председатель он сам, все окончилось и ситуация разрешилась, как у Ивана Грозного-Мучителя. Народ, правда, не знал и не участвовал, но «бояре» вновь принесли «царю» власть. На этот раз совершенно не ограниченную. Мало того, сами же эти «советские бояре» становятся таким образом прямыми соучастниками и им крайне невыгодно задавать неудобные вопросы, да вспоминать как и что было на самом деле. Они и после его смерти и до глубокой старости будут молчать о том времени. Круговая порука в действии. Таким образом, вся вина со Сталина за подготовку и начало войны, за преступную Директиву № 3 и первую катастрофическую неделю военных действий автоматически снимается, забывается и переходит в разряд «табу». Сам Сталин также больше ни «обмана Гитлера», ни своих «ошибок» не касается. Забыто. Теперь можно властвовать, а так же и выступить перед тем самым «народом».
Итак, Сталин разыграл краплёные карты и вновь стал непререкаемым авторитетом и лидером. Мало того, послушных «бояр» он больше казнить не собирался, но ещё и помиловал-возможно, пока-Жукова и Тимошенко. Которые на самом деле абсолютно не виноваты, но разве это когда-нибудь Сталина останавливало? Не сумев коренным образом повлиять на обстановку на фронтах, куда их откомандировал Сталин в первый же день войны, Жуков – а также другие офицеры Генштаба и Наркомата обороны-вернулись в Москву не только со страхом, но и с чувством вины за военные неудачи. Где их встретил ещё один неудачник-председатель Ставки Тимошенко. В очередной раз Сталин всё тонко рассчитал, надо отдать должное. Сценарий написан в лучших традициях иезуитства. Браво! Однако он всё знал-от Маленкова-и ничего не забыл, поэтому уже после войны один из тех, кто организовывал ГКО, но позволил себе «в кулуарах» возмутиться бездеятельностью Сталина, был арестован по «Ленинградскому делу» в 1949-м и на следующий год расстрелян. Это был председатель Госплана СССР Вознесенский. Нам же совсем не удивительно, что инициатором этого «дела» был никто иной, как всё тот же Маленков, заодно, как мы уже говорили, уничтоживший «Музей блокады и обороны» города. Верный-до поры-послушник Сталина и первый же обличитель его «культа».
Итак, этим спектаклем Сталин усилил свою абсолютную власть максимально и окончательно «задвинул» тему начала войны и своих ошибок в дальний ящик. Введя в обиход миф о гитлеровском блицкриге и его провале, он «замазал» провал своего плана молниеносной войны, озвученного в Директиве № 3 и, в итоге, оправдал катастрофу приграничных сражений, выдав её за «успех». В то же время он подвесил «дамоклов меч» над каждым, кто имел какой-либо политический или военный вес. Те же Молотов и Берия, Жуков и Ворошилов, а также остальные каждый день помнили, что их можно обвинить и «убрать» в любой момент. Таким образом, в кремлёвском спектакле наступает антракт, однако кто-то должен ответить…
Ко всеобщему облегчению, виновными снова стали генералы РККА. Уже 30-го июня был вызван в Москву и отстранён от командования Западным фронтом Павлов. Четвёртого июля он был арестован, двадцать второго расстрелян. За ним последовали аресты и расстрелы начштаба генерала Владимира Климовских и начальника артиллерии фронта генерала Николая Клича. Одним командованием Западного фронта не ограничились. Был арестован, а через год расстрелян начальник Управления военных сообщений Генштаба генерал-лейтенант Николай Трубецкой. Его жену и четверых детей выслали на 15 лет в Норильск. Также были арестованы и расстреляны командиры стрелковых и танковых дивизий, лётчики и инженерные специалисты. Среди них генералы: Герой Советского Союза Черных, Оборин, Мищенко, Коробков, Каюков, Качанов, Гловацкий, Галактионов, Гончаров, Григорьев, Клёнов и другие.
«Замечательный» план Сталина привёл к страшным потерям среди командования армии. В первые месяцы войны-в основном в июне-сентябре 1941 года-в боях погибли, застрелились или пропали без вести офицеры штабов армий, командиры стрелковых дивизий и бригад, мехкорпусов и танковых дивизий. Практически все в звании от полковника или генерал-майора и выше: Алексеенко, Качалов, Филатов, Алябушев, Белов, Борисов, Буданов, Верзин, Гарнов, Дедаев, Бацанов, Ахлюстин, Евдокимов, Акимов, Егоров, Ерёмин, Журба, Зеленцов, Кондрусев, Корнеев, Котельников, Кузнецов, Лавринович, Микушев, Михайлин, Неретин, Карманов, Новик, Павлов, Петров, Писаревский, Ракутин, Сафонов, Силкин, Степанов, Судаков, Сущий, Трутко, Турунов, Федюнин, Хацкилевич, Копец, Честохвалов, Шестопалов, Шишенин, Владимиров, Власов (Трофим), Казаков, Козлов, Митрофанов, Титов, Фёдоров, Борзилов, Иванов, Мишанин, Пуганов, Солянкин, Чистяков, Рихтер. Около тридцати попали в плен, откуда вернулись единицы. И это без учёта погибшего в сентябре 41-го почти в полном составе командования Юго-Западного фронта и потерь под Москвой… Это, кстати, к вопросу о «предательстве» армии. Видимо, эти павшие офицеры кого-то предали? Или может быть всё-таки защитник Могилёва генерал Михаил Тимофеевич Романов не герой вовсе? Ведь в сентябре 1841-го он окажется в очередном окружении и попадёт в плен. Где будет вести себя мужественно, от сотрудничества с врагом откажется, а в декабре умрёт в лагере Хаммельсбург от ран. Может он один из тех самых «предателей», которых так жаждут найти в РККА «историки»-сталинисты? Нет, конечно. Высший офицерский состав по вине Сталина понёс чудовищные потери, однако именно армия стала безвозвратно «виноватой» во всём.
Что же до государственных итогов «дачного бегства», то Сталин официально берёт всю власть в свои руки уже в военное время. И даже укрепляет её. Возглавив Государственный комитет обороны, учреждённый-тоже молниеносно-уже 30 июня, он становится главным лицом государства в условиях войны. То есть не формально, а официально Сталин становится военным диктатором. Однако даже сегодня достаточно популярна легенда о том, что-де Сталин никогда не являлся первым лицом государства, так как по закону высшим органом власти в стране был Президиум Верховного Совета СССР во главе с Михаилом Калининым. Мы уже писали о том, что власти у этого-и вправду номинально высшего-органа не было фактически никакой, однако создание ГКО отбирает у Верховного совета власть полностью уже документально. Потому что Государственный Комитет Обороны создаётся совместным постановлением Президиума Верховного Совета СССР, СНК СССР и ЦК ВКП(б) как чрезвычайный орган, получивший ВСЮ полноту власти в СССР. ГКО поручено руководство ВСЕМИ военными и хозяйственными вопросами в стране в период войны. Его указания были обязательны для любого советского, хозяйственного, партийного, комсомольского и военного органа, а также для всех граждан СССР. ГКО определял все планы экономического развития страны в военный период и ежедневно контролировал их исполнение. Любой документ ГКО имел силу закона. Таким образом, председатель ГКО-а это Сталин-получал всю полноту официальной власти в стране, а Верховный Совет становился странным придатком-аппендиксом реальной власти.
Вполне естественно, что орган с таким громким названием-Государственный Комитет Обороны-нам до сих пор представляется неким мощным государственным институтом со множеством управлений и отделов, многочисленной «армией» специалистов и отлаженной работой. Возможно, некоторые грезят о монументальном здании ГКО в центре столицы-в духе «сталинских высоток»-где кипит работа, формируются отчёты и аналитические данные, проходят совещания под руководством «мудрого вождя»… Однако всё это лишь мифический образ. На самом деле, все министерства работали сами по себе и ничего в конфигурации государственных и хозяйственных органов не изменилось. На местах в октябре были созданы городские комитеты обороны-ГорКО-в которые вошли всё те же секретари обкомов, представители НКВД-а без них как же? – РККА и советской власти. То есть всё те же пресловутые «тройки-пятёрки». На деле все решения готовились в наркоматах и ведомствах, а ГКО их лишь утверждал. В ГКО не было даже своего секретариата, а всё делопроизводство велось Особым сектором ЦК ВКП(б), куда и были переданы на хранение все документы после войны. При ГКО создавались т. н. «подразделения»: оперативное бюро, комиссия по эвакуации, особый или трофейный комитет, которые лишь контролировали ту или иную хозяйственную сферу. Для контроля на фронтах был создан институт представителей ГКО: выдавался мандат и человек ехал «помогать» – в смысле мешать-военными. Вот такой на самом деле лишний и никому не нужный орган.
В состав же самого ГКО входило… всего 5 человек! ПЯТЬ! Всё тот же «узкий круг» управленцев. Председатель Сталин, его заместитель-всё тот же Молотов, а кто же ещё? – и члены ГКО Ворошилов, Маленков-«награда нашла героя» и Берия. Если учесть, что первые трое вошли и в состав Ставки, то понятно, что та самая «сталинская колода» тасуется и здесь. Лишь в феврале 1942 года в состав ГКО дополнительно вошли Микоян, Вознесенский и Каганович. В 1944 году Берия стал заместителем, а Булганин сменил Ворошилова. Вот и весь орган и все перестановки в нём за годы войны… Совершенно ясно, что ГКО создан лишь для того, чтобы отдать Сталину всю официальную полноту власти. Не стоит поэтому удивляться тому, как именно принимались важнейшие политические и военные решения, за которыми стояли жизни миллионов граждан СССР в тот период. И трудно не верить Жукову: «Многие политические, военные и общегосударственные вопросы обсуждались и решались не на официальных заседаниях Политбюро ЦК и в Секретариате, а вечером за обедом на квартире или на даче И. В. Сталина, где обычно присутствовали наиболее близкие ему члены Политбюро, среди которых были В. М. Молотов, Л. П. Берия, Г. М. Маленков, А. А. Жданов, А. И. Микоян и К. Е. Ворошилов. Тут же за обедом И. В. Сталиным давались поручения членам Политбюро или министрам, которые приглашались по вопросам, находившимся в их ведении. С наркомом обороны иногда приглашался начальник Генерального штаба». И правильно, зачем часто приглашать Наркома обороны и начальника Генштаба? Ведь идёт война и можно их позвать «иногда». Все государственные и военные вопросы можно решить на посиделках с «видными специалистами» Молотовым, Маленковым и Ждановым. Под сухое вино и ароматный коньяк за сытным ужином. Да и немцам тоже воюется сытно, ведь благодаря сталинскому «плану» в первые месяцы войны им достались громадные продовольственные запасы и советские склады. Гальдер удовлетворённо пишет: «В Таурогген (Таураге) обнаружены исключительно большие запасы продовольствия (экспортная организация), например: 40000 тонн сала лярд, 20000 тонн сала шпиг, очень большие запасы мяса и жести для консервов. Живые свиньи… В Каунасе в наши руки попали в полной сохранности большие продовольственные склады и частные перерабатывающие предприятия пищевой промышленности». А скоро в Ленинграде, всего за 700 километров от Литвы, на складах которой тысячи(!) тонн сала достались вермахту, сотни тысяч наших граждан начнут умирать от голода…
Но Сталину до этого дела нет, необходимо полностью прибрать к рукам и армию, для чего он преобразовывает Ставку Главного командования, смещая с поста её председателя Тимошенко. 10 июля она переименована в Ставку Верховного Командования и во главе ее встал сам Сталин. Ну и уже «до кучи» Сталин становится 19 июля еще и Народным комиссаром обороны, отбирая у Тимошенко и эту должность. Сверх того, 8 августа Сталин стал уже и Верховным Главнокомандующим Вооружённых сил СССР. То есть Сталин предусмотрительно упразднил должность Наркома обороны и стал Верховным лишь после начала войны. И далеко не в первые дни! Мы уже говорили, что Гитлер это сделал давно, но Сталин хитрее Гитлера и занимает эти должности уже после провального начала войны и краха собственного плана. То есть снова уходит от ответственности. Думается, все эти должности Сталин занял бы безо всяких спектаклей и «единогласно», если бы его план «молниеносной» войны сработал. В реалиях же неудач и, по сути, провала ответного блицкрига ему пришлось приложить усилия и разыграть страшную комедию. Но он, как всегда в «плановом режиме», с нею справился. «Спектакль окончен, кончен бал». Станиславский «верит» и нервно курит за кулисами. Облегчённо вздыхает многострадальный Молотов. Вся власть в новых условиях безоговорочно сосредоточена в руках одного человека. Диктатора Иосифа Сталина. Финита ля… Занавес!
Однако если ответный блицкриг провалился, это совершенно не значит, что от своего глобального плана Сталин отказался. Отнюдь. В любом случае, главным для Сталина было вынудить Гитлера напасть первым. Так или иначе, именно это позволило ему-«по запасному варианту»-взять всю власть в стране. Разгром Первого стратегического эшелона РККА для Сталина неприятный, но не отрезвляющий фактор. Власть для него важнее, чем потери армии и даже срыв собственного ответного «молниеносного удара». Сталин готов спокойно принять эти неудачи. Основной же план остаётся всё тем же основным. Дилетант не в силах осознать, что отдал врагу стратегическую инициативу, чего так боялись Жуков и Тимошенко, не в силах понять, какому удару он подверг армию и в какой опасности страна. А, скорее всего, это его мало волнует. Сосредоточив всю власть в своих руках, он собирается план выполнять, пусть даже и с некоторой задержкой после приграничных неудач. Выполнять любой ценой, любыми страшными методами, любыми жертвами. Авантюра продолжается…