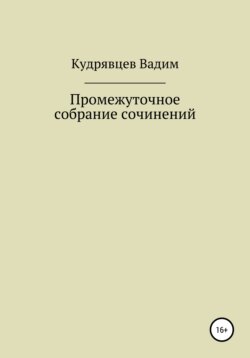Читать книгу Промежуточное собрание сочинений - Вадим Зиновьевич Кудрявцев - Страница 2
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Рассказы
На ладони
ОглавлениеОткинуться на спинку кресла, закрыть глаза и попытаться доспать. Ежедневный бесполезный ритуал. Бесполезный в том смысле, что заснуть все равно не удается, хотя до этого кажется, что глаза закрываются сами по себе. Доспать после часа пути до работы, из них сорок минут непосредственно поездки в машине – абсурд. Плюс сорок минут минимум – душ, умывание, завтрак, одевание. Это еще детей, к счастью, развозит жена. Как можно доспать за пятнадцать выделенных себе минут после почти двухчасового перерыва? Ответ – никак. Но ритуал такой есть, и он исполняется ежедневно, уже «на автомате»: зашел в офис, снял верхнюю одежду, переобулся, зашел в корпоративный мессенджер, чтобы было видно, что уже на работе, откинулся на спинку стула и закрыл глаза. Еще в этот ритуал входит появление Бориса, соседа по кабинету и приятеля по совместительству, инициирование общения с его стороны и недовольство в связи с невозможностью уснуть со стороны него, Павла. Это все подается единым пакетом.
И этот день – не исключение. Павел сидит, откинувшись практически горизонтально на спинку офисного кресла, конструкция которого это, видимо, предусматривает. Глаза закрыты. В голове идет борьба бытовых мыслей с забытьём. Как обычно, входит Борис, и Павел, как обычно, не открывает глаза.
– Привет.
Павел молчит. Борис выдерживает паузу, правда, непривычно для себя небольшую.
– Про Мистренко слышал? – Борис говорит непривычно быстро и нервно, но таких нюансов Павел еще не готов улавливать. Ритуал настолько обыденный и монолитный, что на интонации Павел уже давно внимания не обращает.
– Не слышал, – медленно и скрипуче, как двери в «Старосветских помещиках», отзывается Павел. – И слышать о нем ничего не хочу. Сразу можешь не продолжать… Дай мне поспать, в конце концов…
– Значит, не слышал. – Борис продолжает, словно, не замечая реплики Павла. – Я и сам не знал. Мне только что сказали…
– Боря, подожди, – Павел открывает глаза, но не меняет позы и поэтому смотрит сейчас в гипсокартонные плиты офисного потолка, разделенные жестяными полосками. – Я же тебе сказал, что ПРО. МИСТРЕНКО. Я. НИЧЕГО. ЗНАТЬ. НЕ. ХОЧУ!
Последние слова он произносит четко, холодно, словно печатными буквами, подчеркнуто отделяя слово от слова. После этого он приводит спинку кресла в вертикальное положение и испепеляюще смотрит на Бориса.
Борис непривычно бледен. Обычные размеренность и добродушие, которые добавляли еще пару баллов к ежедневной утренней раздражительности Павла, сегодня сменились нервозностью и суетливостью.
– Да послушай ты!
– Не хочу! – Павел смотрит в глаза Борису, – Ты понимаешь, что есть такое слово…
– Да послушай ты! – повторил Борис, почти крикнув, не дослушав то, что хотел сказать собеседник. – У Мистренко – рак. Он лежит в онкологии. И как мне сказали, там все совсем плохо.
Павел молчит. Борис некоторое время смотрит в глаза Павлу. Не дождавшись ответной реплики, начинает нервно ходить из угла в угол.
– Да, я тоже был ошарашен! Я случайно узнал, – Борис говорит быстро, – мне вчера Людка…
– Мне не интересно! – Павел перебивает резко и жестко, словно рубит невидимую нить повествования, как катаной шелковый платок в азиатском кино.
Борис останавливается и смотрит в глаза Павлу.
– Как?! – шепотом кричит Борис, – скажи мне, как? Я никогда не думал… Мы с тобой столько лет…
– Давай без пафоса. Как. Ты просил сказать «как» – я сказал. Что «как»? Что ты тут драму разыгрываешь?
– Ты серьезно?!
– А что, похоже, что я шучу? Что ты на меня так смотришь? Максимум, что мой гуманизм может из себя выдавить – это отсутствие злорадства.
– Да ты просто… – Борис мотает головой, словно не веря в происходящее.
– Что я просто? Договаривай! Или ты забыл, кто такой Мистренко? Тебе напомнить? – Павел тоже переходит на повышенные тона.
– Я помню, но сейчас совсем другое дело!
– Какое другое? Человек поменялся? Или что? Это самая большая сволочь, которую я встречал в своей жизни! И что теперь, он перестал ею быть?
– Обстоятельства поменялись! Сейчас он смертельно болен! Так нельзя! – Борис уже не так напорист, хотя отвечает еще на повышенных тонах.
– А как?! Теперь ты скажи, как? Теперь он – больная сволочь. Или нет? Может тебе напомнить все его «замечательные» поступки? Про Нинку, про Виталика, про всех остальных. Может ты забыл? Напомнить? Напомнить, скольким он жизнь отравил?
– Я помню, можешь не продолжать. Но сейчас он на грани жизни и смерти! Зачем сейчас ему это припоминать?
– А какая разница?! Это тот же человек. А когда он Варю выкинул на улицу одну с двумя детьми без средств к существованию – это не на грани жизни и смерти? Причем, ты ж понимаешь, что сделал он это чисто из поскудства своего. Что он в тот раз придумал, напомни…
– Какая разница?
– А разница есть! – Павел вскакивает со своего кресла. – Разница, прости, есть. Он сделал это только чтобы потешить свое злорадство. У него же мерзость была ради мерзости! Это какое-то такое чистое зло. Зло высшей степени очистки! А теперь он заболел. И что? Все остальное им сделанное перестало существовать?!
– Нет, не перестало. Но сейчас он болен, и мне кажется, сейчас не время всё это припоминать. И болен, судя по всему, неизлечимо. Понимаешь?
– Понимаю. Тебе жалко смертельно больного раком человека. Это я очень даже понимаю. Переживаешь, хочешь помочь – уважаю. Переживай, помогай, поддерживай. Знаешь, сколько таких людей в одной только нашей городской онкологии? Так я тебя уверяю, среди них есть достаточное количество очень хороших людей. Большое количество очень хороших умирающих прямо сейчас людей, за которых ты почему-то не переживаешь. И еще большое количество просто нормальных, обычных умирающих сейчас от этой же заразы людей. Переживай за них! Они все хотя бы это заслужили. Сделай что-нибудь, поддержки их, помоги, если ты готов так сострадать. Как – я не знаю. Но это будет действительно поступок. А ты тут вдруг расчувствовался из-за заболевшей этой скотины…
– Паша, перестань…
– …этой морзоты, слов других нет! – Павел уже почти не слышал реплик Бориса, которые в свою очередь становились все тише и тише. А может реплики Павла становились все громче и громче. – Которая отравила жизнь десяткам хороших приличных людей. И ты его выделяешь из всех остальных больных не по делам его, а лишь по тому критерию, что он твой сотрудник. Ты его знаешь лично, а других – нет. Понимаешь? Ты только поэтому сочувствуешь гадкому человеку и не сочувствуешь…
Дверь открывается и в проеме показывается голова сотрудника соседнего отдела. Он улыбается.
– Вы чего кричите на весь коридор? Как-будто у вас тут поножовщина.
– А ты что, пришел нас такой бесстрашный разнять, что ли? – Павел посмотрел на заглянувшего взглядом, соответствующим накалу их беседы с Борисом.
– Понял, – коротко сказал заглянувший сотрудник, и дверь закрылась.
Паузы хватило Борису, чтобы понять, что продолжать разговор смысла больше не имеет.
– Ну тебя, Паша… Пойду кофе попью, – Борис берет кружку со стола и направляется к двери. – Тебе потом за свои слова стыдно будет… – говорит он и выходит из кабинета.
После этого разговора весь рабочий день Павла летит кувырком. Не успевший отойти от накала утреннего разговора он позволяет себе недопустимый тон на планерке, о чем ему потом было высказано начальником в отдельном посвященном этому эпизоду разговоре. Обычно Павел всегда успевал «убрать когти» при переключении на разговор с начальством или заказчиками, с какого бы градуса предыдущего разговора он ни включался в беседу. За что, кстати, и был отдельно ценим теми же начальством и заказчиками как дипломат. Но всегда случается первый раз, и он случился в этот день. И то, что вызвало у него такое непривычное для присутствующих неприятие и раздражение, было в итоге как раз отдано ему «в работу». А ведь обычно он, как заправский матадор, мог в последний момент отдернуть красную волнующуюся ткань, и все то, от чего мало кому удавалось увернуться, проносилось пугающе близко, но мимо.
После этого у него все начинает валиться из рук. К тому же Борис, который обычно мог добродушно поддержать или просто отвлечь беседой за чашкой кофе на кухне, сегодня с ним демонстративно не разговаривает.
К вечеру, как ему кажется, удается абстрагироваться от накала рабочего дня и остыть окончательно. Но жена замечает его непривычную наэлектризованность по проскакивающим в разговоре потрескивающим разрядам.
– Ты колючий, как еж, сегодня. Что-то случилось?
– Юннаты не покормили, – бросает Павел.
– Можешь, конечно, не отвечать, если не хочешь. Но так отвечать – тоже не нужно… – жена говорит все это, стоя у плиты спиной к Павлу, разогревая ужин.
– Юмор у меня такой. Не привыкла еще? – и, выдержав паузу, добавил. – Ладно. Боря сегодня сообщил, что у Мистренко рак, и ждал, видимо, от меня какого-то сострадания… А я сказал, что сострадания этот… не знаю, даже, как его и назвать, человеком – язык не поворачивается… короче, сострадания у меня не вызывает…
Жена вытерла руки, повернулась лицом к Павлу и посмотрела ему в глаза.
– Жестковато даже для твоего сегодняшнего настроения, Паш. Дело не только в Мистренко, но тебе не кажется… – начала она.
– Нет, не кажется. Давай не будем! – отрезал Павел.
– Ну, не будем, так не будем, – она отвернулась к плите, – Но и тоном таким мы тоже разговаривать не будем!
И больше за вечер они не обмолвились ни словом.
На следующие несколько дней кабинет, где работает Павел, превращается в штаб-квартиру координации какой-то деятельности, затеянной Борисом. Какой именно – Павел не знает, хотя догадывается. Люди заходят в кабинет, о чем-то говорят с Борисом, шелестят какими-то бумагами или деньгами, а может и бумагами, и деньгами. И так – нескончаемым потоком почти с самого офисного утра. Попытки разговаривать в голос Павел пресек в самом начале, поэтому теперь все разговаривают шепотом, а значит, придраться уже не к чему. Но даже этот шепот иногда раздражает Павла, и он тогда предлагает «участникам придворного заговора», как он их называет в глаза, пройти на кухню и там продолжить «замышлять». Борис и его гость или гости всегда в эти моменты испепеляюще смотрят на Павла, но молча берут бумаги и выходят.
Борис со времени их диалога с Павлом не проронил в кабинете ни слова, даже приветственного. Павел за это время убедился, что утренний сон не приходит даже в полной тишине.
Это продолжается около недели.
Утром очередного дня Павел привычно полулежит в своем офисном кресле. Входит Борис, вешает одежду и сразу же выходит. Через небольшой промежуток времени входит снова.
– Доволен? – громко и с вызовом спрашивает он.
Павел сидит в том же положении с по-прежнему закрытыми глазами. Практика последних дней приучила его к молчаливым утрам, и он к этому, надо сказать, быстро привык. И тем более, он отвык от прямых обращенных к нему вопросов.
– Теперь ты доволен?! – повторяет Борис уже на более высокой ноте.
– О! Заговорил, – отвечает Павел, и кресло принимает вертикальное положение, – А я думал, ты вступил в клуб молчальников «Диоген». Просто, на монаха-молчальника ты не очень…
– Не смешно.
– Ну, не может быть всегда смешно! Иногда может быть и не очень, чтобы оттенить остальное, так сказать… Ладно, чему я должен быть доволен? Жги! Ты же явно не перестанешь сверлить меня взглядом пока не выпалишь свою обличительную речь.
– Мистренко умер. Сегодня ночью в больнице. Доволен?
– Это не вопрос – это наезд, насколько я понимаю? Почему я должен быть доволен чьей-то смертью? Или ты предполагаешь, что я сейчас инфернально захохочу или пущусь вприсядку? Давай, без этой дешевой демонизации…
– А как к тебе еще можно относиться после всего того…
– После всего чего? – перебивает его Павел. – После всего того, что ты сам себе выдумал? Или после всего того, как ты сам себя накрутил?
– Ну, нет! Я тебя за язык не тянул. Ты тогда все довольно четко…
– И готов под этим подписаться, – перебивает его Павел. – Что изменилось с момента нашего разговора? На мой взгляд, ничего. Был гадкий человек, делал одни мерзости. Потом он заболел. А сейчас – умер.
– Ну знаешь?! Ты не прошибаем…
– А и не надо меня прошибать, я не просил! Зато, в отличие от некоторых, я последователен в своих взглядах и суждениях. Еще буквально пару недель назад ты про Мистренко сказал бы, что это сволочь из сволочей. Это при твоем-то добродушии! Мы вспомнили бы всех, кто попал под его каток, и удивлялись бы, как его земля еще носит?! Так?!
Борис смотрит на Павла и молчит.
– Можешь не отвечать. Так, – Павел интонационно ставит жирную точку. – А теперь он заболевает, и ты готов ему всё простить?
– Мне кажется, что так должен поступить любой порядочный человек!
– А мне так не кажется, понимаешь?! – Павел встает с кресла, выходит из-за стола и садится на столешницу. – Я не готов простить только потому, что он заболел или умер. Вообще, не считаю, что болезнь или смерть – это всеочищающие состояния. Тем более, что через второе проходят все поголовно.
– И что, что поголовно? Поэтому можно не быть порядочным?
– А я не считаю, что порядочный человек должен обязательно прощать тех, кто издевается над порядочными людьми. У меня, прости, не возникает этого стокгольмского синдрома. Я считаю, что зло нужно останавливать и обезвреживать. Способы – это вопрос, как говорится, дискуссионный. И намеренное зло, я считаю, однозначно нельзя прощать. И не нужно сострадать убийце, сострадайте жертве!
– Да кто ж спорит?!
– Ты!
– Я? Ты с ума сошел? Когда это я такое говорил? – Борис удивленно и устало улыбается.
– А говорить не обязательно. Вы тут устроили суетливый муравейник, бегали с озабоченными лицами…
– И только ты из всего офиса не участвовал! Единственный, ты в курсе?
– Посчитали? Очень хорошо! А почему не шевелился это муравейник, когда Варю, которую мы, кстати, с тобой недавно вспоминали, вышвырнули на улицу? Мать-одиночка с двумя детьми на съемной квартире! Почему никто тогда не шелестел бумажками в нашем кабинете? И никто не считал тогда, кто участвовал, а кто – нет. Что ж так?
– Это вопрос не ко мне. Ты меня не можешь упрекнуть, я тогда делал, что мог!
– А я и не собирался тебя упрекать! Мы тогда попытались сделать, что могли. Хотя что мы могли? Так… – мимика Павла изображает горькое разочарование. – При этом до сих пор чувство, что недостаточно сделали. Это хорошо еще, что Варя в итоге «на ноги» встала, а не руки на себя наложила. А ведь, согласись, в той ситуации – легко…
Борис смотрит в пол и задумчиво кивает.
– Но дело не в конкретном тебе, а во всех! Они сидели по кабинетам «тише воды, ниже травы», – продолжает Павел.
– Паш, ну не все!
– Хорошо, пусть не все. Но сейчас-то все! Я, понимаешь, единственный! Посчитали! Но тогда же не было этой суеты! Да, кто-то пытался как-то помочь, кто-то волну возмущения хотел поднять украдкой, но только чтобы Мистренко не узнал. Потому что следующим мог быть он сам, и никто не защитит… Чтобы Мистренко не узнал! – повторяет Павел и поднимает палец вверх, подчеркивая сказанное. – Понимаешь? Потому что боялись. Боялись и ненавидели. Люто. И сделать ничего не могли. Не так? Ты понимаешь, с этим говном не связано ни одно мало-мальски доброе воспоминание!
– Опять ты начинаешь? Всё, он уже покойник! Нельзя так о покойниках!
– Я не прав? – Павел смотрит на Бориса, а Борис опускает глаза.
– Даже если прав – нельзя так. Не по-христиански это, если хочешь…
– Вот оно! Козыри пошли! – Павел горько усмехается, потом начинает кашлять, закрывая рот ладонью. Идет к подоконнику, наливает себе из кувшина воды в кружку и выпивает. – Отвечу. А по-христиански – это как? Всепрощение? Что-то я не помню, чтобы христиане всем всё прощали. Они друг другу-то простить ничего не могут…
– Ну, ты ж понимаешь, о чём я! – Борис машет рукой.
– Нет, не понимаю, и можешь рукой не махать. Хочешь по-христиански? Я тогда тоже с козырей. Эти фарисеи, которых христианский мир до сих пор поминает не самыми добрыми, мягко говоря, словами… Кто знает, может они потом тоже тяжело болели и умерли. То, что в итоге умерли – гарантирую. Простили? Посмотрел хоть кто-то, что потом с ними было? Кому это вообще интересно? Никому! Иуда даже раскаялся и повесился – и то не простили.
– У тебя сравнения, конечно, как всегда…
– А что не так с моими сравнениями? Я даже не говорю тебе про душегубов двадцатого века… Хотя это еще ближе и более наглядно. Но ты про «по-христиански» – и я тебе про «по-христиански», чтобы не сравнивать мягкое с теплым.
– А не так с твоими сравнениями то, что ты уже за малым Мистренко к Гитлеру не прировнял. С фарисеями, впрочем, уже сравнил. Тебя, Паш, несет, сам не знаешь куда. Эти твои логические цепочки… Демагогия одна!
– Может и так. Но я считаю, что человек убивший двух человек не может вызывать жалость и прощение только по той причине, что есть человек, который убил миллион.
– А кто тебе в данном случае возражает? Кто тебя призывает к жалости по отношению к убийце, вообще? Но Мистренко – не убийца.
– Надеюсь, хотя разговор не про это… Ты же понимаешь, что я хочу сказать.
– Нет, разговор именно про это. Был человек, который… много ошибался…
– Ничего себе «ошибался»! Ты серьезно?
– Дай договорить, – Борис прерывает фразу Павла, выставляя вперед открытую ладонь, – я старался тебя не перебивать. Хорошо, был человек, который сделал много плохих дел.
– «Плохих дел». Детский сад…
– Хорошо, назови их как хочешь, – Борис не дает себя перебить, – Но в больнице, когда мы к нему приходили в последний раз, он попросил у всех прощения. Сказал, что именно теперь все переосмыслил и…
– Очень вовремя, надо сказать.
– Лучше поздно, чем никогда. Некоторые и этого не делают.
– Исправить – уже не исправишь, а покаяться – глядишь, и зачтется. Самые хитрые и боязливые пытаются все исправить именно в последний момент и именно словесно. Всю жизнь гадь, а под конец раскайся. Класс! Страшно, видимо, с таким-то багажом да к небесным вратам. Вдруг там действительно за все спросят? А если, как говорят, мы у Него, – Павел указал пальцем вверх, – все, как на ладони, то обязательно же спросят!
– Сухарь ты, Паша. Тебе бы сочувствия хоть на столько, – Борис большим пальцем показывает первую фалангу безымянного, – Человек умер, а у тебя даже тут сарказм и желчь.
– Обидные слова, Борь, ты сейчас говоришь. Я просто смотрю еще, о ком речь, понимаешь? А тебя цепляет сама тема, как таковая. Ты ведь, только не обижайся, в этой ситуации не Мистренко жалеешь. Ну, или не только его. Ты себя жалеешь! Мужик, примерно твоих лет. Не молодой, не старый. Такой же. И вдруг бац! Ниоткуда и неизлечимо. Еще вчера и мысли не было. А сегодня – всё! И, как говорится, «не подстелешь». И так на месте Мистренко вдруг легко представляется каждый из нас, что не по себе. И ты, жалея его, в душе жалеешь себя на его месте. И, устроив всю эту суету вокруг него, ты прежде всего отгоняешь всё это от себя. Как бы замаливаешь. Не так?
– Злой ты, Паша, – вздыхает Боря.
Молчат некоторое время. Борис идет, садится в своё кресло и невидящим взглядом смотрит в выключенный монитор. Павел сидит на краю стола и смотрит в пол. Затем вздыхает, несильно хлопает по столешнице.
– Извини, – встает, возвращается к своему рабочему месту и садится в кресло. Выводит компьютер из состояния «сна». – Черт, Назаров звонил, а я не услышал за нашим с тобой спокойным разговором. Блин, чую, сейчас прилетит…
В дверь заходят двое. Не здороваясь и даже глядя на Павла, проходят сразу к столу Бориса и начинают что-то шепотом ему говорить. Борис опять шелестит бумагами. Потом двое уходят, дверь за ними закрывается.
Некоторое время в кабинете висит тишина.
– Я так понимаю, ты на похороны сбрасываться не будешь, так? – спросил Борис.
Павел не ответил.