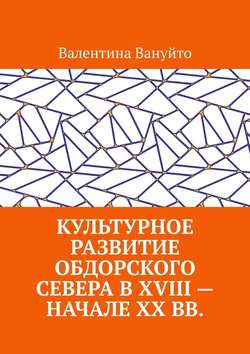Читать книгу Культурное развитие Обдорского Севера в XVIII – начале XX вв. - Валентина Вануйто - Страница 8
Глава II
Территориально-хозяйственное заселение и освоение Обдорского края коренным и русско-зырянским населением
Освоение и развитие торговой деятельности на территории Обдорского края
ОглавлениеВедущее место в торговых отношениях с коренными народами принадлежало русским и коми-зырянам. Торговая деятельность становится для них главным источником дохода. В этот период все активнее включаются в торговые отношения с коренными народами и жители Березова, Сургута, Обдорска.
В Обдорске стали появляться лавки, склады, магазины крупных купцов и торговцев. Местные жители выполняли посреднические функции и постоянно проживали в Обдорске: «Все местные жители, за исключением властей и духовенства, занимаются торговлею с инородцами и рыбопромышленностью на местах, арендуемых у них».202
Частными торговцами в XIX – начале XX вв. стали купцы, мещане и крестьяне, купившие у казны торговое свидетельство, и люди разных сословий, не имевшие административного разрешения. Очень активную торговлю на севере Обдорского края вели тобольские купцы. Но крупные сделки совершали, в основном, московские купцы, один из которых Гребенщиков монополизировал скупку лосиных кож. Во всех сибирских городах, связанных с лосиным промыслом, он насадил своих приказчиков, строго следивших за сохранением монополии.203
Основной целью коренного населения и приезжих русских купцов являлась скупка и продажа «песца в разных его видах, толстый и тонкий белый, недопесок, синяк, крестоватик, норник и копанец, – названия, которые соответствуют последовательным изменениям песца, смотря по его росту и цвету шерсти, начиная с последнего, копанца – неказистого маленького щенка и оканчивая толстым белым песцом».204 Цены определялись не только спросом, но и предложением: «В этом случае денежными единицами для них служил белый песец, средняя стоимость, которого составляет 70 к.с. или вернее 2 рубля 50 копеек на ассигнации, и в мелких расчетах, песцовая лапа, стоящая 10 коп. ассигнациями».205
В неудачный год стоимость пушнины вырастала и наоборот: «Уловом зверя вообще нельзя было похвалиться в прошлом году (1862 г.). Соболя и горностая была самая малость, лисицы и белки, сравнительно с прежними годами, было тоже немного, но песец, водящийся в северной части Березовского округа, на самоедской тундре и по отлогостям Урала, ловился не в пример, хорошо».206 Подобные колебания можно объяснить, с одной стороны, хищническими методами ведения промысла, а с другой – болезнями и эпидемиями среди зверей, понижающими их численность, а также лесными пожарами. В XIX в. цена на пушнину возросла: 1896 г. песец стоил 4 рубля; 1908 г. – 8 рублей; 1912 г. – 16 рублей; 1916 г. – свыше 19.207
Торговля с ненцами носила большей частью обменный характер: «Инородцы, особенно самоеды, мало знают толку в деньгах, – писал А. Иконников в статье, опубликованной в Тобольских губернских ведомостях, – им известны только трехрублевые и пятирублевые бумажки, которые они считают на ассигнации гладко в 10 и 17 руб.; о лишних полтинах, надобно ли будет получить или отдать бумажку, они и слышать не хотят».208 Коренное население получало и отдавало товары счетом, поштучно или мерою на ручные четверти и сажени. Например, оленевод за одного песца требовал «15—20 хлеба, или четверть тонкого сукна, 3½ сажени холста, 10 саженей мережи, 2½ сажени выбойки, пол-аршина толстого сукна».209 Обменная торговля с коренными народами позволила некоторым русским накопить достаточно средств для зачисления их в состав купцов.210 Знание местных языков также позволило им успешно развивать торговлю, несмотря на запреты властей.
Во второй половине XIX в. с падением пушных промыслов, основным эквивалентом обмена в торговых операциях стал служить муксун. За пуд муки ненцы и ханты платили в Обдорске – 4 муксуна, в Надыме – 13—15 муксунов. За пуд соли отдавали в Обдорске – 10, в Надыме – 25—30 муксунов. За пуд табака платили от 100 до 300 муксунов, за 2 медных кольца стоимостью ½ копейки в Надыме отдавали 1 муксуна.211 Вся эта рыба впоследствии сбывалась на заводы Пермской губернии, в Тобольск, и на Ирбитскую и Ишимскую ярмарки. Крупными потребителями обской рыбы являлись Екатеринбургские горные заводы.212
Основным товаром, предлагаемым коренным населением были меха, оленьи шкуры, мороженая рыба, оленье мясо, продукты морского промысла, мамонтовая кость и т. д.: «А без русских людей никогда они, самоеды, пробыть не могут, потому что меж собою у них никогда хлебных запасов, никаких товаров на их руку: стрел и ножей, и топоров, и сетей для рыбной ловли не бывает».213 Русские и коми-зыряне везли сюда, в первую очередь, «в особенности печеный хлеб, которым запасаются самоеды на целый год»,214 затем «сукна ярких цветов, очень любимые инородцами, бумажный товар, табак, бобры, употребляемые самоедками на верхнюю одежду, мережа, холст, кожи выделанные, пенковая посуда и разные медные и железные изделия».215
Торговцы проникали в стойбища оленеводов: «Некоторые из хозяев, преимущественно местные купцы, сами посылают на тундру своих приказчиков или, как называют их здесь, посидельцев, которые раскладываются на нартах и меняют товар».216 Посредники официально обладали всеми правами и обязанностями приказчиков.217 Набрав у приезжающих на пароходах весною купцов в долг «муки и товаров на инородческую руку, они отправляются в их юрты, зимою на оленях, а летом – на лодках; выменивают товары на рыбу, пушного зверя и орехи, и сдают эти последние приезжающим из Тобольска торговцам».218 В роли купца стали выступать служилые и посадские люди, которые вели обмен с коренным населением: «Мелкие русские промышленники сами объезжают более населенные остяцкие волости, снабжают остяков разными товарами и взамен того берут у них рухлядь, которую и сдают оптовым торговцам».219
Коми-зыряне находились в гораздо более выгодном положении, чем русские торговцы.220 У них были свои стада. Они обменивали хлеб, ткани, изделия из металла: бляхи, украшения для оленей упряжи, медные колокольчики (которые изготавливали мастера медного литья из мезенского села Кимжи),221 пеньку, коноплю, орудия промысла, хозяйственный и бытовой инвентарь на оленьи постели, меха, мамонтовую кость. Пушнину, которую коми-зыряне скупали у ненцев по самой низкой цене, потом на ярмарках они перепродавали русским купцам по рыночной.
Торговый обмен способствовал возникновению и развитию у коренного населения кредитной системы, благодаря которой северные народы могли сдавать продукты промыслов на месте, получая взамен товары первой необходимости. В начале XX в. коммерсанты Тетюцкие отпустили ненцам продуктов на 19000 руб., в том числе спирта на 9000 руб., продуктов первой необходимости – на 7000 руб. Тобольский купец Нартымов на реке Таз за пуд сушенной рыбы-юрка платил 2 руб. В отличие от коммерсантов Тетюцких он давал в долг ненцам на уплату ясака и недоимок, частично оплачивал их товары.222
Торговые отношения между посредниками и коренными жителями все активнее стали сопровождаться ростовщичеством и кабалой: «поскольку все эти недостатки зависят, прежде всего, от менового характера торговли, то и не могут быть уничтожены, пока существует самая эта торговля, которая влечет за собою и другие невыгодные последствия для населения и края».223 Об этих фактах мы читаем не только в записях путешественников, но и в отчетах полицейского участка, окружных заседателей и миссионеров. В долговую кабалу к мелким торговцам попадали «по бедности или по старости, – писал в своих заметках А. И. Вилькицкий, – выбиться из долга уже не придется ни им, ни их потомству».224
Важную роль в товарообмене с коренным населением стали играть спиртные напитки: «к несчастью, в этой губительной влаге здесь нет недостатка: тобольские виноторговцы и рыбопромышленники-благодетели достаточно заботятся об этом».225 Она являлась обязательным атрибутом деятельности купцов и промышленников: «почти ни одна сделка их не обходится без вина, которое признается необходимым для одурманивания и склонения инородца на всякие условия. Такие спаивания обыкновенно бывают пред сделками или во время сделок».226
Алкогольные напитки проникали к оленеводам не только путем разрешенной продажи, но и благодаря подпольной виноторговле: «Пресечь подобное зло ни полицейскому, ни акцизному начальству не представляется возможности, так как торговля эта производится весьма тайно и по обоюдному соглашению покупщиков-инородцев с продавцами-обывателями. Несколько единичных случаев наложения пени на виновных не прекратили и десятой доли зла. Бутылка вина в 30 и много в 35° продается здесь по одному рублю; нормальной же крепости вина, т. е. в 40° и ни за какие деньги ни найти».227 Коми-зыряне скупали вино и перепродавали в тундре ненцам за оленьи шкуры и меха, которые они брали за бесценок.228
Свою положительную роль в хозяйственном и культурном развитии народов Крайнего Севера сыграли торговые ярмарки. На них коренные жители имели возможность не только исполнить ясачную повинность, купить, обменять или продать какой-либо товар, но и ближе познакомиться с православной культурой. Ярмарки стали ежегодными в 0бдорске с 1750 года, в Сургуте – с 1766 года и в Березове – с 1788 года. Во время участия в ярмарке многие коренные северяне принимали Таинство Крещения, так как это освобождало их от уплаты ясака. И если в конце XVIII века это были лишь единичные случаи, то в XIX веке крестились уже целыми родами. Об этом свидетельствуют записи в сургутской церкви, где упоминаются многие роды лесных и тундровых ненцев.
202
ТГВ, 1864, №8, С. 62
203
Громыко М. М. Западная Сибирь в XVIII веке. Новосибирск, 1965, С. 46
204
ТГВ, 1864, №7, С. 55
205
Иконников А. Заметки об Обдорской ярмарке, ТГВ, 1864, №7, С. 56; ГУТО ГА г. Тобольск ф. 417 оп. 1 д. 638 л. 11
206
ТГВ, 1863, №27, С. 27
207
ГУТО ГА г. Тобольск ф. 152 оп. 40 д. 315 лл. 37,38; ф. 417 оп. 1 д. 638 л. Зоб., 7об.
208
Иконников А. Заметки об Обдорской ярмарке, //ТГВ, 1864, №7, С. 56
209
Там же. С. 57
210
Миненко Н. А. Указ. Соч. С. 58
211
Косарев М. Ф. Западная Сибирь. М., 1984, С. 127
212
Миненко Н. А. Указ. Соч. С. 77; ГУТО ГА г. Тобольск ф. 152 оп. 39 д. 5 л. 129
213
Колычева Е. И. Ненцы европейской России в конце XVII – начале XVIII в. //СЭ, 1956, №2, С. 80
214
Иконников А. Заметки об Обдорской ярмарке, ТГВ, 1864, №7, С. 55
215
ТГВ, 1864, №7, С. 55,56
216
Там же. С. 57
217
ГУТО ГА г. Тобольск ф. 417 оп. 1 д. 638 л. 11об.
218
Голодников К. Указ. Соч. С. 206
219
Там же. С. 106
220
ТГВ, 1864, №7, С. 55
221
Жилинский А. Указ. Соч. С. 240; Обзор Архангельской губернии за 1913 г. Архангельск, 1914, С. 16
222
ГУТО ГА г. Тобольск ф. 417 оп. 1 д. 651 л. 1
223
ТГВ, 1864, №7, С. 59
224
Вилькицкий А. И. Обзор работ гидрографической экспедиции в устья рек Енисея и Оби в 1894—1895 гг., //ЕТГМ., 1896, С. 23
225
Голодников К. Поездка на Обдорскую ярмарку, ТГВ, 1878, №14, С. 3
226
ГУТО ГА г. Тобольск ф. 152 оп. 40 д. 203 л. 18, 18об.
227
Голодников К. Поездка на Обдорскую ярмарку. //ТГВ, 1878, №14. С. 3
228
ГУТО ГА г. Тобольск ф. 152 оп. 40 д. 341 л. 35об.