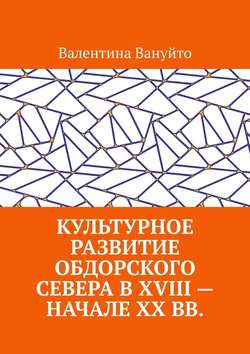Читать книгу Культурное развитие Обдорского Севера в XVIII – начале XX вв. - Валентина Вануйто - Страница 9
Глава II
Территориально-хозяйственное заселение и освоение Обдорского края коренным и русско-зырянским населением
Контакты, конфликты и взаимоотношения коренного и русско-зырянского населения
ОглавлениеС русскими у ненцев и хантов сложились добрососедские и партнерские отношения. Традиционная этническая культура не уничтожалась, а коренное население заимствовало культуру, язык, новые виды хозяйственной деятельности, православную религию и др. Взаимопроникновение культур осуществлялось на самом простом бытовом уровне. Следовательно, перечисленные духовные факторы помогли переселенцам обрести психологическую защищенность и комфортность, способствовали формированию новых праздников, обычаев, обрядов и ритуалов. А вот со сборщиками ясака, воеводами и особенно священнослужителями, представлявшими центральную власть, ненцы долгое время находились в состоянии скрытой, а иногда и открытой вражды. Как свидетельствуют данные последних десятилетий XVIII в., не было материальных причин для того, чтобы русское население входило в непримиримо враждебные отношения к ненцам, как и не было причин для яростной, слепой ненависти с другой стороны.
Отношение русских к коренным народам Севера не было одинаково в каждом конкретном случае. В восприятии русских одна этническая группа отличалась от другой: «Если мозг развитого сравнительно русского человека утомляется более или менее продолжительным образом, то естественно утомляться мозгу неразвитого дикаря остяка»,229 они «бестолковы, но из предлагаемых выгод на все решаются; самоеды решаются исполнить только тогда, когда им ясно представят причины и следствие. Остяки ленивы, беспечны и нерасчетливы в хозяйственной жизни, самоеды трудолюбивы и экономны. Сличая образ мыслей и действий самоедов с понятиями и жизнью остяков, невозможно не заметить перевеса на стороне первых».230 В. Н. Шавров отмечал, что «самоеды, невзирая на их отдаленность от сообщения с русскими жителями, …они ближе к принятию просвещения».231
Отношение к ненцам было более осторожным, чем к хантам, вследствие того, что существовала нестабильная обстановка: периоды мирных, добрососедских контактов сменялись разрывами и небольшими столкновениями. Наиболее тесные и добрососедские контакты складывались у русских с хантами. Под влиянием русских хантыйское население постепенно переходило на оседлый образ жизни со стойловым содержанием скота. Наиболее плодотворное взаимодействие существовало в области экономических отношений: это и торговля, и совместное владение или аренда друг у друга средств производства, орудий труда, земли. Обоюдные заимствования в большей степени коснулись материальной культуры. Если говорить о духовной традиции, то здесь обмен осуществлялся, в основном, на уровне языческих идей и образов, которые актуализировались у русского населения вследствие ослабления церковного контроля. Особенно в отдаленных районах заимствовали элементы национальной одежды, способы приготовления блюд традиционной кухни.
А вот к коми-зырянам у русского населения отношение было более негативным, чем к другим народам Сибири, вследствие того, что они являлись «конкурентами русских в их торговых делах с инородцами, а также ловких и не брезгливых в нравственном отношении соперников».232 На личностном уровне они относились к ним брезгливо за то, что «зыряне живут очень грязно и неряшливо».233 Несмотря на враждебные отношения, они заключали между собой браки. Сами же коренные жители к коми-зырянам относились плохо, которые «часто воруют у инородцев оленей и что придется».234
Конфликты между оленеводами возникали из-за пастбищных территорий и оленей. В 1722 г. обдорские ненцы дважды совершали набеги на кочевья куноватских хантов, у которых угнали 700 оленей. Следом пришел отряд грабителей из 120 обдорских ненцев под предводительством Ванюты Молдева.235 В 1778 г. в Березовское комиссарство обратились с жалобой ясачные Хыва, Заруба, Пудова, Созейниковы на то, что их «насильством ограбил… карачейский самоядин Песима Тепов».236 Известен, также, набег ненцев на Ляпинскую волость: «Приходила из-за Камени воровская Пустозерская самоядь и пограбили на 300 рублей и 300 оленишков отогнали, одного человека до смерти убили, а иных поймав взяли, и руки и ноги переломали и с собою возили, и нас рабов ваших угрожают смертным убийством».237
Особенно частыми причинами раздора между коми-зырянами и ненцами являлся захват оленьих стад путем угона в ночное время. Один инцидент был описан А. А. Дуниным-Горкавичем, где коренное население жаловалось на оленевода Онуфриева, который крал оленей и захватывал самовольно оленьи пастбища. На заявления и претензии местных оленеводов грозил ружьем.238 В 1883 г. доверенные от ненцев и хантов обратились к тобольскому губернатору с жалобой на коми-зырян, которые грабили и захватывали рыболовные и охотничьи угодья. Губернская власть пыталась решить вопрос выселением коми-зырян из Обдорского края по месту их прописки, но, на местах, как правило, это не выполнялось.239
Особенно среди коми-зырян была распространена кража оленей. И. С. Поляков пишет, что «зыряне встречаясь с одинокими остяками, пасущими оленей по Уралу, смешивают, как бы нечаянно, с их стадами свои и затем при разделении, уводят вместе со своими значительную часть остяцких оленей».240 Это очень хорошо описал В. В. Бартенев: «Кочующий зырянин разоряет и самоеда и тундру. Зыряне, сравнительно, недавно ставшие заниматься оленеводством, и притом, как промыслом наживы, ведут дело самым хищническим образом».241 Такой характер восприятия к ненцам объясняется тем, что «зыряне увеличивают собою число скупщиков пушнины, набивают цены и, таким образом, создают более выгодное положение для самоедов».242
Отношение коми-зырянского населения к представителям коренных народов можно охарактеризовать как хозяйское: «Пустить чужого человека пасти оленей на своей земле каждый род может и пускает, беря плату по 5 коп. с оленя. Зырянин находит инородца, который соглашается на такие условия, а раз получил он такое право, то, по условиям техники оленеводства, валяет со своим стадом на проход по всей тундре».243 Но разрешение пасти оленей на пастбищах ненцев, нельзя назвать арендой, т.к. они, в основном, пользовались самовольно.
О нарушении территорий касланий коми-зырянами писал М. А. Кастрен. Он отмечал, что весной стада коми-оленеводов проходили по лучшим пастбищам ненцев, тем самым нанося большой вред их оленеводческому хозяйству.244 В. В. Бартенев описывал недовольство коренного населения тем, что стада коми-зырян вытаптывали их пастбищные угодья. Арендуя у ненцев пастбищные угодья для беспрепятственного прохождения со своими стадами от верховьев Полуя до берегов Ледовитого океана, коми-зыряне пользовалась ими в угоду себе.245
Так как оленей у коми-зырян становилось все больше, то росла и нагрузка на пастбища. Нарушались не только границы территорий, но и наносился ущерб природным ресурсам. Их стада в короткий срок варварски стравливали ягельники на зимних пастбищах тундры, что лишало возможности ненцев проводить зимний выпас на традиционных маршрутах. Как считает Л. Н. Жеребцов, раздоры между коми-зырянами и ненцами возникали из-за покопытного сбора, который установили ненецкие старшины в свою пользу. К 1896 г. сбор возрос с 2 до 10 коп. с оленя и имел тенденцию к дальнейшему росту.246
Коми-зыряне не брезговали путем спаивания ненцев и хантов, а зачастую и обмана увеличивать свои стада, что иногда приводило к вооруженным столкновениям. И. С. Поляков писал, что «во время лета зыряне, встречаясь с одинокими остяками, пасущими оленей по Уралу, смешивают, как бы нечаянно, их стада со своими и затем, при разделении, уводят значительную часть остяцких оленей. Рассказывают о случаях, когда зыряне, спаивая остяков-пастухов водкой, угоняли спокойно их стада или даже убивали пастухов».247 Коми-зыряне значительно увеличивали размеры своих стад, тогда как ненцы, утратившие своих оленей, начинали переходить к ним в работники.248
Несмотря на конфликтные ситуации, в быту были мирные взаимоотношения с коренным населением. Благодаря многолетнему соседству с угорскими народами они изучили язык и некоторые обычаи хантов, манси и ненцев. Кочевавшие в тундре коми-зыряне имели большое сходство в образе жизни, и это давало большее преимущество перед русскими. Среди коми-зырян, особенно в зонах наиболее интенсивных контактов с русскими, распространялось знание русского языка. Некоторые зажиточные зыряне отдавали в школы своих детей. Уже в конце XIX в. В. Бартенев отмечал, что между русскими и коми-зырянами стали стираться различия, связанные с экономическим положением и бытовыми особенностями.249 В своих путевых заметках финский ученый А. Алквист отмечает, что коми-зыряне «сохранили свой собственный язык, но с течением времени усвоили образ жизни и одежду севернорусского народа».250 Устанавливались родственные отношения между коми-зырянами и ненцами. Они не только передавали ненцам и хантам навыки более прогрессивного ведения хозяйства, но и знакомили их с основами православной культуры посредством простого человеческого общения.
В целом русские относились к коренным народам Обдорского Севера дружелюбно. Тесные взаимовлияния и взаимосвязи между коренными народами и русскоязычным населением, а также зырянами, развивавшиеся на протяжении многовековой этнической истории народов Обского Севера, обусловили многие черты регионального сходства в их культуре и быте: «Некоторые коренные жители так свыклись с инородческим образом жизни, что едят сырое мясо, просто парное, живую летом и зимою мерзлую рыбу. Употребляют иногда при разговоре остяцкие слова, как обыкновенные русские, особенно названия одежд».251 А «влияние русской народности здесь заметнее сказывается и в постройках, и в образе жизни остяков, одежде, обуви и даже в некоторых привычках и вкусах».252
В северных городках звучала речь на ненецком, хантыйском, зырянском, русском языках, а среди горожан было немало людей, связанных с торговлей и промыслами: «Стремление инородцев к знанию русского языка в его благочинии время от времени заметно увеличивается, потому что у них с знанием русского языка соединяются интересы, улучшающие их нравственный и особенно материальный быт».253 Такой сплав разных культур не мог не привести к формированию самобытного и разнообразного городского быта, к развитию гражданского и культурного кругозора северных жителей Обдорского края.
В. Иславин, А. Шренк, Г. Танфильев, В. Бартенев и другие исследователи отмечали достаточно широкое распространение среди ненцев знания русского языка, а также среди русских – ненецкого.254 «Почти все обдоряне (русские и коми-зыряне – прим. автора), – писал В. В. Бартенев, – хорошо говорят по-остяцки и по-самоедски… иногда говорят по-остяцки и между собой; встречаются и такие, которые почти забыли родной язык и совсем одичали, но это редко… Многие из обдорян произносят при этом вместо ш – с, а вместо ж – з… точно так же затрудняет их ч… а некоторых – р, л… Вследствие этого язык коренного обдорянина напоминает какое-то детское сюсюканье («узе наси плиехали», «беднязки плохо зивут», «посол к цорту», «тли любля)».255 В. Иславин отмечал, что ненцы напротив «не только совершенно чисто говорят по-русски, иногда между собою, но и приняли все оттенки русского характера».256 В конце XIX в. изучая тиманских ненцев, Г. И. Танфильев также был удивлен, что они не только прекрасно говорят по-русски, но и «знают русские песни и даже недурно играют на гармонике».257
Длительное взаимодействие коренных народов Северо-Западной Сибири и переселенцев (русских, коми-зырян), особенно в зоне наиболее интенсивных контактов, вело к постепенному изменению отдельных компонентов культуры и освоению новых стереотипов мировосприятия всех групп, участвующих в этом процессе. Взаимодействие способствовало расширению и внутриэтнической мозаичности культуры, давало потенциальные возможности выбора разных стратегий жизнедеятельности на основе усвоения иноэтничного опыта. В результате этого часть этнических особенностей стиралась либо становилась общей принадлежностью, характерной для определенной историко-культурной области.
229
ГУТОГА г. Тобольск ф. 156 оп. 26 д. 864 л. 238
230
Шавров В. Н. Указ. Соч. С. 287
231
Шавров В. Н. Указ. Соч. С. 286
232
Бартенев В. Указ. Соч. С. 137, 138.
233
Бартенев В. Указ. Соч. С. 137, 138.
234
Бартенев В. Указ. Соч. С. 137, 138.
235
Бахрушин СВ. Указ. Соч. С. 134; Лепехин И. Указ. Соч. С. 279; Хомич Л. В. Указ. Соч. С. 138; Васильев В. И. Указ. Соч. С. 128; Вануйто В. Ю. Указ. Соч. С. 38
236
Васильев В. И. Указ. Соч. С. 122
237
Главацкая Е. М. Указ. Соч. С. 84
238
Дунин-Горкавич А. А. Указ. Соч. С. 104
239
Иславин И. Указ. Соч. С. 21
240
Поляков И. С. Указ. Соч. С. 169
241
Бартенев В. Указ. Соч. С. 143
242
Бартенев В. Указ. Соч. С. 203
243
Бартенев В. Указ. Соч. С. 144
244
Кастрен М. А. Указ. Соч. С. 172
245
Бартенев В. В. Указ. Соч. С. 144
246
Жеребцов Л. Н. Указ. Соч. С. 182
247
Поляков И. С. Указ. Соч. С. 169
248
Иславин В. Указ. Соч. С. 21
249
Бартенев В. Указ. Соч. С. 145
250
Алквист А. Среди хантов и манси. Путевые записи и этнографические заметки. Перевод с немецкого и публикация д-ра наук Н. В. Лукиной. – Томск, 1999, С. 36
251
П-ровский Н. Березов…, С. 250
252
Суханов И. Очерки Березовского края…, С. 632
253
ГУТОГА г. Тобольск ф. 156 оп. 26 д. 643 л. 257об
254
Иславин В. Указ. Соч. С. 108; Шренк А. Указ. Соч. С. 204; Танфильев Г. И. Указ. Соч. С. 27
255
Бартенев В. В. Указ. Соч. С. 98
256
Иславин В. Указ. Соч. С. 108
257
Танфильев Г. И. Указ. Соч. С. 27