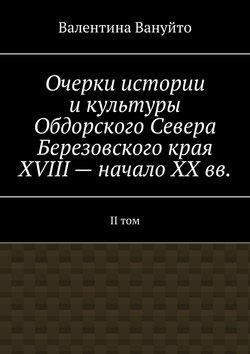Читать книгу Очерки истории и культуры Обдорского Севера Березовского края XVIII – начало XX вв. II том - Валентина Вануйто - Страница 3
Глава VIII
Семейные ценности населения
Обдорского Севера
Морально-этические традиции
ОглавлениеКаждый народ имеет свою, присущую только ему, культуру и историю, стремление определить свое место в потоке исторических событий. У всех народов существовала высокоценная и полезная система и принципы хозяйственного, эстетического и этического, нравственного отношения к природе, существовали традиции и обычаи, исторический опыт и мудрость. Если условно представить морально-этические традиции населения Обдорского Севера в иерархии ценностей, на первом месте будут стоять традиции, тесно связанные с природой и трудовой деятельностью людей. Дело в том, что эта традиция одна из самых древних, и ее «область действия» охватывает всю жизнь человека от рождения: будь то сын – будущий кормилец или дочь.
Ролевая структура традиционной семьи русскоязычного и коренного населения Обдорского Севера, проявляющаяся в отношениях, была основана на почитании старших, в первую очередь, отца. Отношение к главе семьи также регулировалось определенными нормами этикета: его указания выслушивали, молча, в его присутствии детям нельзя было громко разговаривать, смеяться, младший обязан выслушивать старшего и не прерывать его речь. Мужчина был не только главой семьи, но и распорядителем всего семейного имущества. У ненцев «глава семьи пользовался неограниченной властью и уважением; без его позволения, не только ребенок, но даже жена не решится принять подарок за свою услугу от постороннего человека».23 Взаимоотношения хантов основывались на том, что «отец в семье считался старшим лицом, и если взрослые его сыновья еще не отделены, то он распоряжался всем имуществом. Кроме этой имущественной власти отец имел и личную власть, так что члены семьи находились у него в послушании. В случае же непослушания малолетних детей в семье отец наказывал их сам. На совершеннолетних же жалуется старшинам, которые или делают неповинующимся внушение, или, в крайнем случае, наказывают розгами».24
Муж в семьях воспринимался женой как старший, ее обязанность – слушаться его во всем, угождать, заботиться. Его обязанность – материально обеспечивать женщину. Аналогично отношение и к детям, которые понимаются как собственность родителей. Подчиненное положение женщины, характерное для традиций коренных народов, восходит к культу предков, в соответствии с которым назначение человека на земле – продолжать род. Покорность, покорность и еще раз покорность – такова была главная добродетель женщины. Важнейшими и лучшими качествами женщин считались робость, сдержанность, умение приспосабливаться к характеру мужа. У ненцев, например, существовал запрет говорить с женой в присутствии старых людей и называть ее по имени. Во время каслания мужчина старался говорить с женой жестами, если была в этом необходимость. Женщина же обращалась к мужчине осторожно, выбирая выражения. Обращение было привязано к имени младшего брата или ее старшего сына. На практике это звучало так: «старший брат Таборчи» («Таборчи нека»), «отец моего старшего сына» («Нгарка нюн нися»). Если супруги были преклонного возраста, то женщина использовала в разговоре такую форму обращения как «отец моих детей и внуков» («ири невэ»). К старым людям обращались: «дедушка» («ири»), «бабушка» («хада»). Если хотели сказать о взрослом человеке, то называли его по имени старшего ребенка.
Традиционной нормой поведения хантыйской женщины был обычай избегания («емлты»). В обряде «избегания» находились женщина и родители мужа, мужчина и родители жены, жены двух братьев, женщина и муж дочери ее сестры. Ограничения общений касались в большей степени жен сыновей, снох – жен братьев, жен племянников. В отцовских неразделенных семьях сноха должна была избегать свекра, старших братьев мужа; в братских – старших братьев мужа, в семьях типа «дядя-племянники» – дядьев мужа, если муж жил в семье дяди с братьями – его старших братьев. А. А. Дунин-Горкавич описал запреты хантыйской женщины, которые сопровождали ее по жизни.25 Так, ввод в дом молодой невестки начинался с того, что она должна была прикрывать свое лицо в присутствии старших родственников мужа. Покрывало она переставала носить только после смерти отца своего мужа. Бывший инспектор Тобольской врачебной управы г. Алберт также отмечал, что в семье женщины «волосы завивают в косы, а на голове носят четырехугольные покрывала, так что редко можно видеть их в лицо. Если женщина вздумает на что-нибудь взглянуть, то поднимает покрывало перед одним только глазом»26 Молодая жена должна была избегать свекра, говорить в его присутствии только шепотом, ходить с закрытым лицом, не имела права вмешиваться в мужской разговор, хотя могла с интересом к нему прислушиваться. Обращаться по имени к мужу и его старшей родне строго запрещалось. Мужа она называла иносказательно.
До замужества девицу часто называли по отцу, а после вступления в брак – по мужу. Например: дочь Течеда (нен. – «Течеда не ню»), жена Вудычида (нен. – «Вудычида пухуца»), жена Хозена (нен. – «Хозена пухуца») и т. д. Женщины редко упоминались по имени. Они рассматриваются в литературных источниках, ревизских сказках как предикат мужчины, впрочем, как и дети.27 Она не называла мужа и других родственников по имени, используя вместо этого иносказание. Этот речевой этикет очень важен. У хантов и ненцев строго соблюдалось табу в период месячных «очищений» женщин. Ханты о такой женщине говорили: «за пределами дома находится» (хант. «Ким питс»), «за порогом находится» (хант. «ов шепа питс») или «в маленьком доме находится» (хант. «ай хота питс»). В дом она могла вернуться только после обряда очищения. Запрет в этот период лежал и на участие в приеме гостей, жертвоприношениях, праздниках. В течение этого периода ненецкая женщина спала отдельно от мужа, так как считалось, что женская нечистота (нен. «ся’мэй») лишает мужчину удачи в промысле, делает его слабым и больным. Существовал ряд запретов, связанных с питанием. Например, хантыйским женщинам запрещалось резать щуку, налима и осетра.28 А также во время месячных очищений и беременности им нельзя было естьмясо лося, медведя, осетра, стерлядь, уху из щуки и налима.29По сообщению К. Ф. Карьялайнена, «у северных остяков женщины (беременные или кормящие) не могут кушать то, что убито стрелой».30
Самым большим уважением в обдорском обществе пользовались старые люди. А. Ф. Миддендорф обратил также внимание на высокое уважение к старости и на кротость детей.31Они так же, как и дети, были окружены постоянным вниманием, заботой и уважением. Старому человеку в семье всегда было обеспечено почетное место, лучшая еда, уважительное отношение к его замечаниям и советам. Правила житейского поведения требовали, чтобы дети первыми здоровались со старшими, не утомляли их бесконечными вопросами, не садились прежде, чем займут место старшие, не входили в дом раньше их, наоборот, ждали, пока войдут взрослые или гости. В присутствии людей преклонного возраста не принято заниматься нравоучениями. Без участия старого человека не совершалось ни одно событие, ни обряды, ни праздники. Соблюдение традиционного этикета по отношению к старому человеку – дело чести каждого. У коренных народов супруги обращались друг к другу, используя специальные обращения. Нравственность русских, все нормы поведения требовали безусловного уважения родителей на протяжении всей их жизни. «Дети обязаны родителей во всем слушаться, покоить и кормить их во время болезни и старости» – эти наставления не раз можно услышать в русских семьях.
У ненцев люди, имеющие жизненный опыт, обращались к старому человеку «вэсоко» («вэсэй»), а к старой женщине – «хада». У хантов старших в семье называли «вун хоят» («пирщ хоят»). Обращение к жене у ненцев зависело от того, к какому возрасту, она принадлежала (к молодой, если у нее был ребенок – «невэ», старше 30 лет – «пуху», «пухуца»). В чуме во время беседы мужчина мог обратиться к жене такими словами – «мать моего ребенка» (нен. – «нюн небя»). В случае наличия нескольких жен «к именам их прибавляется нумерация: 1-я, 2-я жена»32 (первая жена – «пюды не», вторая – «таты не»).33 У хантов супруга обращалась к мужчине со словами – «мой муж», «мой хозяин» («икем хоем»), мужчина к своей жене – «моя жена» («неннем»). Когда супруги были уже в возрасте, то называли друг друга – отец, мать («таха», «анка»).34
Хантыйские дети взрослых величали по имени своих сверстников: «Колин дедушка» (хант. – «Микулин ащиращи») и т. д. Если в семье было несколько членов старшего поколения, то добавляли «старший» («вун»): «старшая бабушка» (по матери), («вун анканки»), «старший дедушка» (по отцу), («вун опращ»). Обращаясь к незнакомым или мало знакомым людям, а также к близким родственникам, дети использовали термины «дядя», «тетя» (хант. – «акем ики», нен. – «нися», «нинека», хант. – «имем ими», нен. – «неба»). Друг друга они называли по именам, которыми наделили их родители. Когда взрослые обращались к ребенку, чтобы он выполнил какое-нибудь поручение, например, сходил в соседний чум, чтоб пригласить кого-то, то употребляли иносказательную форму: «в соседнем чуме живущий старик» (нен. – «тенянгы мя’кна илена ири»). Мужчины младшие по возрасту обращались к старшим, обычно употребляя родственную или описательную терминологию: «отец мальчика Явлада» («Явлада неся»), «отец девочки Илне» («Илне неся»).
Население Обдорского края дорожило чувством дружбы, люди старались всегда сохранять добрые отношения с соседями. Существует большое количество пословиц на эту тему: «С хорошим соседом и беды не страшны», «Если соседу хорошо, то хорошо и тебе». Недостойным считается обидеть соседа или вмешаться в его личные дела. «Обижать своих соседей – то же, что дразнить медведей».35 Отношение к добрососедству у русского населения подчеркивалось в пословицах: «Не бери дом, а бери соседа», «У соседа есть, и у тебя будет». Очень много о человеческих пороках говорится в сказках. Они всегда помнили о том, что, прежде чем пуститься в путь, следует найти верного спутника, то есть друга: «Первую добычу раздели с друзьями, и станешь удачливым охотником».36 В семье обдорских северян вырабатывалось традиционно доброе отношение к окружающим. Общепринято было считать, что человек не один, и он всегда может полагаться на помощь других, особенно родственников; с другой стороны, он должен поддерживать добрые отношения с окружающими. Общение выступает как необходимое условие функционирования этноса. Концепция взаимной помощи довольно сильна среди обдорского населения: необходимо учитывать нужды окружающих и делиться преимуществами, оказывать гостеприимство и соблюдать доброжелательность и учтивость.
Особенно исследователи отмечали честность, порядочность коренных народов: «Наиболее выдающиеся из них – честность, миролюбие и гостеприимство».37М. А. Кастрен писал, что «в нравственном отношении все остяцкое племя отличается честностью и правдивостью, чрезвычайной услужливостью, благодушием и человеколюбием».38Подобное же мнение о ненцах говорил О. Финшу и обдорский священник.39М. А. Кастрен как и многие исследователи отметили, что в обиходе у ненцев не существовало слова благодарности «спасибо», «пожалуйста», «благодарю»: «в языке самоедов не существует слово „благодарю“, но дайте самоеду глоток водки, и он пойдет за вас на смерть. Я, в самом деле, начинаю думать, что слово это выдумано плутом с целью избавиться от обязательства дешевой ценой».40
Немаловажную роль во взаимоотношениях между человеком и обществом играли и понятия о долге. Важнейшее для делового этикета коренных народов требование – обязательность. Оно означает, что человек, давая слово, обещая сделать что-либо, должен быть хозяином своего слова и выполнить обещанное точно в срок. Точность и обязательность являются внешними проявлениями таких качеств личности, как умение анализировать обстоятельства, оценивать свои поступки, прогнозировать последующие действия. У ненцев общение между членами рода во многом зависит от соглашений, обязательных для договаривающихся сторон, и нарушение которых может привести к конфликту. Взятые на себя обязательства у русских подразумевали и умение держать слово: «Слово не стрела, а пуще стрелы». Вот почему репутация человека в обществе во многом зависела от того, как и каким языком выразился говорящий, а умеет ли он держать «язык за зубами». Надо заметить, что речь русских очень образна, выразительна, богата сравнениями и метафорами.
Если ты дал обещание, то должен выполнить его, а дал клятву сдержать ее. У хантов и ненцев самой страшной считалась клятва на медвежьей морде: «ибо самоеды, как некоторые другие северные инородцы, считают медведя священным животным».41 Клятвы на звере были различны. Некоторые были связаны с подозрением человека в краже, в измене, во лжи и т. д. Подозрение в воровстве можно было снять клятвой на шкуре, зубе, когте или на морде медведя, лапе волка. Обвиняемый выкусывал волос из шкуры медведя и проглатывал его, при этом говорили: «Пусть меня сожрет медведь так же, как я теперь ем его шкуру, если я скажу неправду или не выполню свое обещание». О клятвах на медвежьей лапе, на шерсти, или голове отметил и О. Финш: «Так как честность тесно связана с любовью к правде, то туземцам не знакомо клятвопреступление. Клятва, произнесенная над медвежьей лапой или куском шкуры в руках, на которой туземец делает надрез, говоря: „Пусть меня медведь съест, если я поклялся в неправде“, имеет полное значение даже на суде».42У хантов, если мужчина заподозрил свою жену в измене, то он предлагал ей принять шерсть медведя и дать клятву. Ханты верят, что если кто-то постарается солгать, то медведь, с чьей шкуры была вырезана шерсть, встанет из мертвых и съест клятвопреступника.43 Делом чести, у русских, особенно для мужчин, считалось не нарушить взятое на себя обещание: «Обещание не шуба, оно не греет».
Надо сказать, что случаи нарушения традиционных правил поведения на промысле, как и в обществе у обдорского населения, были крайне редки. Меры наказаний, регулирующие отношения между людьми, были часто основаны только на моральном воздействии, поскольку они считались не нарушением закона, а нарушением обычая. Здесь окружающая человека природа рассматривалась как нечто сотворенное богом. Вся природа в представлении северных народов одушевлена: у нее есть душа и с ней нужно общаться, как с человеком, относиться к ней с пониманием: Солнце, Вода, Земля, Небо, Олени – все это Жизнь и для Жизни: «мир наполнен бесчисленными духами как добрыми, так и злыми. Все имеет свое божество: вода, огонь, дерево, камень, местность, при чем божества имеют огромное влияние на судьбу человека».44
Запреты отражали бережное отношение ненцев и хантов к природе, которое имело рациональную основу, подтвержденную вековым опытом жизни многих поколений оленеводов, охотников и рыбаков. Например, на промысле зверя запрещено кричать, свистеть, громко разговаривать или смеяться. Нельзя загрязнять воду в реках или озерах, иначе хозяин воды (нен. «Ид’Ерв») рассердится и нашлет на человека страшную болезнь. Ненцы ни за что не вырвут траву с корнем. Трава – это волосы земли, а хозяин земли (нен. «Я’Ерв») за причиняемую боль обязательно разгневается и жестоко покарает грешников.45 Ханты расшалившихся детей останавливали словами: «Лес подняли! Разве так можно?» («Вунт нох алумса! Щиты хун рахал?»). Нормы промысловой морали у коми-зырян, русских и северных народов предусматривали строгий запрет мусорить в местах промысла: как в лесу, так и на берегах водоемов. Подразумевалось, что нарушителям этого правила перестанет попадаться добыча.
У обдорских северян в экологическом воспитании детей принимали активное участие старые люди. Они ежедневно в непринужденной беседе объсняли, почему и как все это делается, на что рассчитан тот или иной предмет, какие могут быть обстоятельства в пути или на месте промысловой деятельности. На месте промысла старые люди в доступной форме преподносили детям практические уроки об окружающем мире, знакомили их с особенностями данной местности и т. д. Беседы с молодежью они сопровождали показом приемов изготовления орудий промысла. Все это они делали, связывая с рассказом о характере и повадках диких животных, птиц и рыб [Лар 1994: 86; Лапина 1998: 24]. И это пробуждало у детей и молодежи интерес и любовь к окружающему миру.
По представлению хантов и ненцев, духи-хозяева могут быть дружественны или неблагожелательны к охотнику, рыбаку или оленеводу: «Заблудившиеся в лесах, или в степях, просят его покровительства и защиты, и умилостивляют всякими жертвами, какие только ему будет угодно принять от просителя».46 Если охотник, оленевод проявлял должное почтение к духам, соблюдал установленные запреты, правила охоты, промысла, не совершал излишних жестокостей, убивал животных в необходимом количестве, то духи-помощники были очень милостивы к нему и посылали дичь: «Нум божество, награждающее за хорошую жизнь оленями, удачными добычливыми промыслами, за плохую – нищетой, напастями».47
В праздники, перед охотой, перед первым ловом рыбы коренные народы совершали обряд благодарения, одаривая землю, озеро, реку каплями крови, кусочками мяса, жира. Охотник, оленевод, рыболов как бы обращались к природе: «Мы возьмем немного, чтоб поддержать себя и семью и не умереть, и вернем, то, что взяли. Мы будем тебя оберегать, защищать». В намерение людей входило желание не обидеть духов природы. При особо ценной добыче у коми-зырян собаке полагалось устроить «званый ужин», где для нее отводилось почетное место и подчеркивалось, что это угощение устроено в ее честь. Существовало строгое правило не упускать подранков и обязательно добивать раненого зверя или птицу, чтобы добыча не мучилась, и категорически воспрещалось приносить ее еще живую домой.
Миролюбие народов Обдорского Севера проявляется в том, что в повседневной жизни они старались избегать острых конфликтов, неприятных сцен, шумных споров, да и вообще резких слов: «здесь вы редко услышите ссору и еще реже, разумеется, драку».48Родственники и соседи у хантов редко ругались, стараясь сохранять рабочую обстановку в периоды охоты, рыболовства. Они считали, что неосторожное слово может привести к серьезным неприятным последствиям. Если приходилось ругаться, то не произносили слов проклятий.49 Самым устойчивым и запоминающимся фрагментом воспитания почитания природы являются краткие рассказы о чудесах. Речь идет о невероятных случаях, неожиданных знакомствах с мистическими сторонами бытия, встречах с потусторонними силами и персонажами (чаще недоброжелательными и даже опасными).О. Финш отмечал, что у коренного населения никогда не было преступлений, связанных на почве неприязни. Он пишет, что «у остяков и самоедов убийство случается разве раз в 50 лет, и можно почти сказать, что у них это преступление неизвестно».50
Основополагающим качеством в человеке считалось трудолюбие. Вся атмосфера семейной жизни населения Обдорского Севера способствовала трудовому воспитанию. С ранних лет ребенок включался в трудовую деятельность. Основой воспитания был коллективный труд и личный пример. Девочек учили тому, что нужно было знать женщине и матери, мальчиков – тому, что должен был знать охотник, добытчик пропитания для своей семьи. Причем опыт выживания в условиях тундры и тайги передавался в бесписьменном обществе коренных народов Обдорского края устной традицией. Знание преданий, мифов, сказок, загадок, пословиц, поговорок и песен имело огромное значение, и рассказчики пользовались большим уважением сородичей.
Население Обдорского Севера резко осуждали лень и недобросовестное отношение к труду: «Смотри дерево в плодах, а человека в делах». Таких «нерадивых» хозяев и молодых людей осуждало большинство односельчан. Требуя от каждого человека определенных деловых качеств, общественное мнение возвышало тех людей, которые приносили пользу не только себе, но и другим. Свое уважительное отношение к свекру и свекрови у русских и коми-зырян молодая невестка показывала в работе по дому.
Морально-этические традиции этносов, такие как отношение к труду и трудовой деятельности, глубоко связаны с осмыслением явлений природы и человека, жизнь которого представляет один из приемов огромного процесса мироздания. Каждый цикл имел свои временные границы, занимал свое место в целостном процессе развития, выступая как пример повтора, символизирующего постоянство, непрерывность жизни. Народный земледельческий календарь русских и коми-зырян представлял по своей сути весьма сложный комплекс или сплав дохристианских представлений с христианским воззрением, который, сложившись исторически, оформился в бытовой жизни. Религиозные убеждения, приверженность старине надежно и надолго законсервировали русские обряды и традиции предков.
Очень рано приучают детей почтительно относиться к старшим. Дети не должны обсуждать поступки взрослых, вмешиваться в их разговоры, обязаны беспрекословно выполнять их просьбы. Ребенку запрещается поднимать руку на взрослого даже в шутку. Коренные народы с детства были приучены к тому, что нельзя оскорблять, унижать человека, умалять его в собственных глазах: «Не дразни старого человека, а то вырастешь глупым и злым».51 И конечно, осуждались такие недостойные свойства как трусость, малодушие, неблагодарность. Это нашло свое отражение в следующих пословицах и поговорках: «Нарядная малица, да за ней души не видно» («Паскуй мальца мэта ненэц инд’да ни нгадю»), «Хороша лицом, да глаза как ночь» («Сята паскуй, сэвда нгарка пэвдей тот’рев париде»), «По следу труса не ходи», «Со злым поведешься – добра не наберешься», «Хороша осина, да гнила середина» и т. д. О неблагодарном, коварном человеке ненцы говорили: «плохой человек» («Вэвако ненеч!»). Очень остро сказано о коварном человеке: «Из капкана вытащил, да сам в него попал» («Янггохад тюхулмы харта тикан еремда»). Что же касается скупости, то она всегда порицалась. Еще в древности ненцы говорили: «Не будь жадным и не останешься одиноким», «Если ты оказал радушие доброму человеку, то нашел друга, а если скупцу, то нажил себе врага» («Се’яр ненэц ня сава нгэбта, сава нядамд хонггун, се’яр вэва нгэбта, пянггуй хонггун»).Личный пример родителей, их навыки имеют здесь первостепенное значение.
Северяне осуждали болтливость, несерьезность, легкомыслие как черты характера, умаляющие ценность личности, и старались быть друг с другом взаимовежливы. Эти принципы отразились во множестве хантыйских и ненецких поговорок: «В голове ветер гуляет, а на лице мох растет», «Много говорит, а чум дырявый» (нен. – «Нгокавна лаханакурта мя’та сисавэй»), «С болтливым всех оленей растеряешь» (нен. – «Хумбанзи» пасрена ненецанггна ты’д мал етыд»), «Болтливость – богатство не даст» (нен. – «Хумбанзи пасрена тэтангэ ни ханд»), «С болтливым поведешься без малицы останешься» (нен. – «Хумбанзи пасрена ненэй нехана мальчимбой хаюдан»), «Болтливый на ветер похож, подует и все унесет» (нен. – «Пасрик мерча толаха, мерцянгэ ханда мал пу’лаптангуда»). У русских существовали свои нормы, поддерживаемые силой общественного мнения: «Не смотри, как рот дерет, а смотри, как дело ведет», «Не спеши языком, торопись делом» или другое моральное предписание: «Больше знай, да меньше болтай», «Веревка хороша длинная, а речь – короткая», «У коровы молоко на языке».
Негативно относилось обдорское население и к злословию. Ненцы считали, что тот, кто сплетничает с тобой, тот говорит плохо и про тебя. Ханты о завистливом и болтливом человеке говорили: «он завидует, сплетничает» («Лув вушмашл»). В основном, злословие в тундре было редким явлением. Любителям поговорить без дела, посудачить русские тотчас прикрепляли соответствующие ярлыки-клички: «балабол» (болтливый человек, пустослов), «балахлыст» (тот, кто обещает напрасно, болтун и лгун) и т. д. С раннего детства внушали: «Всякая сорока от своего языка страдает». Вовремя сказанное слово могло, как возвеличить человека, так и унизить его достоинство. У русских говорили так: «На грубое слово не сердись, на сладкое не сдавайся», «Клевета, что уголь, не обожжет, так замарает». Одна из положительных черт ненцев и хантов – миролюбие, не агрессивность во взаимоотношениях, а склонность завершать конфликты миром.
Гостеприимство – также одна из отличительных черт характера народов Обдорского края. Как отметил О. Финш, что эта гостеприимность у ненцев «нередко ведет к разорению, так как у них принято обычаем, что богатый должен кормить бедняка до тех пор, пока у него самого ничего не останется. На эту помощь смотрят как на нечто обязательное, не заслуживающее даже благодарности».52
Нормы поведения и морали были у народов Обдорского Севера едиными для всего общества, поэтому дети были вправе делать то же самое, что позволялось делать и взрослым, если это было в пределах их возможностей. Единство норм морали для детей и взрослых не допускало дурного примера для детей, не создавало немотивированных запретов и обеспечивало высокую эффективность воспитания и обучения детей жизненно полезным навыкам. Правил поведения много, но если человек своим поведением и внешним видом не доставляет неудобства людям, окружающим его, то добавить к этому нечего.
Во всех странах мира в цивилизованном обществе люди при встрече приветствуют друг друга, выражая этим симпатию и доброжелательность. Приветствие сопровождается словами и действиями – рукопожатием, поклоном. Многие народы имеют свои специфические жесты приветствия, прощания, согласия, причем эти жесты могут иметь различную окраску: нейтральную, ритуально-торжественную, фамильярно-вульгарную. После приветствия обычно следует непродолжительная беседа. Ритуал приветствия у хантов и ненцев, на первый взгляд, несложный. Ханты, живущие в одном селении, приветствуют друг друга легким кивком головы со словами: «Вуща вула». При встрече друг с другом ненцы обращаются: «Торово». Если в течение дня снова повстречались, то говорят «нгани торово», «нганимбой», что в переводе может означать «и снова здравствуйте».
Из контакта с русскими коренные народы внесли в обиход общения – рукопожатие. У хантов, приветствие вне дома может ограничиться рукопожатием. В помещении сначала говорят «вуща вула», и лишь потом обмениваются рукопожатием («еш катлат»). Женщины желали друг другу «Ям нумасн». При общении между собой они расспрашивали друг друга о делах, обменивались добрыми пожеланиями, в том числе – о пополнения стада. Ханты при встрече с малознакомыми и незнакомыми приветствовали их в третьем лице: «Вуся ат вул». Члены одной семьи приветствовали друг друга: «какое хорошее утро» («Мата ям алан»). Родственники и гости приветствовали друг друга объятиями и поцелуями. Первым должен был целовать старший по возрасту. Поцелуй в губы предназначался для близких родственников. Целуют в обе щеки дальних родственников и дорогих гостей. Важное значение в этикете имело и взаимное расположение собеседников в пространстве, выбор определенной дистанции, наличие или отсутствие между ними физического контакта.
В суровых климатических условиях проживания каждый этнос создал свой неповторимый уклад жизни, язык, самобытную культуру и пронес через века. Этот уникальный коллективный опыт на протяжении многих веков был накоплен и сформирован в естественной природной среде обитания народов Обдорского Севера и передавался из поколения в поколение. В ходе человеческой истории этика отбирала те нормы, которые наилучшим образом выражали социальную сущность человека, определяли его поведение в конкретном сообществе. Суровые природные условия выработали у народов отличительные черты национального характера, среди которых на первом месте стоит взаимопомощь, крайне необходимая всякому живущему в условиях тайги, тундры, где расстояния между селениями подчас измеряются сотнями километров.
23
Суханов И. Указ. Соч. С. 52
24
Попов П. Указ. Соч. С. 3
25
Дунин-Горкавич А. Указ. Соч. С. 345
26
Алберт. Указ. Соч. С. 1
27
ГУТО ГА ф. 154 оп. 8 д. 992
28
Бартенев В. Указ. Соч. С. 12
29
Рандымова З. И. Указ. Соч. С. 40
30
Карьялайнен К. Ф. Указ. Соч. С. 168
31
Миддендорф А. Ф. Указ. Соч. С. 300
32
В. И. Указ. Соч. С. 217
33
Русско-ненецкий словарь
34
В. И. Указ. Соч. С. 105
35
Мифология… Указ. Соч. С. 6
36
Северные родники… Указ. Соч. С. 22
37
Финш О. Брэм А. Указ. Соч. С. 120
38
Кастрен М. А. Указ. Соч. С. 176
39
Финш О. Брэм А. Указ. Соч. С. 230
40
Кастрен М. А. Указ. Соч. С. 125
41
Самоеды… Указ. Соч. С. 15
42
Финш О. Брэм А. Указ. Соч. С. 123
43
Карьялайнен К. Ф. Указ. Соч. С. 131
44
ГУТО ГА г. Тобольск ф. 58 оп. 1 д. 6 лл. 3—4
45
Лар Л. А. Указ. Соч. С. 15
46
Шавров В. Н. Указ. Соч. С. 283
47
Гейденрейх Л. Указ. Соч. С. 24
48
Суханов В. Н. Указ. Соч. С. 525
49
Лапина Л. Указ. Соч. С. 40; Обатина Г. Указ. Соч. С. 28
50
Финш О., Брэм А. Указ. Соч. С. 300
51
Северные родники… С. 7
52
Финш О. Брэм А. Указ. Соч. С. 290