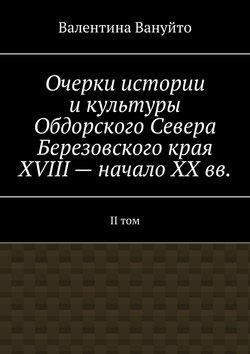Читать книгу Очерки истории и культуры Обдорского Севера Березовского края XVIII – начало XX вв. II том - Валентина Вануйто - Страница 6
Глава XIX
Семейные и календарные праздники населения Обдорского края
Праздники и увеселения северного народа
ОглавлениеВ любом празднике присутствует сакральное, которое сочетается с переходными обрядами. Каждый переходный обряд в большей или меньшей мере праздник, чаще всего родовой. Переходный обряд не обходится без жертвы или дарения. За «проход» (врата потустороннего мира) надо платить. Праздничный обряд открывает врата иномирия. Это хорошо видно в праздничные дни. Одна из основных черт любого праздника – трапеза. В праздники и до сих пор принято дарить и устраивать пир. Трапеза не просто была связана с употреблением пищи, она составляла часть магических ритуалов. Трапеза должна была насытить и тех, кого нет за столом, т.е. умерших, – в этом смысл праздничного ритуала. Боги и духи играли огромную роль в жизни традиционного общества коренных народов края. Практически вся жизнь их была наполнена ритуалами либо задабривающими добрых духов, либо защищающими от злых духов. Многие обряды строились на почитании какого-либо животного, прародителя рода, дающего плодородие или могучего покровителя и заступника рода. Человек воспринимал животное или птицу связующим звеном между ним и стихиями, которые те олицетворяют, вмещают силы стихии и пр.
Одним из важных праздников у всех групп хантов и манси был «медвежий» праздник (манс. «яны йикв»; хант. «jumən-kotl») как наиболее яркий элемент культа медведя. В празднике (хант. «jumən-kotl») несколько обрядово-ритуальных действий: 1. Посещение «медведем» священных мест – ритуал «вой тэтты пант» – зверя проносимая дорога. 2. Оповещение жителей села о прибытии «гостя». 3. «Снимание шубы». 4. Очищение. 5. Гадание. 6. Празднование. 7. Исполнение песен. 8. Танцы. 9. Заключение. Прежде всего, существуют строгие нормы разделки медведя – «раздевание, снимание шубы». Добытого зверя «очищают» снегом или водой. При отсутствии воды или снега очищают мхом, землей. Благодаря своему внешнему сходству с человеком, а также природному уму, хитрости и силе, медведь с древнейших времен был приравнен к божеству. Северные ханты редко проводили праздник, посвященный медведю. У обдорских хантов ритуал почитания медведя отличался от сынско-куноватских и казымско-березовских хантов. В отношении к медведю сочетались два противоположных взгляда: с одной стороны, он зверь, объект охоты, источник пищи, а с другой – бывший человек, родственник, родоначальник. Это даже сверхчеловек, потому что когда-то он был младшим сыном бога «Торума», но последний за непослушание спустил его с небес на землю.
Промысел на медведя носил случайный характер.76 Убиение медведя на промысле непременно сопровождалось умилостивительными актами, цель которых – примирение охотников с духом убитого зверя, самооправдание перед ним.77 Медведянаряжаюти потом проводится ритуал (хант. «вой тэтты пант»). Добытого медведя везут в стойбище или поселок через все близлежащие священные места, делая остановки на озерах, реках, особо выделяющихся лесах и болотах, встречающихся на пути. Похороны животных – магический ритуал, воспроизводящий погребальный обряд: «эти церемонии в некоторых пунктах более или менее напоминают обращение с умершим».78Обряды, исполняемые на медвежьем празднике, несут не только сакральную нагрузку. Одновременно это праздник, на котором радуются большой добыче и воздают должное мужеству человека и его отваге при добыче медведя: ведь в представлениях хантов этот зверь – существо почти сверхъестественное. Обряды сопровождаются игрой на музыкальных инструментах, ритуальными и развлекательными плясками, пением. Сравните это с обычаем древних славян, где при покойнике полагалось веселиться: играть на сопелках, трембитах и других инструментах, петь, рассказывать анекдоты, играть в карты и разыгрывать драматические действа. По древним представлениям, смерть, как и все живое, была смертна, а потому ее должно похоронить так же, как мертвого. Смерть хоронят, чтобы ее не было. Множество хантыйских поверий связано с медведем, которого называют «братом-стариком» (хант. «ошни», или «муми», а ханты рода медведя – «апсием-ики»).Исследователи связывают это с представлением о наличии пяти душ у мужчины и четырех – у женщины. Н. Л. Гондатти сообщает о двенадцатидневном медвежьем празднике.79
Большую роль играли ритуалы перед отправлением на промысел и непосредственно на месте охоты или рыбной ловли. Охотники и рыболовы угощали добрых духов кусочками пищи, табаком, спичками, несколькими каплями крови или спиртного и просили помощи, чтобы повстречался нужный зверь, чтобы не сломалось копье или хорошо сработала ловушка, чтобы не покалечить ногу в буреломе, чтобы не перевернулась лодка и т.д.Ненцы и ханты считали, что при убийстве животного идет нарушение целостности, и если не проводить ритуал, то будет выделяться особая энергия, способная оказать опасное воздействие на людей. Но и охотники, и оленеводы считали, что нет большего нарушения, чем отнятие жизни у животного просто так. Поэтому у них есть многочисленные правила и табу. Их ритуалы связаны с отождествлением себя с животным, ведь в мире ничто не должно исчезать бесследно, как не должно и появляться из ничего, иначе равновесие нарушится. Одно из таких ритуальных празднеств у хантов посвящено духу «Еленя» и описано В. Н. Шавровым.80 Поэтому мужчина (охотник, рыбак, оленевод) должен взять на себя ответственность за нераспространение этой энергии на ни в чем неповинных окружающих. Глава семейства проводит ритуалы прощения перед убийством и жертвоприношением животного.
Еще одним важным праздником у хантов, после медвежьего, являлся прилет вороны (хант. «вурна хатлу»; манси «урине хотэл»), который связывался с приходом весны и тепла. У весенних праздников ханты и манси много общего: особая роль женщин и детей, птичьи атрибуты, украшенное дерево как центр праздника, жертвоприношение, некоторые виды обрядовой пищи, функциональное назначение. Этот праздник отмечался 7 апреля, где принимали также участие ненцы и коми-зыряне. Вороны первыми прилетают, начинают вить гнезда, громко каркают, как бы пробуждая природу. Вороний месяц был известен селькупам, салымским, васюганско-ваховским, александровским и среднеобским ханты, коми.
На «вороньем» празднике («вурна хатлу», «торум ангки хатл» – богини матери день) кто-нибудь из взрослых рассказывал легенду о вороне. В хантыйских преданиях вороны выступали покровительницами женщин и детей. По их представлениям, «ворона – чистая птица, она летает в южную землю и приносит „чистым“ девочкам менструацию».81 Во время праздника на краю деревни делали жертвоприношение этой птице: на стол ставили горячие кашу и чай, от которых шел пар. Сюда могли прийти только маленькие «чистые» девочки и старушки. Похожие ритуалы существовали на Урале у башкир.
В результате долгого общения с русским населением ненцы и ханты стали отмечать некоторые из православных праздников, связывая их с периодами своего оленеводческо-промыслового цикла. Хантыйский праздник «Вороний день» («варна-хатыл»), который отмечался 7 апреля, совпал с христианским Благовещением. Ильин день, отмечаемый в августе, ханты называли «праздник середины лета» («люмкутупхатыд»). Но главным в них является не их религиозное содержание, а то, что они считаются рубежными. После первого начиналась перекочевка оленей на летние пастбища, а после второго – на зимние.
Как таковых праздников у ненцев не было. В. Ф. Зуев, прожив среди коренных народов, пишет: «Увеселений имеют между собой очень мало, а особливо самоедцы, и я почти совсем не слыхивал, может быть, потому, что они, как народ кочевной».82 Праздник «Большого Света» («Нгарка яля») проводился в январе, когда солнце появлялось после долгой полярной ночи. Из слов информаторов, которые ссылаются на легенды и мифы, был праздник встреча солнца («нгарка яля» – «нгарка» – большой, «яля» – свет).83 В каждом стойбище встречу солнца («нгарка яля») проводили шаманы или старейшины. По представлению ненцев, солнце уходило туда, куда уходили мертвые. В январе солнце появляется лишь на короткое время, и было по величине не более орла. Солнцу посвящались белые двухгодовалые олени (нен. «хаер’ты» —солнца оленьили «ялен ты» – света олень). На посвященном солнцу олене ставили особую метку (нен. «яле ине» – нити света). Семь нитей должны удерживать свет.
Празднование проходило на каком-нибудь холме, где приносили в жертву посвященного оленя (нен. «хаер’ты»). Мясо жертвенного оленя съедали сразу. На этот праздник приглашали гостей из разных стойбищ. Принимали участие в нем только мужчины.84 Обязательным элементом архаического праздника «встреча большого света» было веселье (нен. «илебядева, и’ликабтева»), радость (нен. «майбцо, маймбава»), имевшая характер сакрального предписания. На празднике проводились игры и развлечения. Игры были неотъемлемой частью будней и праздников не только детей, подростков, но и молодежи, взрослых людей. В каждом возрасте игра выполняла определенные функции и имела свои особенности.
Селькупы свой праздник («нул тела») начинали отмечать с прилетом водоплавающих птиц. За два-три дня до праздника проходила массовая охота на первых уток. Убитых птиц развешивали на деревьях. В назначенный день шаманы варили добычу в большом медном котле. Праздник длился два-три дня. У селькупов был еще один важный праздник, который отмечался в августе месяце. Он назывался праздник «Лося».
Особое внимание в воспитательных целях уделялось детским и молодежным играм. У ненцев из подвижных игр и забав наиболее были распространенными традиционные состязания: гонки на оленьих упряжках, метание аркана («тынзяна»), прыжки через нарты, перетягивания палки, борьба: «поодаль шла борьба молодежи, слышался задорный смех. Трудно было думать, что это те самые, угрюмые и неразговорчивые ненцы, которые на фактории односложно и неприветливо отвечают на ваши вопросы. Сейчас они галдели, как гуси на проталине, здоровый жизнерадостный смех оглашал тундру».85Игры у ненецких девушек описал А. М. Кастрен во время заключительной части свадебного обряда: «В некотором расстоянии я заметил кучу девушек и пошел к ним. Они были заняты игрой особенного рода. Разделившись на две стоявшие друг против друга партии, в каждой по семи, они перебрасывали шапку. Сторона, поймавшая шапку, оборачивалась спиной к противной и, спрятав шапку, падала на снег. Тогда другие семь нападали на них, и начиналась борьба за шапку; сначала боролись, валяясь на снегу, потом стоя, покуда не отыскивалась шапка».86
Коми-зырянами отмечались как христианские праздники, так иязыческие. 14 августа у коми-оленеводов считался большим «оленьим праздником» («пас»), к этому времени олени «снимали шкуру», т.е. с рогов сходила волосистая шкурка. Ведя кочевой образ жизни, коми-зыряне вследствие постоянных сношений с ненцами переняли себе этот красивый вид спорта. Грандиозноезрелище представляли собой оленьи состязания, где оценивались красота бега, скорость. Для гонок отбирались лучшие олени, которых украшали разноцветными ленточками из сукна, полосками ровдуги: «Езда на оленях действительно очень приятна, духа захватывает, когда нарта летит прямо по цельному снегу без дороги».87К излюбленному виду развлечения коми-зырян в период праздников относились оленьи гонки: «Когда они приезжают в Обдорск, то начинаются настоящие бега по всем улицам. Целыми вереницами несутся зыряне на легких нартах, запряженных обыкновенно четверкой оленей, оглашая морозный воздух пронзительным уханьем и криком».88
Праздники – это обряды, которые были основаны на посвящении в тайны природы. Они совершались при помощи символов, которые носили на себе некоторые функции природных стихий, и возбуждали чувства в человеке при помощи словесных формул, танцевальных ритмов и пр. Это почитания растений, птиц, животных и в их облике— природных сил. Самым важным в этих праздниках было причастие к этим силам путем поедания почитаемого животного. Во всех праздниках почитались силы, дающие плодородие – солнце и небесная влага. Мистические песнопения и танцы на празднике составляли сущность хантов и ненцев, которые «до того увлекаются фантазией в пение, что им ничего не может помешать или остановить».89 Известно, что у хантов эпические произведения, сказки пелись, разыгрывались в драматических пантомимах, плясках.
У народов Севера почти к каждому ритуальному празднику были приурочены свои обрядовые танцы. Истоками подражательных танцев являются близость к природе, восприятие окружающей природы как живого организма, когда эти народы все вокруг одухотворяли, различные явления природы они наделяли духами-хозяевами, поклонялись тотемам своих родов, которых они представляли в виде различных рыб, птиц, животных. В традиционном мировоззрении этих народов преобладало чувство слитности с природой, кормящей их, обожествление природы, их образ жизни и традиционные виды хозяйствования. Игровые танцы исполнялись для веселья в разное время и по любому поводу, но особенно во время праздников.
История хантыйского танца, как и любого другого, уходит вглубь веков. В прошлом танцы выполняли определенные функции на различных обрядах, праздниках, охотничьих, военных и иных ритуалах. Исследователь писал о танцах хантов: «Они изображают его страсти или копируют манеры, ухватки, походку и прочие какого-либо известного им человека, или представляют разные хитрости, употребляемые ими при ловле зверей».90Танцы хантов очень своеобразны. В. Ф. Зуев так описывает танец «березовских остяков… гораздо удивительнее, мучительнее и смешнее, которые сими своими веселостями желают только представить самое дело, а не вымышленное, или пересмеять кого стараются, как видно из ихних песен, о коих ниже упомянуто будет».91
Хантыйские танцы можно разделить на лирические, шуточные, трудовые, бытовые, охотничьи, военные танцы. Охотничьи танцы исполнялись только мужчинами. В них образно передаются военные, охотничьи навыки. Во время исполнения танцор выразительными танцевальными движениями показывал мастерское владение оружием – луком со стрелами, саблей. В охотничьих танцах исполнитель создавал образ ловкого, смелого охотника. Он уподоблялся то преследуемому животному или птице, показывая, как животное убегает от него или падает пораженное стрелой. Как правило, зрители активно подбадривали исполнителей, прославляя, подзадоривая их. Танцор, вдохновленный реакцией зрителей, импровизировал, на ходу мог добавить в танец новое, рожденное непосредственно в момент исполнения танца. В них нашли отражение особенности хозяйственной жизни, образное восприятие окружающего мира, прекрасное знание повадок зверей, птиц. В обрядовых танцах исполнитель эмоционально и красноречиво создает образ, на это направлены его мысли и талант. Танец по своему стилю лаконичен и динамичен. Сила его в изяществе. Образ, как известно, несет тот или иной сюжет: трагический, комический, героический или бытовой. Таким образом, порою танец вырастает до уровня новеллы.
Как таковых танцев у ненцев нет. Но, один из танцев был описан В. Ф. Зуевым: «Самоедин, взяв бабу левою рукою за правую. Ноги свои одна за другой наперед высовывает. Сам, выговаривая полным ртом громко „Гой!“, а потом с ужимкою сквозь зубы в нос „Ги“ протяженно. Потом опять громко „Гой!“, а напоследок, забирая в себя дух, всхрапывает и так далее. Сие не значит у их вместо песни, но будто бы для показания такты. Баба же, напротив того, подле его стоящая, стоя на одном месте, с приседанием выворачивает ноги и сама только всхрапывает при окончании каждого колена. И так за одною парою собирается и множество. Тогда бегают кругом, держась руками друг за дружку. Иногда чрез целой день, желая одна пара переплясать другую».92В обрядах и ритуалах ненцев была распространена имитационно-подражательная пластика животных и птиц, для которых характерны импровизированные телодвижения – поднятие и опускание плеч во время движения по полукругу и кругу, мягкие повороты бедер влево и вправо и др.
У народов севера, как и у любого другого народа, существуют свои традиции, обряды, празднества, и большинство из них связано с музыкой, что требует от участников не только охотничьих, или каких-нибудь других, но и исполнительских качеств. В повседневном времяпровождении развлечением для ненцев служили песни, рассказы, сказки: «Они не отказывали себе в развлечениях. Вечером, улегшись в палатке, они начинали, мужчины наравне с женщинами, нечто в роде речитатива, может какую-нибудь старинную сагу, с заметным разделением на стихи, из которых некоторые повторялись всеми в один голос, при общем смехе. Пение их заключалось в однообразном бурчание, в одном же тоне, и напоминает гуденье в печной трубе».93Преобладает одноголосно-монодический склад с элементами бурдонного многоголосия: «их музыка и пение слишком монотонны, весьма походят на пение наших деревенских плакуш, и редко возвышаются до квинты, большей частью слышны прима и терция меньшая».94А. Шренк в своих заметках в главе «Народные песни и сказки самоедов» приводит песню о цветах.95Ритуальная музыка тесно связана с местом шамана в древней иерархии. Сопровождалось представление шумовыми инструментами: подвесками-погремушками и бубном («пензер» – у восточных тундровых ненцев, «п'ензяр» – у западных тундровых и «пен'шал» – у лесных).
Музыкальным инструментам у северных народов отводится значительная роль, так как способность слышать, воспринимать звук служит средством освоения окружающего мира. Структура мира может быть «зашифрована» в музыкальных структурах. У обских угров насчитывается почти 27 видов музыкальных инструментов. Широкое распространение имели такие щипковые струнные музыкальные инструменты как семиструнная арфа, похожая по форме на лодку или птицу;«тумран» (варган), «нарс-юх», «кугель-юх», «нерыпь», «нин-юх», лютня и многие другие.
«Турман» – древнейший музыкальный инструмент, представляет собой узкую костяную или металлическую пластинку, которую музыкант вставляет в рот, придерживая за веревочку, привязанную к другому концу инструмента, и поддерживает ее. Инструмент вибрирует от движения воздуха и издает своеобразные звуки, то низкие, то высокие. Арфа семиструнная (манси «тоорсапт-юх»; хант. «тор-сапль-юх») многострунный, музыкальный щипковый инструмент: «Видели мы давидову арфу, – пишет О. Финш, —которую остяки называют хотанг, т.е. лебедь, по Палласу, дернобой. Это плоский ящик с резонансом, передняя часть которого выгнута наподобие шеи лебедя; на нем посредством деревянных колышков навязаны проволоки. „Лебедь“ бывает иногда с разными украшениями, и конец арфы в виде птичьей головы есть продукт художественного мастерства остяков, который стоил бы немалого труда нашим деревенским художникам».96Распространена она также и у селькупов. Музыкальный струнный щипковый самодельный инструмент народов ханты и манси (манси. «санквылтап»; хант. «нарс-юх»), длиной около метра, имеющий корпус, выдолбленный из цельной плахи и напоминающий плоскодонную лодку с выступающей нижней частью. Звук «нарс-юха» завораживает своей мелодичностью как человека, так и животного и птицу, поэтому его называли «Тур-сай-Торум» (Голосом поющего бога), а в поэтической речи он назывался «богом любимое пятиструнное дерево со струнами». У северных селькупов и ненцев был всего один музыкальный инструмент – это шаманский бубен (пензер).Само умение играть на бубне воспринималось как способность вступать в связь с духами, а также считалось сверху посланным даром и давалось только избранникам духов.
Музыкальные инструменты северных народов изготавливаются обычно вручную из природного материала —хорошовысушенного дерева, кости, жил, волоса, травы, листьев. На музыкальных инструментах играли в обычной обстановке и во время религиозных церемоний, где они выполняли ту же функцию, что и шаманский бубен. Само умение играть на музыкальном инструменте воспринималось как способность вступать в связь с духами, а также считалось сверху посланным даром и давалось только избранникам духов. Народные музыкальные инструменты своеобразны ипредставляют собой важный пласт национальной культуры северных народов.
76
Мартынова Е. П. Указ. Соч. С. 127
77
Токарев А. Указ. Соч. С. 151; Кулемзин В. П. Указ. Соч. С. 84
78
Карьялайнен К. Ф. Указ. Соч. С. 174
79
Гондатти Н. Л. Указ. Соч. С. 64
80
Шавров В. Н. Указ. Соч. С. 283
81
ПМА
82
Зуев В. Ф. Указ. Соч. С. 123
83
Полевые материалы Леонида Лара
84
Костиков Л. Указ. Соч. С. 118
85
Евладов В. П. Указ. Соч. С. 158
86
Кастрен М. А. Указ. Соч. С. 230
87
Бартенев В. Указ. Соч. С. 138
88
Тобольский Север… С. 137
89
Евладов В. П. Указ. Соч. С. 282
90
ТГВ, 1861, С. 198
91
Зуев В. Ф. Указ. Соч. С. 123
92
Зуев В. Ф. Указ. Соч. С. 345
93
ТГВ, №43, с. 4
94
Шавров В. Н. Записки…. С. 282
95
Шренк А. Указ. Соч. С. 332
96
Финш О. Брэм А. Указ. Соч. С. 230