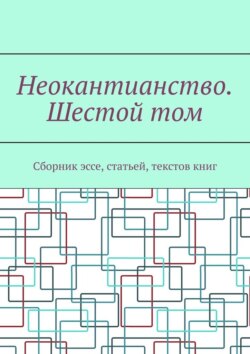Читать книгу Неокантианство. Шестой том. Сборник эссе, статьей, текстов книг - Валерий Антонов - Страница 4
БЕННО ЭРДМАНН
Задача и систематизация логики
ОглавлениеГлава 1 Вводные положения о типах мышления
1. С методологической точки зрения, все науки представляют собой систематически упорядоченные воплощения обоснованных утверждений, выносимых на обсуждение формулировок (обозначений) и проблем. Примером этих трех форм нашего мышления может служить психология, являющиеся воплощением обоснованных утверждений о существовании психических жизненных процессов и их законной связи друг с другом, а также и с механическими жизненными процессами – я называю психическими все жизненные процессы, которые нельзя проследить до совершения движений как изменения места, хотя они последовательно законно связаны с такими механическими процессами – существуют ли психические жизненные процессы или это процессы в нас, которые мы называем психическими, например, только недостаточно осознаваемые движения в центральных частях нашей нервной системы?
2. Утверждения, обозначения и проблемы характеризуются тем, что они представлены в форме положений, то есть они, как мы хотим сказать, лингвистически сформулированы. По этой причине мы продолжаем называть эти три составляющие формы нашего знания утверждениями в самом широком смысле или сформулированными суждениями. Итак, «утверждения» в широком смысле – это вопросы, в которых мы представляем проблемы и обозначения, в не меньшей степени, чем утверждения любого рода, поскольку те и другие так же лингвистически сформулированы, как и эти. Способ лингвистической формулировки пока остается неопределенным: утверждения не обязательно должны быть произнесены; они также могут быть выполнены молча или сформулированы письменно, т.е. здесь, прочитаны или написаны. Они также могут быть неполно сформулированы во всех этих формах языка в широком смысле или содержаться только в одном слове предложения. Не обязательно, чтобы они были сформулированы словами; их место могут занимать идеограмматические знаки любого рода, например, алгебраические или стехиометрические [химические расчеты – wp] формулы. Сформулированные суждения также следует воспринимать в более широком смысле, как это делает устоявшаяся традиция. Ведь каждое утверждаемое суждение предполагает или включает обозначения; а проблемы, то есть вопросы в собственном смысле слова, принадлежат к запасу каждой науки в той же мере, что и утверждения и обозначения. Прогресс всей науки зависит от сформулированных проблем.
Утверждения или сформулированные суждения образуют формальные элементы для ткани нашего сформулированного мышления. Таким образом, сформулированное мышление, утверждения или сформулированные суждения являются для нас выражением одного и того же содержания. Здесь использование языка оправдывает ту обширность, с которой мы только что рассмотрели элементы сформулированного мышления. Ведь с незапамятных времен считалось само собой разумеющимся, что обозначения и проблемные вопросы являются формами нашего мышления.
3. Однако не вся научная мысль формулируется. Математик может придумать множество геометрических отношений из двух параллельных прямых, пересекаемых третьей, даже если ни одна точка или угол не обозначены буквой; и он может сформировать множество таких отношений в ходе спокойного размышления, не нуждаясь в лингвистических символах. Например, геолог, наблюдающий за извержением гейзера, или ботаник, изучающий под микроскопом жизненные процессы в клетке, могут приходить к богатым сравнениям и различиям, не имея внутри себя ничего, кроме образов предметов, которые служат для этих умственных операций. Перед историком, стоящим на древнем культурном месте, могут развернуться целые сцены исчезнувшей жизни, протекавшей на этой земле. В такие моменты в сознании исследователя может собраться множество лиц, которые осветят то, что давно искали, или позволят найти неожиданное. Таким образом, это могут быть моменты, когда научное создание поднимается на самый высокий уровень. Тогда мы переживаем в типичной форме мышление, которое мы должны назвать неоформленным в соответствии с его отличием от сформулированного и интуитивным в соответствии с его особенностью. На этом пути мы также находим как утверждения, так и проблемы; на нем нельзя встретить только одни обозначения.
Неразумно судить эти «идеи» или интуиции, которые одинаково возможны как в любой области научной мысли, так и во всех видах нашего рукотворного творчества, так сурово, как это иногда делал Лессинг (в конце «Гамбургской драматургии»). Но также несомненно, что они не несут в себе ни малейшей гарантии того, что являются обоснованными утверждениями или истинными проблемами. Если мы хотим быть уверенными в их истинности, мы должны их исправить, разложить на составные части и посмотреть, выдерживают ли они обоснование. Для всего этого, однако, нам нужны утверждения в указанном выше общем смысле. В целом, мы можем зафиксировать наши мысли, только изолировав их, а для этого нам нужны слова или идеограмматические знаки, которыми мы их символизируем. Мы можем анализировать их, только давая отчет о том, что говорится и о чем говорится, то есть оформляя их в высказывания. И мы можем проверить их на истинностное содержание, только выводя их из данных, через которые они устанавливаются как следствия. Если это выведение ведет за пределы существования настоящего восприятия, если мысль не просто суммирует компоненты некоторого перцептивного содержания сравнительным или различительным образом, то каждое такое рассуждение, если мы хотим обеспечить силу его аргументов, также должно быть сформулировано в утверждениях. Интуитивное мышление, таким образом, при всех этих условиях переходит в мышление сформулированное. Если мы хотя бы попытаемся передать то, о чем думали интуитивно, этот переход в языковое мышление будет очевиден. Таким образом, интуитивные суждения становятся элементами научного мышления только в результате их формулирования.
Поэтому мы можем сказать: вся наука происходит через мышление, и, принимая одну часть за целое: вся сообщаемая наука происходит через сформулированное мышление. Отсюда следует, что, как и выше, так и далее, мы можем говорить об интуитивном мышлении только в форме сформулированного мышления, и что последнее является предметом логического исследования только в той мере, в какой оно может быть представлено в высказываниях. Поэтому там, где в дальнейшем речь идет о мышлении без дальнейших добавлений, всегда имеется в виду именно сформулированное мышление, осуществляемое в предложениях.
4. Не всякое мышление, однако, является научным. Даже ненаучное мышление может быть интуитивным: в поэтических представлениях о личностях, ситуациях и действиях, в практических комбинациях политика или крупного дельца, даже в возвышенных настроениях и внутренних образах тех, кого не трогает ни намек на научное мышление. Совсем не в природе интуитивного мышления то, что присущее ему внимание направлено на великие или общие вещи, хотя в этой «экстатической» форме оно, вероятно, наблюдалось исключительно как «созерцательное» мышление, впервые изложенное в учении Платона о воспоминании. Мы уже находим зачатки сопоставления и дифференциации содержания идей с участием восприятий как у детей, не достигших еще понимания языка, не говоря уже о собственной речи, так и у животных, у которых вообще отсутствует развитый язык. Мы можем назвать рассмотренный выше тип интуитивного мышления сверхлогическим или гиперлогическим из-за его фактических содержаний, глубины и силы, из-за продуктивной энергии, которая нередко присуща ему, а также из-за его непроизвольного, непредвиденного характера, который зависит от настроения. Но тогда мы должны также признать только что указанные предварительные стадии как недо- или гипологические. Итак, посредством сформулированного мышления мы более четко отличаем себя от всех других, даже от животных, живущих с нами в сообществе, чем посредством интуитивного мышления.
Ненаучное мышление также может быть сформулировано. Оно встречается в высказываниях не реже, чем научное мышление. Таким образом, мы приходим ко второму делению нашего мышления на научное и ненаучное, которое имеет такое же значение, как и деление на сформулированное и интуитивное.
5. Исходным пунктом для всех видов мышления, включая сформулированное научное и ненаучное, являются предметы, которые даны нам в восприятии, чувственном восприятии или самовосприятии (наших эмоциональных и образных процессов, а затем и волевых процессов). Мышление вообще происходит со всеми этими предметами, как мы хотим сказать условно, в сравнении или различении. Предметы, таким образом, мыслятся путем сравнения или различения. Однако мысленное определение воспринимаемых предметов и производных от них (вспоминаемых и т.д.) происходит в ненаучном мышлении иначе, чем в научном. Там мысленное упорядочивание предметов происходит по их наиболее заметным признакам, элементам и отношениям. Этнологические лингвистические данные, психологические соображения и этимологические выводы о примитивном значении старых слов позволяют утверждать, что в первоначальной картине мира доминируют вышеупомянутые детерминации, которые больше всего навязывают себя чувственному восприятию, а далее самосознанию, своей силой, частотой и т.д., или которые привлекают внимание своей аффективной ценностью, то есть своим значением для удовольствия и неудовольствия, страха и надежды, делания и неделания. В примитивном мышлении, которое еще свободно от научного рассмотрения, этот порядок обычно устанавливается непроизвольно и, как правило, простирается лишь настолько, насколько его ведут практические потребности повседневной жизни. Для этих целей он должен ориентировать нас на то, что реально. Если мы придадим слову «яркий» дальнейшее значение, выходящее за рамки простого пространственного, что оно обобщает все эти ближайшие способы определения, тогда мы можем назвать результат ненаучного мышления, в соответствии с содержанием и целью, практическим мировоззрением.
Перед научной мыслью ставятся другие задачи; соответственно, она приводит к иному взгляду на мир. Его исходный пункт действительно тот же; но в его высказываниях мы стремимся получить общезначимые определения о природе и отношениях предметов, которые предстают перед нами в восприятии или могут быть выведены из этих непосредственно данных содержаний сознания. Осуществляемый им порядок предметов вытекает, следовательно, не из наиболее бросающихся в глаза определений, которые навязываются непроизвольно и поэтому подсказываются родным языком, а из тех, которые возникают как особенные или общие из тщательного наблюдения, снабженного всеми средствами методического исследования, а также из необходимых требований нашего мышления. Физико-химический анализ воды, например, зоологический анализ кита, исторический анализ условий, приведших к началу первой силезской войны, дают определения, имеющие мало общего с теми, которые бросаются в глаза. Научное упорядочивание предметов возможной мысли направлено, таким образом, не на практические потребности представляющего субъекта, а скорее на конституцию и отношения самих предметов. Научное мышление или знание является, в соответствии со своей целью, общезначимым суждением. Если мы хотим кратко описать эту особенность научного мышления, то можно сказать, что оно ведет к теоретической разработке представления о мире.
6. Практическое мировоззрение и теоретическое мировоззрение – это показательные типы, такие как единственные, казалось бы, фиксированные типы организмов и формы государства, которые связаны друг с другом плавными переходами. Второе развилось из первого и остается в неразрывной связи с ним даже по мере своего становления. История научной мысли показывает, что ее первый корень лежит в потребности жизни. В ходе развития практических потребностей она требует все более тщательного умственного определения фактов. Само знание, однако, является силой, которой свойственно продолжать расти благодаря самой себе. Второй корень научной мысли, который зарождается медленно, но затем быстро крепнет, лежит в нашей потребности в причинности. Это, можно сказать, пока что основано на свойственной уже началу мышления неугомонности требовать удовлетворительных ответов на все вопросы, которые позволяет поставить уже приобретенное мышление, даже если они не имеют непосредственного практического значения, и даже если ответы, в результате недостатков существующего знания, скорее притворяются удовлетворением, чем гарантируют его.
В развитии как целого, так и отдельного человека, эта потребность в причинности сначала почти исключительно питается и направляется эмоциями, вызываемыми борьбой за существование в человеке, который еще бессилен, но призван властвовать. Таким образом, она изначально находится на службе религиозной жизни воображения и чувства, которая доминирует над практическим мировоззрением. В этом служении она ведет к объяснению происхождения и хода природных событий, а также судеб людей и народов, в той мере, в какой они движут разумом или переплетаются с движениями разума, возникшими иным путем, под влиянием человекоподобных и в то же время сверхчеловеческих существ. История всех стадий религии, от фетишизма до многообразных форм монотеизма, показывает, насколько глубоко антропопатическое толкование причинности укоренено в потребностях человеческого разума.
Именно эта потребность в причинности приводит к науке, где, отстраняясь от этой обслуживающей роли, она делает возможным вопрос о том, какова закономерная связь реальности. Мы удивляемся реальному там, где мы, ища ответ, задаем этот вопрос. Таким образом, удивление, которое уже Платон и Аристотель назвали началом философии, становится началом научной мысли как излияние потребности в причинности, ставшей самостоятельной и потому, хотя и только для нашего воображения, а не для всего нашего существа, «лучшей части человечества».
Теоретическая картина мира, однако, не только развилась из практического мировоззрения, но и никогда полностью не отрывается от почвы, которой она обязана своим происхождением. Наше знание никогда полностью не проникает в те предметы, определение которых от него зависело. И это не только потому, что задачи науки везде ведут к бесконечности, но и потому, что почти все предпосылки, из которых исходит наше теоретическое мышление, имеют лишь кажущуюся общепризнанную силу: в той мере, в какой они незаметно вытекают из практического мировоззрения. Все отдельные науки, как мы увидим, в действительности имеют общие самоочевидные предпосылки о бытии и связи реального и нашего мышления. Те из этих наук, предметы которых тесно связаны с нашими эмоциональными потребностями, например, исторические гуманитарные науки, не в состоянии даже отделить свой запас знаний, не говоря уже о неизбежно связанном с ними оценочном суждении о своих предметах, от субъективных условий, укорененных в практическом мировоззрении. Наконец, для философии, т.е. для всех попыток научного общего представления о реальности, то же самое относится к каждому из двух последних аспектов.
Чистые примеры практического мировоззрения, с другой стороны, перестали находить. Скорее, его можно лишь создать ненатуральным и неопределенным образом, путем теоретического мышления. Многочисленные результаты и некоторые методы нашего знания влились в практическое мышление культурных народов по тысяче каналов, широким потоком через преподавание, и во многих случаях стали общеизвестными. Если в той зависимости, о которой говорилось выше, наблюдается отставание теоретического мировоззрения от задач общезначимого мышления, то отсюда следует, что практическое мировоззрение давно уже содержит условия, выходящие далеко за пределы непосредственных практических потребностей.
7. Из того факта, что существуют нормативные гуманитарные науки, такие как этика и юриспруденция, не следует никакого возражения против вводного утверждения этого параграфа, что формальные элементы научной мысли могут быть прослежены до утверждений, обозначений и проблем. Все нормы нашей социальной жизни – это прежде всего типы утверждений, не того, что есть, а того, что должно быть. Затем все эти нормы, например, закона, обычая или морали, становятся объектами научного мышления только через попытку получить строгие формулировки и обоснованные утверждения об их существовании и фактической связи друг с другом, а также об их источнике.
Исходя из того, что наши знания часто, а некоторые науки – безусловно, служат практическим целям, нет никаких возражений против утверждения, что результатом научного мышления является теория познания мира. Даже то знание, которое проистекает из чисто теоретических потребностей и руководствуется исключительно такими потребностями, имеет свое назначение не само по себе, а в развитии нашей социальной, в конечном счете, этической культуры. Знание не только фактически является властью, но оно призвано быть властью. Из этих отношений знания к практической жизни возникают технические или практические науки, которые образуют переход к искусству в широком смысле: например, технологические дисциплины общих, физико-химических наук, различные виды сельскохозяйственного управления и культурной технологии, клиническая медицина, практическая юриспруденция, педагогика. Задача всех этих наук – адаптировать социальную культуру к достижениям научной мысли. Но то, что делает все эти отрасли педагогическими науками, – это всего лишь теоретические знания, составляющие их основу. Таким образом, научная мысль используется в них для практических целей, но не так, что она приспособлена к этим целям, а так, что эти цели формируются в соответствии с этим знанием.
8. В силу этих вводных положений, что мышление в логическом смысле есть пропозициональное суждение, слово «мышление» приобретает более строгое значение, чем общее, и более узкое, чем ему часто придает научное употребление языка.
Практическое употребление языка склонно называть мышлением всякий процесс представления, который выходит за пределы познавательного содержания простого восприятия, например, простого воспоминания. С другой стороны, он исключает из мышления те высказывания, в которых мы просто формулируем текущее перцептивное содержание, перцептивные суждения, которые позже будут названы собственно перцептивными.
Логическое определение мышления как пропозиционального суждения восходит к Аристотелю. Однако, следуя его учению, пропозиции обычно односторонне связываются с разговорным языком и ограничиваются ассерторическими высказываниями, тогда как здесь язык понимается в самом широком смысле, а обозначения и вопросы классифицируются как пропозиции, которые также берутся в самом общем смысле.
Глава 2 Задача и предпосылка научного мышления
9. Знание – это, в соответствии с его целью, общезначимое суждение. Поэтому формальные элементы научного мышления – утверждения, обозначения и проблемы – с этой точки зрения не упорядочены и не согласованы. Имена выступают как логически сформулированные предпосылки утверждений; вопросы, т.е. адекватные формулировки проблем, являются точками перехода к утверждениям. Только утверждения могут обладать общей обоснованностью или, как будет показано, истиной в собственном смысле слова. Отсюда вытекает не только смысл привычного ограничения пропозиционального суждения этими формальными элементами логического мышления, но и понимание старой мысли о том, что знание не может быть ложным.
Соответственно, задачей научного мышления является определение с помощью общезначимых суждений предметов, которые даны нам в ощущениях и самовосприятии или могут быть получены из этих источников. Это относится и к математическим наукам. Ведь сами предметы чистой математики, многообразия и величины, выводятся как абстрактные мысленные сущности из запасов нашего восприятия; их определения, однако, не суммируют перцептивные содержания органов чувств, а представляют собой умственные операции, которые содержатся во всех возможных определениях перцептивных содержаний. Поэтому математические утверждения также служат, как и утверждения наук о фактах, только не прямо, как эти, а косвенно, определению реального. Поэтому мы можем также сказать: задача научной мысли – получить упорядоченную систему общезначимых суждений о реальном, мысленный образ существующего.
Этой задаче служат также суждения, которые не могут претендовать на общую, а только субъективную обоснованность: «Моя оптическая память дает четкие образы форм, менее четкие – цветов; мое молчаливое сформулированное мышление – это внутренний слух». Они служат, в частности, для ограничения поспешных обобщений и по этой причине включены в приведенные выше виды.
Существуют также различные типы общезначимых суждений. Общезначимое суждение является denknotwendige, если соответствующее отрицающее суждение является denkunmöglich: «Дважды два – четыре (дважды два не равно четырем)». Только эмпирическая общезначимость присуща утверждениям, которые просто формулируют существующий запас восприятия или обобщают запас опыта, обеспеченный повторными восприятиями: «этот осадок растворяется в серной кислоте; все рассмотренные до сих пор планетарные орбиты являются эллиптическими». Только индуктивно общезначимыми являются утверждения, предсказывающие возможный будущий опыт на основе предыдущего: «это тело растворимо в серной кислоте (всегда будет растворяться в серной кислоте); все планетарные орбиты (включая еще не исследованные) эллиптические; этот огонь будет гореть». Такие суждения содержат моменты неопределенности в своих дополнениях и расширениях наблюдаемого реального, то есть в том, что делает их предсказаниями о ненаблюдаемом реальном. Они требуют подтверждения будущим опытом и могут терпеть любые поправки, которые возникают в результате существования будущего противоречивого опыта. Наконец, пробелы в наших знаниях в области фактов обусловливают необходимость суждений, обоснованность которых в настоящее время не может быть обеспечена достаточными наблюдениями и общая обоснованность которых поэтому является лишь гипотетической в более узком смысле: «Недра земли могут быть полыми; некоторые из писем, переданных нам как платоновские, могут быть подлинными».
Общезначимые суждения первых двух типов являются истинами, необходимыми или эмпирическими; последние два типа общезначимых суждений просто формулируют вероятности, причем индуктивные, или вероятности в более узком смысле. Истина, или, как можно сказать в ее пользу, строгая всеобщность нашего знания, является, таким образом, идеалом мысли, который в области наук о фактах никогда не может быть полностью достигнут, хотя бы по только что указанным причинам. Поэтому мы должны сказать: задача научной мысли – получить упорядоченное воплощение истинных и – в той мере, в какой для этого отсутствуют условия, – вероятных суждений о предметах мысли.
10. Решение поставленной задачи предполагающих возможность достижения всеобщего достоверного суждения о предметах мысли.
Истоки этой предпосылки лежат в самоуверенности мысли, которая уже направляет ее первые шаги в практическом мировоззрении, в наивной вере в собственные силы, которая черпает подпитку из каждого подтверждения опытом. Условия желания мыслить содержатся в этой предпосылке в такой же мере, как и в двух эмоциональных корнях научного мышления – потребности и удивлении. В дальнейшем ходе научного мышления актуальное желание мыслить возникает лишь изредка. Чем больше мы погружаемся в исследуемые предметы, тем больше непроизвольно возникает не только интуитивное, но и сформулированное мышление. Если использовать слово воля в неопределенно широком смысле практического мировоззрения, то можно оказаться на зыбкой почве волюнтаристской психологии, если трактовать научное мышление как «произвольное». Его нельзя даже характеризовать таким образом.
Однако, как бы непроизвольно не проникла научная мысль, а вместе с ней и вера в собственные силы: фактичность этой уверенности не оправдывает ее, и даже проверка прогрессом опыта оставляет сомнения. Идея же о том, что, возможно, злой дух водит наше мышление по кругу, возникшая у самого влиятельного из основателей современной философии благодаря схоластической теории о благости Бога, является настолько пустой и неплодотворной, какой она является в версии Декарта. Но нет нужды в подобных возражениях, чтобы привести нас к ошибке в предпосылке о возможности получения общезначимых суждений. Суждения практического мировоззрения могут обрести всеобщую обоснованность только в исключительных случаях. Они становятся независимыми от растущих индивидуальных условий субъекта суждения лишь постольку, поскольку привычка наблюдения стирает такие субъективные особенности и практическая необходимость требует согласованных утверждений. Для построения науки, однако, мы не можем обойтись ни без материалов, ни без инструментов тех хижин, на земле коих она поднимается. Наше научное мышление перемежается с невидимыми предубеждениями, проистекающими из ненаучного мышления. Помимо этих предрассудков практического мировоззрения, существуют предрассудки научной традиции, которые также делают нас, в более узком смысле, детьми своего времени и внуками прошлых поколений. Знание начинается во всех областях со скудных, в области фактов с совершенно неадекватных вопросов и решений проблем. Из этих неадекватных предпосылок часть, наиболее близкая к времени, в каждый последующий период развивается дальше в новые, более глубоко проникающие проблемы и попытки решений, а остальное остается незамеченным, пока не окажется неадекватным для прогрессивного мышления в силу все тех же причин. Более того, прогресс нашего мышления не обязательно является прямым в любой области нашего знания. Удивительно, с какими хитросплетениями приходится мириться нашему мышлению, прежде чем оно отказывается от неадекватной, но очевидной гипотезы, какие обходные пути оно вынуждено предпринимать, чтобы прийти к новому, более правильному вопросу, до какой степени оно может, наконец, пренебречь предостережениями отсталых явлений, которые не могут быть поняты преобладающими гипотезами. Более того, в нашем научном мышлении также преобладает закон противодействия. Многообразные потоки знаний, наполняющие наше мышление, текут в совершенно разных направлениях. Область знания, которая на время покоряет умы глубоким анализом, далеко идущими обобщениями или даже значением таких достижений для практических задач культуры, уносит с собой ближайшие к ней потоки знания, постепенно отдаляясь еще дальше, иногда через поколения, только для того, чтобы уступить место другому аналогичному развитию. В нашей западной истории науки периоды преобладания естественных наук и преобладания гуманитарных наук следуют друг за другом, как приливы и отливы. И каждое такое потрясение требует борьбы нового с существующим. В новейшие времена ход развития науки стал еще более разнообразным, чем раньше, потому что в научных исследованиях участвует большее число народов, каждый из которых берет за отправную точку свои собственные традиции, хотя они в большей степени зависят друг от друга, чем раньше, и могут гораздо более свободно общаться друг с другом. Не только теоретические, но и предпосылки практического мировоззрения становятся более разнообразными и зачастую более скрытыми. Помимо этих двух групп предрассудков среды, которые находят свое выражение не в последнюю очередь в лингвистической традиции, общем языке и научной терминологии, предрассудки индивидуальности оказывают не меньшее дифференцирующее воздействие. Мы не только становимся разными благодаря разнообразию стимулов, которым каждый подвергается в ходе своего опыта, но и рождаемся разными. Поэтому в каждой голове мир рисуется по-разному, а вместе с ним и каждый срез предметов нашего познания. Любая индивидуальность, однако, делает нас односторонними; и именно самые выдающиеся в интеллектуальном отношении люди не могут избежать наложения печати своей индивидуальности на все, что они создают. Поэтому даже в научном мышлении мы не свободны от индивидуализирующих элементов, которые содержатся в практическом мировоззрении. Как и все наше воображение, наше мышление также связано тысячью нитей с нашими чувствами и желаниями. Даже для абстрактной научной мысли есть доля истины в преувеличенном утверждении Юма о том, что наше мышление – раб наших страстей. Мы испытываем это постоянно: «где воля, там и путь» [Where there is a will, there is a way. wp] Действие всех этих условий обнаруживается в истории науки: они заставляют нас принимать неопределенное за определенное, неясно мыслимое за ясно сформулированное; они побуждают нас игнорировать то, что могло бы навязать себя, если бы наше внимание было направлено иначе, и они создают реальности из того, чего мы желаем или боимся. Согласно проникновенным словам Гераклита, они приводят к тому, что спор, не допускающий всеобщности, становится отцом всего сущего. Они развивают в критически настроенных духах то скептическое противодействие науке, которое отрицает всякую возможность знания, в религиозно верующих – то презрение к знанию, которое тормозит исследования; они также заставляют любителя знания в мучительные часы отчаяться в предпосылке, лежащей в основе всякого знания. По этим причинам развитие не только философии, но и всех наук о фактах неоднократно представлялось как история человеческих ошибок – слово, которое мы можем принять, добавив, что оно представляет собой ошибки, лежащие на пути к истине. Но даже если бы все эти опасения и возражения против возможности знания никогда не омрачали спокойствия мысли, предположение о возможности знания потребовало бы исследования условий, при которых и различных форм, в которых мы можем приобретать достоверные суждения, и того, в каком смысле приобретенная таким образом мысль способна постигать то, что существует, что она представляет в свойственной ей манере.
Так возникает идея науки, предмет которой является предпосылкой, общей для всех наук.
Разделение наук
На вопрос о понятии и значении отдельной науки можно ответить только путем попытки систематической группировки всех областей знания. Однако каждая такая попытка классификации наталкивается на препятствия, затрудняющие в значительной мере достижение удовлетворительного решения общих проблем нашего познания. Ведь и здесь вступают в игру все те неуловимые влияния нашей этической и эстетической оценки проблем и их возможных решений. Правда, может показаться, что благодаря абстрактно-формальному характеру вопроса эти влияния нашей воли и чувства, обычно гораздо более действенные с точки зрения содержания метафизических теорем, нежели идейные основы их доказательств, сводятся здесь к минимуму; но эта видимость исчезает, если учесть, что логическая связь отдельных наук интересует нас по существу лишь постольку, поскольку она способна дать нам сведения о значении многообразного ряда проблем для конечных целей нашего усердия. И если эти общие намеки могут оставить какие-либо сомнения, то беглый взгляд на различные попытки классификации, некоторые из которых прямо противоположны друг другу, чему нас учит история философии, разрушит эти сомнения. Рискуя показаться парадоксальным, здесь, как и во всех метафизических исследованиях, можно утверждать, что чем более систематически они разрабатывались, тем больше результаты будут расходиться друг с другом. Ведь почти всегда особенность индивидуальности пропорциональна остроте и, конечно, глубине мысли.
Однако, несмотря на эту неизбежную субъективность результата, данный вопрос относится к числу тех, от которых безнаказанно не может уклониться ни один период. Ведь для каждого состояния знания необходима общая ориентация о взаимоотношениях существующих проблем. И действительно, среди представителей науки, пожалуй, не найдется головы, столь мало нуждающейся в ясности, чтобы в ней не возникли ряды ассоциаций о взаимосвязях отдельных дисциплин, даже если они могут несколько раз принимать форму нисходящего ряда от собственного круга работы как наиболее ценного и необходимого к самому далекому от него как наиболее незначительному.
Столь же очевидным, как и эта незаменимость, является значение таких общих попыток классификации, ибо каждая группировка целых областей знания должна быть подкреплена теми формами обобщения, которые научное сознание того времени рассматривает как наиболее общие. Таким образом, однако, она становится в то же время, независимо от своей неизбежно субъективной окраски, характерным признаком как направления, так и интенсивности научного движения в рассматриваемый период.
Поэтому данное исследование хотелось бы оценивать в зависимости от того, насколько ему удалось использовать для своей цели наиболее общие, данные в настоящее время формы отношений знания.
Отправной точкой нашего обсуждения является определение задачи науки в целом. Перед ней стоит яркий образ мира, который передается нам как нечто непосредственное и законченное благодаря нашему чувственному познанию, как бы сильно он ни был окрашен многообразными, в основном бессознательными влияниями наших ощущений и желаний, причем всех без исключения индивидуальных. Он ищет те смысловые элементы, на которые должен быть разложен готовый образ, чтобы он мог быть преобразован в понятийную систему мировоззрения. Эти воздействия оценок остаются в силе и здесь; однако они должны вступать в силу лишь постольку, поскольку их можно перевести из бессознательных импульсов в сознательные, понятийно обоснованные требования. Поэтому задача науки будет выполнена, когда ей удастся разложить все части этого наглядного представления о мире на элементы этого умозрительного представления о мире, или, другими словами, когда ей удастся вывести, то есть объяснить, эти элементы без исключения как выводы из общих предпосылок, фактически заданных отчасти природой внешних воздействий, отчасти природой нашего собственного познания.
Это определение задачи науки, однако, основано на предпосылке, которая требует дальнейшего обсуждения. Предположение о возможности объединения всех этих элементов в единообразно связанный комплекс понятий, в концептуальную систему, не является самоочевидным. Мотивы, которые первоначально привели к нему, имеют совершенно разную природу и неодинаковую ценность. По большей части они заключаются в реально наблюдаемых, закономерных связях, которыми мыслились даже в самые ранние периоды самые отдаленные элементы представлений о мире, но отчасти и в самом факте ассоциативной совместимости всех восприятий, которая повсюду становится для наивного сознания убеждением в объективной связи всего воспринимаемого, и, наконец, в различных чисто субъективных потребностях ума. Поскольку первые из этих источников, изначально решающие для научной дискуссии, не всегда протекают четко, а в некоторых случаях даже легко иссякают, поскольку вторые сами по себе недостаточны, а третьи часто вообще не признаются источниками из-за их трудноопределимой формы, то понятно, что никогда не было недостатка в подходах к противоположному утверждению. Примерами таких зародышевых точек являются старые, но все еще сохраняющиеся идеи о большинстве последовательных или одновременных миров без какой-либо взаимной связи, а также рационалистическое противопоставление необходимых и случайных истин, сохраняющееся и сегодня в разделении необходимых законов и случайных фактов, которое столь же несостоятельно, сколь и общепринято. Гораздо более значительным, однако, является влияние идеи всеобщей закономерной связи мира. Она играет не меньшую роль в политеистических представлениях, которые осмысленно разрушают кажущееся отсутствие связи между отдельными группами природных процессов, чем в теоцентрических учениях монотеизма. Все те антропоцентрические теории крепнущего, хотя и все еще чувственно предвзятого, научного мышления отводят ему совершенно соответствующее положение. Оно получило свою наиболее одностороннюю, но и наиболее разработанную подготовку через метафизические системы монистического абсолютизма и плюралистического спиритуализма и материализма.
Эти различные формы, которые принимала идея единой связи нашего представления о мире, доказывают так же, как и те разнообразные маскировки, под которыми противоположное утверждение эффективно сохранялось до сегодняшнего дня, что мы имеем дело с предположением, обоснование и значение которого может быть установлено только постепенным развитием всего научного опыта.
Поэтому необходимо указать, в каком смысле эта идея здесь утверждается. К счастью, для нашей цели достаточно придать ей лишь то содержание, которое выражает убеждение, общее для всех научных исследований нашего времени. Поэтому мы предполагаем, что наша идея мира приведет к системе, каждый элемент которой связан со всеми остальными общими закономерными отношениями. Итак, мы придерживаемся только одного, в чем не может больше сомневаться ни чисто спиритуалистически настроенный философ, ни самый осторожный естествоиспытатель, – что даже самые разрозненные процессы, такие как механические и психические, связаны между собой неизменными законами. Соответственно, с одной стороны, мы совершенно не обращаем внимания на то, как эти последние элементы нашей теории должны быть более четко определены, должны ли они мыслиться как абсолютно однородные, например, как материальные атомы или духовные монады, или как равные атрибуты, или же они должны мыслиться как разнородные. С другой стороны, мы пока оставляем неопределенным, как нам понимать эту постоянную закономерность.
Однако мы хотели бы отметить здесь одно методологическое требование, которое мы сможем использовать только впоследствии. Если мы можем предположить, что каждый элемент нашей теории связан с каждым другим элементом неизменными (законными) отношениями, то необходимой максимой исследования является утверждение, что мы расцениваем законные отношения элементов, установленные в опыте, как единственно верные, даже в тех случаях, когда приемлемый опыт отсутствует или никогда не может быть получен, в самые отдаленные периоды развития мира, а также в самых отдаленных частях мира в целом, пока прямо противоположный новый опыт или косвенно обеспеченные выводы из старого опыта не заставят нас предположить обратное. Эта максима кажется самоочевидной, пока мы просто рассматриваем ее связь с этой общепринятой предпосылкой; однако достаточно взглянуть на ее реальную действительность, чтобы показать, как мало она соблюдается в деталях. Только в области естественных наук она абсолютно преобладает, но и здесь ее сила датируется лишь признанием закона сохранения энергии и удивительными астрономическими открытиями спектрального анализа. Чем сложнее становится материал познания, чем меньше, соответственно, существует твердая основа подобных убеждений, тем больше она теряет влияние, о чем лучше всего свидетельствует один пример многообразных гилозоистических [материя живет – wp] и чисто спиритуалистических спекуляций современности. Следствия этой максимы, которые возникают как в отношении распространения индуктивно обеспеченных законов, так и в отношении отказа от странных спекуляций, поэтому отнюдь не являются столь общепризнанными, как можно было бы ожидать от этой самоочевидности общепризнанного предложения.
В настоящее время, однако, нас интересуют только те последствия, к которым приводит это более четкое определение задачи наук в отношении их классификации. Ведь если мы вправе предположить, что вся совокупность знаний будет соответствовать системе понятий, каждый элемент которой закономерно связан со всеми остальными, то мы можем также утверждать, что все отдельные науки являются лишь членами одной и той же общей науки, в которую они вписываются тем больше, чем больше они сами прогрессируют. Поэтому каждая отдельная дисциплина, в идеале, неразрывно связана с каждой другой. Она образует организм со всеми остальными, а не систему, отдельные части которой могут быть разделены просто в силу большей или меньшей сложности их задач. Поэтому проблема группировки наук совпадает с задачей поиска тех форм группировки, которые могут иметь наиболее общее распространение.
Однако мы еще не в состоянии назвать критерии, дающие нам право детально группировать их. Мы лишь получили абсолютный критерий для понятия науки в целом: Научным является любое знание, целью которого является поиск общих идейных предпосылок, на основе которых мы можем объяснить конкретные процессы, данные нам эмпирически.
Этот критерий приводит к ограничению нашей задачи. Ведь по тому же критерию из нашей задачи исключаются все те дисциплины, целью которых является не поиск новых понятийных форм познания мира, а адаптация существующих условий жизни общества (взятых в самом широком смысле) к вновь полученным результатам. Таким образом, отсекаются такие области, как педагогика, юриспруденция, техника, медицина и т. д. Ибо отношение к существующим условиям, которое добавляется для этих художественных дисциплин или практических наук, одинаково относится ко всем отраслям знания, поскольку оно везде обусловлено значением знания для практического формирования жизни и, следовательно, в конечном счете, для морального действия. Теоретическая предпосылка всего научного образования, о которой говорилось выше, сопровождается практическим предположением, которое еще меньше отвергается и поэтому еще реже прямо подчеркивается, что ни один научный результат никогда не может противоречить моральным задачам общества, а скорее наоборот, каждая новая истина, если оставить в стороне трудности ее введения, должна, в соответствии с ее общим характером, способствовать моральному благополучию целого. Поэтому каждая часть общей науки не только терпит, но и требует перехода в гуманитарную область. В то же время, однако, ясно, что классификация этих практических наук не может быть такой же, как классификация теоретических наук, которые собственно и должны быть названы таковыми. Ни количество, ни расположение гуманитарных дисциплин не будет одинаковым, поскольку причина их классификации лежит в тех практических отношениях, которым они обязательно должны соответствовать.
Мы приблизимся к актуальной задаче поиска критериев разделения наук, как только обратимся к общим чертам процесса становления всех наук. Превращение чувственно данного образа мира в понятийную систему познания мира, составляющее задачу научного познания, происходит, как правило, в два этапа. Ибо понятийные формы, в которые мы преобразуем предметы восприятия, бывают двух видов.
Первая задача, общая для всех наук, состоит в классификации бесконечно разнообразных объектов восприятия или фактов опыта в различные ряды согласованных или соподчиненных родовых понятий. Такими системами классификации являются многообразные попытки классификации природных объектов, грамматические системы языков и т.д., поскольку в них рассматривается только связь содержания или объема отдельных понятий. Сюда же относятся и системы отдельных математических дисциплин. Даже для области психического, в пределах которой нельзя говорить об объектах восприятия и фактах опыта в том же смысле, что и о внешних объектах – мало найдется более неудачных координаций, чем координация внешнего и внутреннего чувства, – необходимы такие серии упорядочений, как, например, различные виды аффектов.
Теперь все эти ряды упорядоченности имеют чисто логический характер; они просто дают группировку характеристик отдельных объектов, в наиболее благоприятном случае всех, в большинстве случаев только некоторых особенно подходящих.
Однако наше представление о мире никогда не было чисто логическим. Только однажды, в классической системе рационалистической метафизики, которой мы обязаны Спинозе, была сделана попытка прийти к такому представлению о мире в последовательном ключе. Скорее, мы упорядочиваем все объекты восприятия, в основном психические, в одно и то же время в соответствии с их временной последовательностью. Но мы преобразуем эту последовательность в особую форму ряда, поскольку считаем ее каузальной. В соответствии с этой предпосылкой, психологическое происхождение и эпистемологическое значение которой здесь можно не обсуждать, мы формируем родовые термины для постоянно связанных процессов. Эти родовые термины мы называем каузальными законами. Они составляют единственное постоянное в этих рядах; объекты же, в которых они выражаются, мыслятся как непрерывно изменяющиеся, как процессы. Всякую закономерную последовательность процессов, стоящих во взаимной причинной связи, мы называем" процессами развития». Логический порядок объектов становится, таким образом, причинно-следственным порядком процессов. Таким образом, процесс формирования науки в целом состоит в преобразовании логического порядка фактов восприятия рядом или над и между собой в развитие их друг от друга.
Вряд ли стоит говорить о том, что этот процесс необходим не для всех областей знания. Ведь мы еще не касались вопроса о том, весь ли материал знания пригоден для такого преобразования логической упорядоченности [упорядоченности – wp] в каузальную упорядоченность. Ясно также, что этот процесс не обязательно должен происходить с одинаковой быстротой в тех дисциплинах, которые должны ему подвергнуться. В области психических процессов постоянство отдельных фактов настолько незначительно, что чисто логическое представление о них могло бы закрепиться только под чарами особого эпистемологического предубеждения, подобного тому, которое тяготило Спинозу. Поэтому здесь логическая упорядоченность нередко отходила на второй план, но еще чаще, как и в ранних теориях способностей души, она трактовалась непосредственно в каузальных терминах. С другой стороны, потребовалось немало времени, прежде чем в естественных науках произошел поворот от логической классификации к теориям причинной связи. В астрономии, с одной стороны, Кант и Лаплас, с другой – Уильям Томсон, в геологии – Лайель, в биологических дисциплинах только Дарвин разрушил старый предрассудок.
Однако для нашей цели достаточно указать на эти исторические ссылки на это методологическое разделение. Более важными для нас являются те ссылки на него, которые связывают его с общей задачей наук. Они заключаются в том, что совокупность наук предстает как система рядов порядков, каждый член которой, представленный определенной дисциплиной, связан со всеми остальными правовыми отношениями.
Таким образом, мы имеем столько же групп наук для разделения, сколько существует различных видов порядковых рядов.
Вопрос, таким образом, заключается в том, сколько таких рядов мы должны определить, или, говоря более узко, должны ли мы отводить самостоятельную роль логическим рядам ординаций в дополнение к каузальным.
Первое, несомненно, необходимо. Причинная связь возможна только при наличии разнородных элементов; ведь причина и следствие сами по себе не могут быть идентичными понятиями. Если бы, следовательно, все элементы нашей теории должны были быть определены как абсолютно идентичные, мы могли бы только логически упорядочить их, например, в соответствии с их переменными отношениями в пространстве и времени. Кроме того, те элементы, которые предстают как абсолютно одинаковые, могут быть упорядочены только логически. Теперь такие элементы фактически даны нам. И единицы чисел, и точки пространства, и моменты времени, и, наконец, элементы величин вообще считаются абсолютно тождественными. В отношении пространства, однако, кажется возможным сомнение. Возможно, хотя и очень маловероятно, что геометрические измерения на очень маленьких объектах приведут к результату, что мера кривизны пространства не постоянна, а отличается в зависимости от трех измерений, пусть даже бесконечно мало, так что пространство не конгруэнтно само по себе. Геометрическое исследование проблем пространства, однако, и в этом случае возвращалось бы к элементам того же рода, будь то выбор в качестве отправной точки таких частей пространства, для которых эти различия мер кривизны исчезают, будь то использование тех, в которых они одинаковы.
Группировка этих математических дисциплин, т.е. наук об однородных многообразиях, обусловлена различной степенью общности упорядочиваемых отношений. Наиболее общей наукой является изучение величин вообще, которое, как изучение непрерывных величин, становится анализом, а как изучение дискретных величин – алгеброй (теорией чисел). Подчиненными им, но согласованными друг с другом являются, с одной стороны, геометрия, т.е. наука о наглядно данных отношениях непрерывных пространственных величин, а с другой – арифметика, т.е. наука о наглядно данных отношениях дискретных числовых величин.
Природа логической упорядоченности этих дисциплин становится ясной, как только рассматриваются основания, на которые они опираются. Их развитие происходит в форме выведения частного из общего. В качестве фактов им даны наиболее оригинальные свойства величин, выраженные в аксиомах, а в качестве эмпирических идеалов – простейшие понятия конструкции или операции. Их задача состоит в том, чтобы перенести отношения меры или числа, содержащиеся в этих простейших суждениях, на все более сложные случаи и таким образом перейти от самого общего к самому частному. Во всех случаях, однако, речь идет лишь о логическом упорядочении. (1)
То, что эти математические отношения переносимы на другие науки, что помимо только что рассмотренных дисциплин чистой математики существуют также прикладные математические науки, ясно без дальнейших ссылок. Необходимо только, чтобы область сходных отношений могла быть отделена от тех несходных элементов. Однако какие именно науки возникают таким образом, можно показать лишь впоследствии.
Для этого нам сначала нужно понять те точки зрения, которые обуславливают разделение группы наук каузальной упорядоченности.
Здесь мы в самом начале сталкиваемся с неопределенностью, причина которой кроется в выбранной выше намеренно неопределенной формулировке задачи наук в целом. Мы предполагаем, что концептуализация наук приведет к системе, элементы которой все без исключения связаны общими закономерными отношениями. В данном случае это предположение допускает множественное толкование. Ибо вывод о том, что совокупность качественно разнородных элементов, которые поддаются нашей каузальной ординации, может быть организована в единый ряд развития, не является единственно возможным. Не менее возможно, что мы вынуждены предположить большинство таких рядов развития, каждый из которых управляется своеобразными законами, но которые точно так же закономерно связаны между собой. Какое из этих предположений соответствует истине, не может быть определено априори. Результаты эмпирических исследований также пока не приводят к однозначному результату. Поэтому нашей задачей будет определение тех рядов развития, которые с научной, чисто понятийной точки зрения можно рассматривать как самостоятельные. Сколько таких серий развития мы найдем, столько типов каузальных наук мы и согласуем друг с другом.
В пределах этих видов, однако, мы должны провести двойное различие; каждая серия развития дает науке двойной материал. Ибо необходимо, с одной стороны, определить постоянные законы, по которым происходит развитие; с другой стороны, необходимо исследовать изменчивые процессы, в которых оно протекает. Соответственно, каждая серия развития обуславливает два класса наук. Те, которые имеют своим объектом поиск общих законов, мы будем называть формальными науками; те же, которые занимаются изменчивыми процессами, возникающими в результате взаимодействия этих законов, могут быть названы материальными или историческими науками.
Эти исторические науки, наконец, требуют дальнейшего деления. Те переменные процессы, которые составляют их предмет, не всегда легко раскрываются перед научным исследованием как фазы одного и того же ряда развития. История показывает, как часто менялось систематическое положение некоторых дисциплин. В связи с этим мы должны будем отделить столько самостоятельных исторических наук, сколько нам дадут комплексы процессов, которые не могут быть поняты как необходимые фазы одного и того же ряда развития. Отсюда следует, что в силу того, что мы не знаем, как осуществить эту субординацию, мы не сможем показать систематическое место для отдельных рядов процессов. Однако многообразные отношения познания никогда не были настолько скрыты, что любая попытка такой классификации была бы невозможна. В большинстве случаев это обеспечивается тем, что признается действенность одних и тех же общих законов в различных комплексах процессов, но пока не удается вывести один из этих комплексов из другого, т.е. найти переходы, связывающие их.
Если мы теперь обратимся от этих общих объяснений к возможным точкам зрения на разделение самой этой задачи, то нам придется прежде всего определить, сколько независимых рядов развития заставляют нас предполагать действительные характеристики материала познания. Найти причины, которые оказывают такое принуждение, несложно. Они присутствуют везде, где наш понятийный анализ должен признать безусловную противоположность как общих законов, так и конкретных процессов развития. Сейчас существует только одна такая оппозиция – между психическими и механическими процессами. Потребовались тысячелетия, чтобы довести ее до ясного сознания; только благодаря картезиевскому различению мышления и протяженной субстанции она была завоевана. С тех пор философское развитие в течение почти 250 лет тщетно пыталось упразднить его. Если мы хотим быть честными, то и сегодня должны признать, что нам удалось исключить многие ошибки, но мы не намного приблизились к истинным фактам. Не было недостатка в попытках решить эту проблему; метафизика и эпистемология охотно предлагали такие решения. За абсолютистской системой Спинозы последовал спиритуализм Лейбница; материалистическое направление французской философии предыдущего века окончательно исчерпало возможность метафизических решений. Критический реализм Канта, для которого эта проблема уже не стояла на первом плане, стремился выдвинуть ее через эпистемологический развод внешнего и внутреннего смысла. Однако ни одной из этих систем, которые до сих пор лишь варьировались всеми последующими, не удалось найти в целом удовлетворительного решения. Не помогли и последние достижения в области психологических и общебиологических исследований. Известный факт функциональных отношений был установлен гораздо точнее, но это пока только укрепило уверенность в том, что оба ряда развития могут быть разрешены в один. Но относительно природы этого распада мы все еще имеем только гипотезы, из которых ни одна не требует ясно фактов, и каждая из которых, напротив, до сих пор была так мало приспособлена к ним, что может быть удержана только сложными вспомогательными предположениями. По этой причине невозможно принять определенное решение даже в отношении того следствия, которое здесь рассматривается, а именно, в отношении вопроса об упорядоченности обеих черед событий. Ибо каждый из трех возможных случаев соответствует одной из тех метафизических гипотез, в которых по существу определена только их неадекватность фактам. Материализм требует подчинения физических процессов механическим, спиритуализм – подчинения; наконец, абсолютизм выступает за их координацию. Но несколько кратких указаний могут сделать вероятным, что в действительности нет причин, требуемых самими фактами для предпочтения одного из них другому.
Материализм может особенно утверждать, что явные следы психических процессов можно обнаружить только в тех организмах, в которых дифференциация физиологических функций привела к образованию ганглиозных соединений и нервов. Ведь если мы вынуждены предположить, что психические процессы появляются только на поздней стадии механического развития, если мы должны поэтому искать достаточные условия в предшествующей чисто механической стадии развития, то, если мы не хотим прибегать к очень сложным вспомогательным гипотезам, материализм действительно неизбежен.
Против этого вывода, однако, выступают два других обстоятельства, которые, возможно, имеют больший вес, чем факт, который нигде не может быть твердо очерчен, из которого он был развит. Прежде всего, все наши фундаментальные законы физики основаны на предположении, что все силы жизни и напряженности являются просто силами движения; особенно закон сохранения энергии теряет свой смысл без этого предположения. Теперь, однако, даже самый последовательный материалист уже не может утверждать, что воображение есть не что иное, как вид движения. Для него оно тоже должно рассматриваться, по крайней мере, как движение + x. Этот x, однако, требует для своего входа силы, которая может быть взята только из существующих сил движения. Но тогда должны были бы существовать силы движения, которые сами по себе не производят движения. Но это противоречит закону сохранения энергии. Вторым союзником спиритуализма, все еще привыкшим к битве и уверенным в победе, является теория Дарвина, которая не позволяет даже провести такой контраст между неорганическими и органическими процессами, не говоря уже о видах органических существ, который был бы необходим при внезапном вступлении психических процессов в механический ряд развития.
Однако, как только эти соображения начинают использоваться для защиты самого спиритизма, они наталкиваются на факты, аналогичные тем, на которых основывается материализм. Ведь до сих пор не было представлено ни одного фактического доказательства, которое дало бы нам право приписывать психическую жизнь неорганическим телам. Со времен Джордано Бруно было придумано достаточно гипотез, которые пытались объяснить этот тревожный контраст в спиритуалистических терминах, но даже восхитительная поэтическая тонкость Фехнера не смогла сделать пустую возможность низшей или даже высшей духовной жизни более вероятной.
Поведение фактов, по-видимому, наиболее благоприятно для многообразных возможных абсолютистских теорий, поскольку все они могут использовать их для себя, так как темная первооснова Абсолюта, будь то бесконечная субстанция, абсолютный дух, воля или бессознательное, с готовностью предоставляет точки соприкосновения для любой гипотезы. Но эта кажущаяся благосклонность на самом деле является скорее безразличием. Все факты кажутся соответствующими, потому что ни один из них не содержит определенных указаний. Те причины, которые приводят к этой гипотезе, лежат почти исключительно в эпистемологических соображениях. Однако, к сожалению, язык эпистемологии еще более двусмыслен, чем язык фактов.
Поэтому для нашей цели остается только координировать психические и механические ряды развития на основе фактического противопоставления их друг другу, но мыслить эту координацию со всеми оговорками, которых требует эта неопределенность.
Науки, которые должны исследовать ряды развития механических процессов, т.е. естественные науки, теперь делятся на формальные и исторические дисциплины в соответствии с различием, рассмотренным ранее.
Формальное естествознание – это наука о законах развития механических процессов, т.е. о законах движения. Оно включает в себя те дисциплины, которые мы привыкли делить на физические и химические. Однако фактических оснований для такого разделения нет. Оно объясняется только тем, что мы еще не в состоянии определить законом молекулярные движения, управляющие химическими соединениями и разделениями, а только эмпирически знать, при каких условиях происходит то или иное их усложнение. Только механическая теория тепла сделала доступными ограниченные области расчетов.
Поскольку физические дисциплины, следуя за Гельмгольцем, прочно закрепили понятие силы в термине «сохранение энергии» (оно также содержится в английском термине «conservation of energy», который постепенно становится привычным), не лишним будет упомянуть, что с тем же основанием мы могли бы говорить о силах движения вместо законов движения. Ведь мы вынуждены разделить понятие закона движения на компоненты причины и следствия, независимо от того, что мы думаем о происхождении этих понятий, чтобы обозначить порядок следования. Сила и причина, однако, стали синонимами с тех пор, как мы научились признавать, что не можем знать ничего вечного о способе производства.
Разделение физической науки на теоретическую и эмпирическую физику является чисто формальным; оно целесообразно постольку, поскольку исследование того, какие законы движения реально существуют в природе, не совпадает с тем, которое должно объяснить природу и связь этих движений, так что необходимо, чтобы каждое из них было и корректирующим, и направляющим для других. То же самое относится к разделению теоретической физики на кинематику и кинетику, а последней – на динамику и статику (2). Фактическое деление – это деление по типу движений, которые реально существуют. Однако в настоящее время это чисто практически осуществимо только в том случае, если принять за основу эфирную теорию Максвелла, которая до сих пор оспаривается. Тогда, по крайней мере, будет обеспечено общее разделение на молекулярные движения дискретных частей тела и движения непрерывных частей эфира, а также последние уже можно будет определить как электрические, магнитные и оптические на основе гипотез Максвелла о «молекулярной конструкции» эфира, которые так трудно визуализировать.
К этим формальным дисциплинам теперь присоединяются материальные или исторические дисциплины, задачей которых является поиск процессов развития, обусловленных этими законами. Мы можем обобщить их общим термином космология, поскольку со времен Вольфа он почти всегда использовался в более узком смысле, относясь только к механическим процессам. Поскольку здесь, как уже говорилось, мы должны выделить столько самостоятельных дисциплин, сколько существует серий развития, которые еще не могут быть поняты как необходимые фазы одной общей механической серии развития, мы будем переходить от более общих наук к специальным.
Наиболее общей исторической естественной наукой является астрономия, т.е. наука о развитии звездных систем. После предыдущих дискуссий уже нет необходимости подробно обсуждать, почему обычный взгляд на астрономию как на особую отрасль физических наук неприемлем. С одной стороны, восхитительная степень совершенства, которой уже достиг математический расчет отдельных процессов здесь, где очень простые условия движения могут быть приняты за исходную точку, с другой стороны, предрассудок, что особенно в нашей солнечной системе даны относительно неизменные условия движения, породил такой образ мыслей. Кроме того, существовало убеждение, что более обширные эмпирические знания о звездных системах, чем знания об их отношениях движения между собой, всегда останутся для нас закрытыми. Однако ни одна из этих причин не является обоснованной. Тот факт, что изучение гравитационных связей звездных систем до сих пор является основной работой астрономов и, вероятно, останется таковой еще долгое время, свидетельствует лишь о том, что электрические, оптические, химические и т. д. исследования были здесь более трудными, так как они и тогда в значительной степени достигались только спектральным анализом. Предубеждение, что наша солнечная система относительно неизменна, которое обычно переносилось на более общие звездные системы как само собой разумеющееся, должно было быть разрушено теорией Канта-Лапласа. Однако простая мысль о том, что развитие, пока еще существует контраст между актуальной и потенциальной энергией, никогда не может привести к состоянию относительной неизменности, должна была остаться без влияния в то время, когда понятие развития, как и взаимодействия природных сил, все еще мыслилось столь неопределенно. Таким образом, только последствия механической теории тепла опровергли убеждение, которое нашло кажущуюся поддержку в «Mécanique céleste» Лапласа. Поскольку мы должны предположить, что прилив и отлив постоянно уменьшают расстояние Земли от Солнца, что процессы на Солнце, развивающие свет и тепло, постепенно уменьшаются, что, наконец, космос движется к максимуму энтропии, по крайней мере, фактичность непрерывного развития не вызывает сомнений. Это, однако, также закрепляет позицию астрономии как науки о развитии. Закон тяготения, который, в частности, определяет космическое развитие, является предметом физических наук, которые также только сейчас поняли его связь с другими законами природы.
Вторая наука о развитии, которую нам предстоит обсудить, – это геология. Она образует самостоятельную дисциплину наряду с астрономией, так как на данный момент, насколько ее принадлежность к астрономии обеспечена гипотезой Канта-Лапласа, а также следствиями теории тепла, не хватает почти всего, чтобы те исследования, которые мы привыкли называть геологическими, могли проводиться и в отношении других небесных тел. Выше уже указывалось, что только несколько десятилетий назад, благодаря Лайеллу, она получила четкую научную основу. Поэтому его задача – исследовать процессы развития, которые привели наше земное тело к его нынешнему состоянию и которые однажды воссоединят его с веществом Солнца. Вряд ли стоит говорить о том, что изучение далекого будущего, в той мере, в какой оно может быть концептуально осмыслено, является такой же частью наук о развитии и, конечно, не менее поучительно, чем изучение далекого прошлого.
В настоящее время под геологией следует понимать, с одной стороны, неорганологию и, с другой стороны, органологию, так как аналогичные соображения требуют их независимости, как и те, которые мы приводили выше в пользу геологии. Только их взаимные отношения требуют специального обсуждения. Но и здесь достаточно указать, что в настоящее время несомненно только одно: в обеих областях действуют одни и те же физические (и химические) законы, как бы ни менялся характер их взаимодействия. А вот по поводу природы их связи спор мнений в настоящее время стал еще более острым, чем десять лет назад. Обращение к сверхъестественному вмешательству стало невозможным, но провал всех попыток получить органическую клетку из неорганических материалов, как известно, недавно привлек наше внимание к возможности того, что органическая материя так же стара, как и неорганическая, то есть что одна никогда не возникала из другой. Однако теперь кажется, что такая возможность очень маловероятна, поскольку мы знаем больше, чем факт, что такое образование еще никогда не удавалось. Мы точно знаем, что развитие неорганических веществ в органические относится к периоду, когда существовали (химические и) физические условия, которые никогда не пытались воссоздать искусственно, и которые даже не могли быть определены в деталях. В этой ситуации более оправданно признаться в своем невежестве, чем ссылаться на гипотезы, для которых геологические факты не дают никакой поддержки. Тем более что, похоже, искусственное получение так называемых неорганических клеток может дать больше информации, чем можно было предположить после первой оценки. В любом случае, из всего этого следует, насколько мы еще далеки от того, чтобы понимать органическое развитие как необходимую фазу более общего неорганического.
Что касается обеих наук в частности, поразительно, что неорганология или минералогия является дисциплиной, которая меньше всего продвинулась за пределы того состояния чисто логической классификации, которое мы характеризовали ранее. Систематическая группировка в минералогических системах все еще имеет почти чисто логическую природу. Ибо даже химический состав сам по себе не приводит к созданию развивающейся системы.
Однако органология не так долго пользовалась своим преимуществом генетического порядка своих объектов, чтобы гордиться им. Более того, до сих пор ей удалось установить лишь то, что развитие всех организмов происходило от простейших до ныне существующих многообразных дифференцированных форм, и что наиболее общие основы этого развития следует искать в фактах наследственности и адаптации. Так называемый биогенетический основной закон Генкеля также хотел бы, чтобы ему позволили требовать такого признания. С другой стороны, однако, беспристрастный анализ, по-видимому, признает, что общие условия этого развития, составляющие содержание теории отбора, далеко не так достаточно известны, как это хотели бы признать восторженные последователи великого зоолога. Наконец, что касается третьего пункта, который принимается во внимание для оценки этой эпохальной серии мыслей, – систематической группировки организмов по их происхождению, – то Генкель, единственный, кто осмелился сделать такое заявление, сам с самого начала напомнил нам, что это только первая попытка. Однако это понимание исторически очевидных недостатков новой теории не может помешать нам увидеть в ней прогресс, который ни в коей мере не уступает по важности теории Коперника. Антропоцентрический предрассудок, от которого мы должны полностью освободиться, несомненно, имел большее значение для нашей идеи мира, чем геоцентрический предрассудок, от которого наука избавилась после Коперника. Заслуживает упоминания только один момент, который особенно ярко освещает наше сравнение формальных и исторических наук, а именно: странное предубеждение, которое отстаивают некоторые выдающиеся дарвинисты, следующие материализму, будто из теории происхождения как таковой можно сделать выводы, исключающие любую из возможных метафизических систем. Против этого достаточно одного напоминания, а именно, что ни один из так называемых законов развития не является более чем предварительным обобщением, которое в конечном итоге указывает на чисто механические законы движения. Факты наследственности и адаптации становятся понятными только тогда, когда нам удается найти законы движения, которые определяют соответствующие положения органических молекул. С этим, однако, все метафизические выводы упираются в ту проблему, на неразрешимость которой мы уже указывали выше: связь между движением и зачатием все еще остается непонятой.
Здесь нет необходимости вдаваться в дальнейшее разделение биологических дисциплин; это само собой разумеется из того, что было сказано до сих пор.
Нам достаточно указать на то, как неопределенность координации механических и психических процессов, о которой говорилось выше, находит свое выражение в одной из этих конечостей. Физиологические дисциплины биологии обязательно ведут к тому, что в первую очередь психические процессы присутствуют как значимое средство борьбы за существование, в антропологии даже к тому, что это средство обеспечивает распространение и господство на всей поверхности земли. Кажется само собой разумеющимся, что из этого следует, что естественные науки должны рассматривать все гуманитарные науки просто как особые подразделения биологии. Однако в действительности этот вывод оправдан только при условии истинности материалистической гипотезы. Только та односторонность, которая неизбежно следует за увлечением новой идеей, может привести к убеждению, что спиритуалистические или абсолютистские системы подвержены влиянию теории происхождения.
Таким образом, несмотря на эту уступку биологическим дисциплинам, и несмотря на признание того, что их метод должен стать наиболее важным для изучения этнологических и даже, в обычном более узком смысле, исторических вопросов, мы можем придерживаться нашей координации психических и механических процессов в том смысле, который был намеренно оставлен без определения.
В гуманитарных науках, которые мы сейчас рассмотрим, мы также должны проводить различие между формальными и историческими дисциплинами в соответствии с тем, что было сказано ранее.
Общей формальной психической наукой, т.е. наукой о законах психических процессов развития, является психология. Поскольку свести ее к элементарным процессам, как, например, сведение движений к законам притягивающих и отталкивающих сил, еще не удалось, деление ее возможно только в логическом порядке. Те виды психических процессов, которые даются самонаблюдением как различные по содержанию, – это процессы воображения, ощущения и желания. Ни одна из попыток вывести один из этих типов как частный случай других, как мне кажется, до сих пор не увенчалась успехом. Следует, однако, подчеркнуть, что только различие в содержании этих рядов процессов должно быть выражено нашей координацией. Возможность генетической связи между двумя из них не исключается, так же как и не следует утверждать, что один из этих рядов процессов не особенно отличается от двух других. Что касается воления, которое, как мне кажется, не может быть непосредственно дано в содержании так же, как чувство и воображение, то я считаю это даже весьма вероятным, чтобы не сказать несомненным.
Это сходство между положением психологии в гуманитарных науках и положением физики в естественных науках делает необходимым кратко обсудить отношения между ними.
Факт функциональных связей между механическими и психическими процессами требует научного исследования, которое должно рассматриваться как самостоятельное до тех пор, пока не удастся объединить оба ряда развития в один. Поэтому в настоящее время эта наука, для которой мы выбираем значительное название психофизики после прогресса Фекнера, образует самостоятельную дисциплину. Она останется таковой, если окажется, что одна из абсолютистских гипотез метафизики востребована фактами. Если же спиритизм окажется верным, то он станет частью психологии, как и вся физика и естествознание в целом. Ведь тогда все механические законы также должны быть психически выводимыми, поскольку психические процессы содержат свои достаточные причины. Ибо я не могу найти ни одной эпистемологической причины, которая позволила бы нам убедиться в необходимом незнании в этом вопросе, который Лотце пытается обосновать с большой проницательностью. Столь же очевидно, что материализм, если он в конечном счете останется победителем, сделает психофизику, как и психологию (и исторические гуманитарные науки), частью механики. Кстати, я не считаю возможность математической обработки психических законов исключенной в любом случае; ее необходимость кажется мне даже гарантированной фактом функциональной связи.
Однако это сходство между двумя дисциплинами, физикой и психологией, не исключает далеко идущих различий.
Психология учит, что наше познание ведет к самосознанию, которое позволяет нам не только отличать себя от других объектов, как это делают все органические существа, но и размышлять о нашем отношении к этим объектам. Естественные науки относятся к механическим процессам как к чему-то, что дано само по себе. Психология делает то же самое в отношении психических процессов; она изучает их закономерную связь друг с другом и с механическими процессами без учета их обоснованности. Теперь, однако, эти психические процессы предстают одновременно как действительные: воображение как признание вещей, желание как поведение по отношению к вещам, чувство как оценка вещей. Эта действительность психических процессов – второй факт, который не известен ни одной из обсуждавшихся до сих пор наук. Он требует своего собственного исследования. Необходимо определить, какое право имеют психические процессы на это утверждение, которое настолько самоочевидно для обычного знания, что, например, в отношении воображения, оно вообще не делает различия между психическими процессами как таковыми и этими процессами как познаниями.
Однако эти три типа ментальных процессов слишком несхожи, чтобы рассматривать их вместе в рамках одного исследования. Поэтому мы выделяем в качестве самостоятельных дисциплин учение о познании, о нравственном поведении (этика) и об оценке (эстетика).
Мы привыкли называть эти науки нормативными, ограничивая учение о познании логикой. Мы можем принять это выражение, не принимая в то же время того смысла, который часто с ним связывают. Не будет ошибкой сказать, что эти дисциплины исследуют те законы, которым должны следовать наше познание, желание и чувство, но в то же время следует признать, что эти законы не теряют тем самым ничего из своего эмпирического характера. Они также относятся только к фактам. Признание также охватывает определенную группу действительных отношений нашего воображения, подобно тому как нравственное поведение и эстетическая оценка выделяют из всего нашего действия и чувства определенные члены. Все эти законы могут стать нормативными, только будучи фактическими. Здесь, особенно соблазнившись чисто интеллектуальной версией этики Канта, человек сам себе создал трудность, для которой факты не дают повода. Психология дает нам ряд законов, которым следует наше мышление, чувство, желание. Среди этих законов опыт учит нас распознавать те, сознательное соблюдение которых делает нашу психическую жизнь единодушной в самой себе. Обсуждение этих законов приводит к правилам для нашего мышления, к принципам для нашего морального поведения, к нормам для нашей оценки.
Только первая из возникающих таким образом нормативных дисциплин – учение о познании – требует более пристального рассмотрения. Мы различаем форму и содержание в нашем познании, отделяя вид порядка от (количественно или качественно иного) упорядоченного. Из этого вытекают две различные нормативные науки о познании:
1) логика, т.е. учение о правилах, которым должно следовать наше мышление, чтобы стать единообразным по форме;
2) эпистемология, т.е. наука о правилах, которым должно следовать мышление, чтобы стать единодушным в своем (общем) содержании.
Первая учит методам открытия и способам упорядочения объектов знания; вторая, напротив, определяет супермножества, служащие содержательными предпосылками всего нашего мышления, которые содержатся энтимематически [wp] в каждом суждении каждой науки. Ибо в каждом из этих суждений мыслится существование (или не-существование), а значит, и отношение вещи к нашему собственному познанию.
Логика, как и эпистемология, вступает, таким образом, в особые отношения со всеми другими науками, не исключая психологию, этику и эстетику. Ибо все последние исследуют познавательное содержание наших идей, вторые – познавательную ценность, которая им всем приписывается. Первые рассматривают идеи по их содержанию как объекты и процессы, вторые – по их форме и смыслу как высказывания нашего познающего субъекта. Первые обрабатывают идеи как самостоятельные объекты, вторые – самостоятельные объекты как идеи. Таким образом, они обсуждают, можно сказать, общие субъективные базовые понятия всех наук. То, что они одновременно стоят как нормативные дисциплины в более тесной связи с этикой и эстетикой и как формальные психические науки исходят из психологии как общего источника для всех нормативных дисциплин, не умаляет этой связи, обусловленной особым положением познания среди видов психических процессов. Еще меньше трудностей можно найти в том, что эпистемология, изучающая наиболее общие содержательные предпосылки нашего познания, принадлежит к формальным гуманитарным наукам. Ибо эти надмножества имеют дело с законами, определяющими отношения познания к его объектам.
Если бы это описание претендовало на полноту, нам пришлось бы теперь попытаться детально разделить исторические гуманитарные науки. Однако эта не совсем простая задача, точки зрения на которую, кстати, можно легко вывести из данного представления формальных гуманитарных наук, как и группировка художественных дисциплин, кратко упомянутая ранее, лучше приберечь для специального труда, чтобы уже сейчас подвести итог предыдущим рассуждениям.
Хотя наши рассуждения разделили общее поле наук, их задача не была выполнена. Понятийная система, которую должны разработать науки, должна представлять собой единое целое. Однако работа отдельных дисциплин всегда будет носить фрагментарный характер, оставляя большие пробелы как внутри каждой отдельной области знания, так и между различными областями. Поэтому всегда будет существовать дихотомия между общей потребностью в окончательном знании и содержанием того, что уже известно. С самых ранних времен развития науки эта неотъемлемая дихотомия привела к попыткам гипотетически восполнить эти пробелы в отдельных научных теориях и между ними, чтобы сделать возможной общую систему понимания мира. Сами по себе эти попытки нельзя назвать научными, поскольку наука не идет дальше понятийной обработки фактов, которая оставляет пробелы; но они являются необходимым дополнением к наукам, поскольку те требуют обобщения своих теорий в единую систему представлений о мире. Именно тот же импульс, та же потребность в причинности, которая породила отдельные науки, приводит к этим гипотетически убедительным попыткам. Поэтому они неизбежно относятся к каждому разделу области знания. Областью этих гипотетических попыток решить общие задачи познания является метафизика. Метафизика, следовательно, не может претендовать на название науки. По своей природе она никогда не может стать таковой; она всегда должна оставаться гипотетической. Поэтому она никогда не может стремиться исправить результаты конкретных наук; корректором для них являются исключительно факты опыта. (Само собой разумеется, что каждое общее наблюдение дает возможность найти точки зрения, которые могут прояснить значение отдельных результатов, но это не относится к данному случаю. Более того, эта негативная коррекция несравненно более бессмысленна, чем позитивная коррекция фактами). Напротив, все специальные дисциплины являются прямым корректором метафизики, факты – косвенным корректором. Допустимы только те дополнительные гипотезы, которые не противоречат научным теориям; из возможных гипотез наиболее вероятны те, которые наиболее приспособлены к только что достигнутому состоянию знания. Поэтому каждый прогресс науки является для метафизики шагом назад в том, что касается сферы ее применения, поскольку влечет за собой сокращение ее территории; с другой стороны, в том, что касается ее содержания, он является в то же время прогрессом, поскольку влечет за собой исправление ее гипотез.
Поскольку метафизика, таким образом, не порождается ни содержанием того, что известно, ни потребностью знать, то понятно, что на ее гипотезы влияют не только теории науки, но и потребности чувства и требования нашего морального поведения. Эти субъективные влияния всегда обратно пропорциональны влиянию фактов. К этой общей причине, однако, добавляется особая, состоящая в том, что импульсы к суммарному метафизическому выводу никогда не носят чисто теоретического характера, но в то же время обусловлены очень живыми моральными и эстетическими требованиями. Проблема, к которой в конечном счете ведет все наше мышление, – это вопрос о положении человека в тотальности бытия. Для этого, прежде всего, нам нужен этот гипотетический вывод нашего знания. Но мы хотим осознать это положение человека, чтобы найти цель для нашего стремления. Мы должны стремиться не для того, чтобы стремиться, а для того, чтобы реализовать благо. Поэтому именно различные потребности разума, то есть нашей воли и чувства, придают метафизике характер фундаментального контраста концепций. Одного ее положения по отношению к наукам достаточно, чтобы объяснить самые общие противопоставления материализма, спиритуализма и абсолютизма, о которых говорилось выше. Только благодаря этому своеобразному положению по отношению к тому, что мы хотим и чувствуем, мы получаем достаточное основание. Если заменить метафизику на философию, то в часто обсуждаемом предложении Фихте: «Выбор философии зависит от того, что за человек», – содержится меткая истина. Ибо Фихте никогда не сомневался, что этот выбор обусловлен в то же время общим направлением духовной жизни того или иного времени.
Однако даже эти соображения не исчерпывают особого положения метафизики по отношению к наукам. Ее отношение ко всем дисциплинам не является формально-гуманитарным, как к любой другой.
Поскольку разрыв между психическими и механическими процессами, который психофизика стремится заполнить неспешной эмпирической работой, составляет одну из ее главных проблем, то воздушные мостики, которые ее гипотезы наводят через этот разрыв, должны искать почву прежде всего в результатах этой науки, работа которой, кстати, лишь отчасти состоит из сенсорно-физиологических исследований; сравнительное обсуждение психического развития даже низкоорганизованных животных, а также особенно обсуждение условий первого чувственно воспринимаемого возникновения оного, также предлагают ей всеобъемлющие и большие задачи. Этика и эстетика являются также посредниками тех влияний, посредством которых наш разум определяет направление метафизических исследований. Наконец, она находится в совершенно особых отношениях с эпистемологией. Последняя, как мы видели, обсуждает субъективные фундаментальные понятия всех наук, то есть законы, регулирующие отношения познания к вещам; метафизика же стремится определить объективные фундаментальные понятия, то есть законы, регулирующие отношения всех процессов друг к другу, гипотетически дополняя и связывая в систематическое целое уже научно установленные. Если не принимать во внимание тот факт, что коррелятивная связь между одной наукой и гипотетическим дополнением всех наук в принципе невозможна, то для обозначения этого контраста можно сказать, что метафизика является объективным коррелятом эпистемологии.
Не будет лишним подчеркнуть, что эта теория метафизики говорит совсем не то же самое, что обычная теория, когда она возлагает на нее задачу рассмотрения «невидимых фундаментальных понятий», «наиболее общих принципов», «квинтэссенции результатов» всех других дисциплин. Не может быть мнения, которому представленное мнение было бы более противоположным. В каждой науке есть только те невидимые фундаментальные понятия, которые составляют ее субъективные основы. Однако они относятся не к метафизике, а частично к психологии, частично к логике и эпистемологии. Объективные же фундаментальные понятия, такие как понятия материи и силы в формальном естествознании, не являются невидимыми ни для одной дисциплины, но являются объектом непрерывной работы в каждой из них. Хотя эта работа редко выходит на первый план, она, тем не менее, присутствует в каждом отдельном продвижении, поскольку для ее познания также существует единственный метод индукции. По этой причине общий интерес отдельных исследователей лишь изредка может быть направлен на эти конечные вопросы их науки, например, только тогда, когда новая, особенно всеобъемлющая индукция изменяет весь запас знаний. Несомненно, однако, что в результате они очень часто полностью игнорируются в отдельных эмпирических работах; но это необходимое следствие их всеобщности. Их знания не меняются существенно от каждого отдельного открытия.
С другой стороны, однако, ни одна из отдельных наук никогда не может довести до конца свои самые общие проблемы, и в этом отношении каждая из них указывает на метафизику, которая передает ей гипотетические дополнения. Но это говорит совсем о другом, а именно о том, что метафизика должна взять на себя их научное рассмотрение. Эта ошибочная идея неизбежно приводит к тому, что отдельные дисциплины сводятся к эмпирическим источникам, а к ним добавляются метафизические или, как лучше сказать, философские части, которые на самом деле составляют их суть. Таким образом, говорят о философии природы, языка, права и т. д. Более ошибочную теорию, как мне кажется, вряд ли можно придумать. Если что и является эмпирическим знанием, так это метафизика. Она эмпирична, потому что ее отправной точкой являются фактические теории отдельных наук, потому что ее цель – не что иное, как объяснение всех фактов, потому что метод формирования ее гипотез в конечном счете также индуктивен. Даже самые удивительные комбинации, самые гениальные apercus [остроумные замечания – wp], а метафизика никогда не испытывала недостатка в них, являются лишь скрытыми индукциями. Тем не менее, это клиент, поскольку он начинается там, где заканчивается наше фактическое знание. Не менее непонятно принятие этих философских, или, правильнее сказать, метафизических, дополнительных дисциплин к отдельным наукам.
Ибо ни метод, ни задача метафизики не могут быть иными, чем у самой дисциплины, если только не предполагать, что мы можем судить о фактах абсолютно априорно.
Таким образом, хотя мы можем назвать метафизику объективным коррелятом эпистемологии, она не становится наукой наряду с другими или даже над ними. Скорее, она лишь заполняет неясное пространство позади других.
Тем не менее, как следует помнить в связи со второй точкой зрения, она не является расходным или даже вредным объектом исследования. Наше участие в конечных вопросах нашего знания обязательно приносится в жертву целям нашего стремления, и наука как таковая никогда не сможет удовлетворить это участие. «И так действительно», говоря словами Канта, «во всех людях, как только разум расширяет себя в них до спекуляции, некоторая метафизика была во все времена и всегда останется в нем». Само утверждение, что не может или не должна существовать метафизика, является метафизическим по своему происхождению. Но если какая-то задача столь неизбежно связана со всяким человеческим мышлением, то вопрос о том, полезна или вредна попытка ответить на нее, теряет смысл.
Из всего этого следует, что метафизика на самом деле ближе к формальным гуманитарным наукам, чем к любым другим. Это объясняет, почему исторически развитие метафизики тесно связано с развитием формальных гуманитарных наук. Вместе с ними она образует тот комплекс наук, который мы привыкли называть философией. Удивительно яркий свет бросается на историю философии, если рассматривать ее как попытку постепенно разделить эти разнородные элементы, которые смешались в ней, в соответствии с их различным содержанием и ценностью. Со времен Локка формальные гуманитарные науки пытались освободиться от заклятия, наложенного на них очевидно необходимым вмешательством метафизических точек зрения в их научные дискуссии. И даже в настоящее время метафизика ведет себя так, как будто она имеет право на господство над этой наукой.
Эта фактическая связь также означает, что художественная дисциплина, соответствующая метафизике, в то же время опирается на формальные гуманитарные науки. Из комплекса философских наук возникают две гуманитарные дисциплины: во-первых, педагогика, которая основывается на психологии, а также этике (и эстетике); во-вторых, теология, которая также претендует на «интерес общего человеческого разума» к конечным вопросам нашего знания в своих более далеко идущих воспитательных целях.
Таким образом, эта попытка группировки также объясняет то особое положение, которое философские вопросы заняли среди проблем наук.
Примечания
1) По поводу вышесказанного см. мою работу «Аксиомы геометрии», Лейпциг 1877, стр. 135f.
2) Такой порядок обозначений, вероятно, более уместен, чем предложенный Томсоном, который делает динамику коррелятом кинематики, а кинетику – коррелятом статики.
LITERATUR – Benno Erdmann, Die Gliederung der Wissenschaften, Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie, Bd. 2, Leizig 1878.