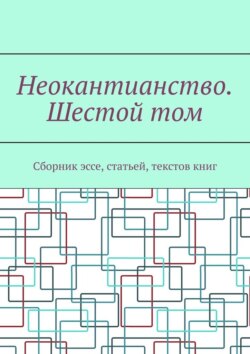Читать книгу Неокантианство. Шестой том. Сборник эссе, статьей, текстов книг - Валерий Антонов - Страница 5
БЕННО ЭРДМАНН
О теории наблюдения
ОглавлениеI. Предварительное замечание
Слово «наблюдение» в настоящее время громко звучит для каждого, кто входит в залы ученых-естественников. Область предметов, которые стремятся охватить научные методы наблюдения, в последние десятилетия значительно расширилась: они проникли не только в отдельные боковые области гуманитарных наук, такие как лингвистика, но и в самое сердце гуманитарных дисциплин, в психологию языка и мышления.
Для определения наблюдения существует ряд тщательно продуманных работ, как в естественных науках, так и в истории гуманитарных наук, как материал для логических размышлений.
Дальнейшая работа была проделана в области, которая в настоящее время является самой влиятельной из наук. Выдающиеся ее представители пытались определить понятие наблюдения. Например, Либиг и В. Томсон в эпизодических дискуссиях, Й. Ф. В. Гершель в подробном, детальном рассмотрении, и прежде всего Гельмгольц в повторных, более глубоких исследованиях. Скрытые бурлящие источники сенсорных наблюдений, воды которых незаметно вливаются в потоки дедуктивного знания, были раскрыты: здесь – развитием психологии сенсорного восприятия; там – исследованием данных наблюдений, которые переплетаются с сетками геометрических умозаключений; в третьих, совсем недавно – попытками вычленить наблюдательные основы механики, которые не менее глубоко проникают в запас наших знаний.
Философское изучение наблюдения лишь медленно следовало за развитием естественных наук. Аристотелевская логика была, по сути, лишь органоном для метафизически-дедуктивного знания. Заявления лорда Бэкона о необходимости наблюдения и основанных на нем индуктивных методах могли лишь поверхностно всколыхнуть застойные воды логической науки. Только Джон Стюарт Милл стремился охватить рассматриваемые проблемы во всей их серьезности, опираясь, в частности, с одной стороны, на теорию причинности Юма, а с другой – на материал «Рассуждения об изучении натуральной философии» Гершеля. Только благодаря его подходу теория наблюдения и, более того, методы индуктивного рассуждения стали составной частью логических учений.
Однако для того, чтобы даже материал для логических воззрений был прочно ограничен, многого не хватает.
Аксиоматические предпосылки геометрии не были даже теоретически освоены математическим анализом, не говоря уже об объяснении их наблюдательного содержания.
Прежде всего, Оствальд пытался разделить беспокойно движущиеся массы нашего физического воображения боевым топором энергии, а ГЕРЦ, напротив, глубоко проникающим и бурлящим снарядом своей кинетики. Если последний, следуя новаторским рассуждениям Роберта Майера, ищет в пространстве, времени и энергии основные понятия для «научной рационализации механики», то второй, углубляя взгляды Кирхгофа, хочет, чтобы пространство, время и масса рассматривались как ее основа. В то время как Оствальд, очевидно, понимает все три понятия как отвлеченные от опыта абстракции, Герц утверждает, что кинематическое обсуждение его основных понятий «остается совершенно чуждым опыту», что высказывания об этих понятиях, содержащиеся в их рамках, являются «априорными суждениями в смысле Канта».
Психофизиологические вопросы о существовании и структуре чувственного восприятия усложняются почти с каждым шагом, сделанным исследователями. В качестве доказательства достаточно сослаться на различия психологических гипотез об апперцепции и о внимании.
Однако во всех этих рассуждениях речь идет только о содержании и конфигурации сенсорного наблюдения. Возможность его смыслового определения гарантируется его реальностью как в практическом, так и в научном представлении.
Реальность самонаблюдения, напротив, оспаривается. Кант уже обвинял его в том, что оно «изменяет и маскирует в себе состояние наблюдаемого предмета». Комте варьировал ту же мысль в более конкретных оборотах. По существу те же самые суждения были позже высказаны различными сторонами, в последнее время особенно Вундтом и, хотя и в ослабленном смысле, Джемсом.
После всего этого понятно, что психологические теории и логические стандартизации наблюдения сильно расходятся.
Нижеследующий трактат призван внести скромный вклад в понимание, попытавшись изложить элементарные компоненты концепции, а также элементарные типы научного наблюдения с учетом логических целей.
II. Определение наблюдения в целом
Без лишних слов мы можем предположить, что помимо и до сенсорного наблюдения, составляющего методологическую основу естественных наук, существует также такое наблюдение, которое несет в себе сенсорную картину мира практического воображения. Мы можем принять реальность самонаблюдения с оговоркой, что ему по-прежнему удается оправдывать свои претензии на то, чтобы быть основой всех гуманитарных наук перед лицом существующих нападок.
Любое наблюдение, можем мы тогда утверждать, основано на восприятии. Однако не всякое восприятие является наблюдением. Первые, неопределенные чувственные восприятия ребенка, первоначальные (примитивные) восприятия, с самого начала исключаются из наблюдения, хотя бы потому, что внимание, которое является необходимым компонентом наблюдения, развивается лишь постепенно. Первоначальные восприятия лишены остатков памяти более ранних восприятий, которые участвуют в каждом восприятии развитого сознания как индивидуально приобретенные диспозиции. Если мы назовем перцептивные функции этих диспозиций апперцептивными, мы должны будем сказать, что все наблюдение основано на апперцептивном восприятии.
Но и не каждое восприятие развитого сознания является наблюдением. Каждый момент бодрствующей нормальной жизни предоставляет нам множество восприятий, предметы которых остаются ненаблюдаемыми в процессе восприятия. В основном это повторные восприятия предметов, которые никогда не наблюдались нами или уже неоднократно наблюдались нами ранее. Как правило, они вливаются в русло потока памяти и воображения так же незаметно, как возникают и существуют в сознании, также незаметно, но ассоциативно закрепляясь. По отношению к этим ненаблюдаемым восприятиям, этому в основном динамичному, редко статичному перцептивному фону нормальной бодрствующей жизни, наблюдение ассоциируется с вниманием, короче говоря, если обобщенно, с внимательным апперцептивным восприятием. Если мы можем без доказательств принять, что внимание во всех его формах тесно связано с репродуктивными процессами апперцепции, тогда мы можем сказать, что наблюдение – это внимательное восприятие.
Даже без более конкретных ссылок на гипотезы, которые я пытался обосновать в других местах, будет ясно, что термин «апперцепция» здесь понимается в существенно ином смысле, чем у Вундта. Особенно в отношении Уильяма Джеймса следует подчеркнуть, что апперцепция, в соответствии с тем, что было указано, должна быть лишь обобщающим словом для обозначения совокупности процессов воспроизведения, возникающих в каждом восприятии развитого сознания. Они возникают потому, что действующий в данный момент перцептивный стимул непосредственно вызывает диспозиции более ранних, индивидуально приобретенных перцептивных представлений о тех же стимулах, а также косвенно вызывает диспозиции ассоциативно переплетенных с ними представлений.
Для нашей цели апперцептивное восприятие можно разделить на два строго различных типа.
Например, кусок стекла, удерживаемый в руке против источника света, оказывается прозрачным.
Тогда возможно, что в перцептивном представлении данного куска стекла, особенно в перцептивной характеристике его прозрачности, содержится только то, что непосредственно воспроизводится из диспозиций более ранних аналогичных стимулов на основе стимульных условий чувства осязания и чувства зрения, существующих в данный момент. Перцептивное представление, таким образом, содержит, в существенном для нас, только чувственные содержания, возникшие в результате слияния этих двух групп условий, возбуждающей перцептивной массы стимулов и возбуждающей апперцептивной массы остатков идентичных более ранних стимулов. Ибо мы можем пока пренебречь словесными восприятиями, которые в таких случаях могут быть косвенно возбуждены, и их предикативным подразделением. Восприятия такого рода можно назвать непосредственными, несмотря на их апперцептивную обусловленность.
Однако в большинстве случаев, и все чаще по мере развития сознания, наши перцептивные представления также включают в себя компоненты, которые в результате ассоциативной связи непосредственно возбужденных диспозиций с диспозициями других, более ранних перцептивных компонентов, воспроизводятся косвенно, т.е. не путем слияния, а независимо. Это независимо воспроизводимое может быть просто бессознательно возбуждено. Оно может быть и сознательно вызванным, т.е. стать интегрирующим компонентом настоящего перцептивного представления как нечто вспомненное. Более того, вспомненное может быть существенной чертой общего представления о воспринимаемом предмете, конденсированного повторными восприятиями. Так, в нашем случае, перцептивные представления о куске стекла и особенно о его прозрачности могут содержать черты, например, технических и физических определений, для которых сиюминутное восприятие не дает никаких соответствующих стимулов. Тогда они являются компонентами настоящего перцептивного представления, которые вплетаются в него как воспоминания. Таким образом, восприятие становится косвенным опытом или, как мы хотели бы сказать в более узком смысле, чем общепринятый, переживанием.
Наблюдения такого рода мы делаем уже тысячу раз. Они даже, как уже указывалось, являются правилом в передовом развитии. Ибо очевидно, что они не ограничиваются научным наблюдением. Таким образом, внимательное восприятие или наблюдение – это в основном косвенное, реже непосредственное восприятие.
Сфера применения этих положений к наблюдению вообще запрещает добавлять к ним другие. Ведь в их смысле наблюдает не только ученый, который, например, изучает спектр неподвижной звезды, или определяет местонахождение тепловых точек своей кожи, или обращает внимание на особенность техники Микеланджело, но и дикарь, который крадется по следам шагов, или обращает внимание на звук, возникающий в его окружении. В этом же смысле даже хищный зверь следит, например, за птицей, которую он схватит в следующий момент; да, даже паук, который ждет, пока насекомое, попавшее в его паутину, затихнет. Таким образом, из этих данных психологии животных следует, в частности, что мы должны отложить добавление идей слов и их предикативных отношений для наблюдения в целом.
III. Определение научного наблюдения
Научное наблюдение – это тип наблюдения вообще; не фиксированный тип, однако, а характерный тип в том значении этого слова, которое я пытался объяснить в последнем томе «Philosophische Monatshefte». Схематические общие понятия практического мировоззрения и понятия, т.е. суждения, проработанные, дефинитивные и классификационно ограниченные понятия практического мировоззрения, находятся в текучей связи друг с другом через многообразные градации. Связь остатков памяти этих представлений, которые участвуют в наблюдениях как возбужденные диспозиции, как апперцептивные массы, является поэтому столь же подвижной. Столь же подвижны и различия, отделяющие друг от друга наблюдения практического и теоретического воображения.
С точки зрения восприятия, научное наблюдение отличается от практического тем, что понятия стимулов, составляющие его объективную основу, часто не лежат на пути, по которому движется практическое мировоззрение. Вообще, чем более развита наука, на службе которой стоит наблюдение, или чем меньше эти знания способны порождать импульсы для наших действий, тем меньше их можно найти на этой дороге. Нет ничего ощутимого на небе и на земле, что оставалось бы чуждым научному наблюдению.
Апперцептивные особенности научного наблюдения многообразны. Чтобы найти их, мы сначала ограничиваем их особенности целью, которой они подчинены. Научное наблюдение – это внимательное восприятие с целью понятийного определения того, что воспринимается».
В настоящее время он может выполнять эту задачу лишь в той мере, в какой апперцептивные массы, возбуждаемые действующими стимулами, являются остатками или, с другой стороны, предрасположенностью к смысловым идеям. Ведь чем больше апперцептивных предпосылок восприятия уже понятийно проработано, т.е. структурировано в обоснованных суждениях, тем яснее и отчетливее может быть распознан наблюдаемый предмет, тем более систематически он может быть включен в ряд порядков нашего воображения. Обработка суждений упорядочивает и освещает содержание наших общих представлений о человеке, а также наших общих представлений. Она подразделяет их объем. Она заставляет нас приобретать то, что мы унаследовали, и то, что мы получили случайно, чтобы обладать этим. Она уточняет и закрепляет ассоциативную связь черт воображаемого. Оно закрепляет логическое место предмета в ассоциативном контексте с предметами того же ряда и смежных рядов. Он сокращает, облегчает и оживляет непроизвольное и добровольное воспроизведение, как зависимое (через слияние), так и независимое, как независимое воспроизведение, которое ведет к памяти или воображению, короче говоря, к сознанию, так и то, которое остается как бессознательное возбуждение. Соответственно, оно очищает и усиливает узнавание объекта наблюдения, независимо от того, остается ли оно непосредственным восприятием или поднимается до косвенного.
Цель научного наблюдения также требует, чтобы понятийные апперцептивные массы, составляющие которых прямо или косвенно возбуждаются, были как можно более многочисленными и обильными. Обычно мы наблюдаем в том, что воспринимаем, то, что мы готовы найти или искать. Но чем больше и существеннее апперцептивные массы, которыми мы обладаем, тем лучше мы оснащены для того и другого. Но даже когда мы сталкиваемся с неожиданным, или когда предмет предстает перед нами случайно в процессе восприятия, тем лучше обработанные апперцептивные массы готовы к новым стимулам, или тем легче они могут быть адекватно сформированы из существующих комплексов памяти другого рода. «Это правда, что фабрика мысли подобна ткацкой мастерской, где один шаг перемешивает тысячу нитей, маленькие кораблики стреляют друг в друга, нити текут невидимыми, один удар поражает тысячу связей». (Гете, Фауст I) Но для того, чтобы это произошло, нити должны быть уже сплетены, связи уже установлены, как в наблюдении, так и в абстрактном мышлении.
В-третьих, особенности научного наблюдения в свете внимания меньше и менее ощутимы, чем может показаться на первый взгляд. Внимание – это не только душа научного наблюдения, но и всего наблюдения. Оно позволяет не только исследователю, но и, например, хищной птице удерживать предмет восприятия и уточнять его, делая центром воспроизведения. Концентрация содержания сознания, да и всей сферы репродуктивного возбуждения, вокруг предмета внимания проявляется как там, так и здесь. В обоих случаях, выражаясь языком Гербарта, она может медленно вести наше углубление от размышления к размышлению. Ибо более богатое, более ясное и жестко ограниченное содержание этих состояний, отличающее научное наблюдение, зависит не от внимания, а от смыслового характера идей, остатки которых воспроизводятся в виде апперцепционных масс.
Различия между вниманием в теоретическом и практическом наблюдении становятся яснее только тогда, когда мы рассматриваем виды внимания.
Одним из следствий теории апперцепции, с помощью которой мы здесь распахиваем психологическую почву логических норм, является разделение внимания на перцептивное и апперцептивное. Ввиду путаницы, которую может вызвать использование Гербартом обоих выражений, смысл этого разделения будет изложен более подробно. Наше внимание становится перцептивно насыщенным, когда возбуждающие его стимулы возникают независимо от состояния сознания и воспроизведения, которое предшествует возникновению внимания. Его активность является апперцептивной, когда эти состояния настроены на стимул до его появления, то есть когда апперцептивные массы уже возбуждены для стимула до того, как он начинает действовать.
Поэтому мы можем утверждать, что в научном наблюдении внимание возбуждается апперцептивно гораздо чаще, чем в практическом наблюдении, и даже в подавляющем большинстве случаев. Именно потому, что в научном процессе мы по большей части знаем, что мы хотим или должны наблюдать, апперцептивное возбуждение почти неизбежно до начала действия стимула. Конечно, оно может проходить через все степени напряжения и возникать при разнообразных модификациях нашего состояния сознания и воспроизведения. Воспринимаемый предмет может появиться заранее в памяти-образе; и это может быть более или менее выполнено. Он может, если не было предыдущих восприятий, быть выполнен игрой воображения в любой из степеней, которые оно допускает. Если отсутствует всякое адекватное знание, а соответственно и образ того, что должно быть замечено, если мы знаем только, что должны обратить внимание, но не на что, тогда репродуктивное возбуждение, как ожидание в более узком смысле, присоединяется к модальностям подготовки и действует, например, в настройке наиболее задействованного органа чувств, а в случае более сильного напряжения, возможно, и в потоке воспоминаний, фантазий и размышлений, которые как бы приближаются к ожидаемому.
Если наше внимание возбуждено перцептивно, то обычно, когда что-то нечасто наблюдаемое на мгновение захватывает нас своим появлением, оно не только прерывает ход нашего воображения, но перенаправляет его и концентрирует вокруг нового предмета, где бы он ни стал пригодным для целей научного наблюдения. Таким образом, поток воспроизведения попадает под власть воспринимаемого стимула: перцептивно возбужденное внимание, соответственно, постепенно трансформируется в апперцептивное внимание. Наше восприятие и воспроизведение адаптируются к новым условиям стимула благодаря присущей им энергии воспроизведения. Эти плавные переходы от перцептивного к апперцептивному вниманию показывают, что даже так называемые «случайные» наблюдения, как только они становятся предметом научных целей, осуществляются не перцептивным, а апперцептивным вниманием. Это касается прежде всего тех наблюдений, чьи далеко идущие последствия обеспечивают им место – чаще в мифотворчестве истории науки, чем в самой истории науки. Поэтому можно утверждать, что апперцептивное внимание доминирует в научном наблюдении.
Однако этой характеристики момента внимания в научном наблюдении недостаточно. Напротив, наблюдение только тогда пронизано духом подлинной научности, когда внимание, которое становится в нем действенным, проявляется как интерес.
Не всякое внимание является интересом, если мы вправе говорить об интересе в смысле лингвистического словоупотребления, в отличие от версии Штумпфа, только там, где внимание сопровождается чувством удовольствия, вызываемым происходящими в нем воспроизведениями. Ибо не может быть сомнений в том, что перцептивное внимание, в частности, может быть наполнено чувством неудовольствия, особенно когда оно прерывает процесс воображения, в котором мы поглощены апперцептивным вниманием. Также нет сомнений в том, что принудительное апперцептивное внимание, которое мы должны преодолеть в состоянии сильной усталости, способно вызвать чувство неудовольствия в той мере, в какой это удается, если только мы не адаптировали себя к имеющимся стимулам путем временного перевозбуждения. Напряжение внимания даже сохраняет своеобразный эмоциональный характер, подобный содержанию сознания, через которое мы регистрируем движения в процессе работы, даже когда, как в случаях привычного внимания к знакомым вещам, оно не проявляется ни как удовольствие, ни как неудовольствие. Что он вообще состоит из таких чувств движения и связанных с ними ощущений – это мнение, которое мы не должны здесь специально признавать неадекватным. Полноценный интерес присутствует в нашем внимании только тогда, когда эти ощущения удовольствия не только обусловлены содержанием слитых или независимо воспроизводимых объектов, но и вызваны к жизни самим ходом воспроизведения. В конце концов, не всякий интерес, как это не требует дальнейшего изложения, является научным. Скорее, он становится таковым только потому, что свободен от всех практических вторичных соображений, это бескорыстный интерес, посвященный исключительно контексту дела.
Нет необходимости, чтобы внимание, присущее научному наблюдению, стало актом в актуальном смысле, т.е. чтобы его апперцептивная установка произошла произвольно. Именно тогда, когда мы апперцептивно настроены, мы «направляем» наше внимание, чтобы оно оставалось в образе, который стал фатальным для теории внимания, без какого-либо фактического акта воли, т.е. непроизвольно, на вход предмета. Это кажется просто метафизическим предрассудком, вызванным психологически бессознательным расширением воли у Шопенгауэра, если определение природы внимания ищется в воле. Так же непроизвольно, как апперцептивное внимание может пройти через все стадии ожидания в широком смысле, оно продолжает концентрировать наше состояние воспроизведения вокруг предмета, воспринимаемого в наблюдении с его участием. Таким образом, без всякого вмешательства со стороны сложных процессов нашего сознания, которые мы обобщаем под именем воли как кажущуюся простоту, апперцептивный предмет становится центром сиюминутного репродуктивного состояния.
Рассмотренные до сих пор апперцептивные особенности научного наблюдения остаются в рамках, которые мы очертили выше вокруг внимательного восприятия в целом, включая, таким образом, восприятие животных. С другой стороны, то, о чем сейчас пойдет речь, относится к области внимательного восприятия у людей. То, что она также рассматривает это только через жидкие различия, можно ожидать из того, что уже было сказано.
Уже в отношении восприятия животных и детей, которые не могут ни говорить сами, ни даже догадываться о том, что говорят, можно без лишних слов утверждать, что восприятие вовсе не обязательно связано с процессами суждения. Однако предполагается, что суждение состоит в предикативной связи, пропозициональном отношении того, что представлено, то есть того, что воспринимается. Даже внимательное восприятие, как следует из той же ссылки, не связано с суждениями. Тем не менее, следует признать, что даже практические наблюдения человека, владеющего языком, даже те из них, которые лишены смысловой апперцептивной основы, могут содержать ход суждения. При владении языком почти неизбежно, что мы относим наблюдаемое определение предмета, будь то существенная характеристика или внешнее отношение, предикативно к нему как к субъекту. Конечно, не обязательно так, чтобы это отношение было выражено в звуке, но часто только так, чтобы суждение происходило в тишине памяти. Ниже приводится обоснование этого для простого случая анализирующего наблюдения. Внимание временно фиксирует наблюдаемую детерминацию в ее заданном отношении (логической имманентности) к предмету. Оно концентрирует наше воспроизведение вокруг воспринимаемого предмета в этой его детерминации. При сенсорном восприятии оно часто увеличивает интенсивность стимуляции, а значит, и воспроизведения, за счет непроизвольной настройки органов чувств, прежде всего глаза и уха. Как апперцептивное внимание, оно направляет репродуктивное возбуждение к стимулу, как бы открывая ему дверь. Поэтому понятно, что для нас, людей, является редким исключением, когда по крайней мере словесные представления о самом предмете и его наблюдаемой цели не запоминаются также самостоятельно и полностью, т.е. сознательно воспроизводятся, через их ассоциативное переплетение с этими перцептивными содержаниями. С этими словесными идеями, однако, поскольку они обычно реальны только как части речи, беззвучные или звучащие, возникает предложение или пропозициональное слово. С предложением, однако, возникает и существует суждение; обычно в форме утверждения, при особых условиях в пропозициональной форме вопроса. Аналогично этим анализирующим наблюдениям, суждение предстает перед нами в тех случаях, когда мы просто идентифицируем предмет восприятия; и неизбежно тогда, когда идентификация требует многокомпонентного анализа. Если наблюдение направлено даже на классификацию предмета как образца в жанре любой высоты, формирование суждения становится почти неизбежным. Ведь слово – это не только выражение, но и носитель сознания качественно общего.
Если все это уже относится к нашим практическим наблюдениям, то к научным это относится в еще большей степени. Ведь их апперцептивная подструктура, как мы видели, сама по себе уже является оценочной, поскольку она концептуальна. Наблюдаемая вещь, как правило, появляется здесь уже до наблюдения, в ожидании, структурированном в суждении. Поэтому она всегда несет в себе этот характер суждения в наблюдении. Однако не обязательно, чтобы оценочная структура массы апперцепции полностью проявилась в самом наблюдении. Могут присутствовать все стадии, от только что начавшегося формирования суждения до полной вспышки хода суждения; иногда все они могут быть пройдены. Чем прочнее выстроена структура, чем привычнее она, тем менее отчетливо должно проявляться формирование суждения. Тогда наблюдение происходит быстро и без импульса. Поэтому в каждом из трех вышеупомянутых типов наблюдения может не хватать как импульса, так и времени, чтобы сознательно осуществить все или даже только несколько предикативно структурированных определений апперцептивных масс. Однако, с другой стороны, фактическое содержание наблюдения в таких случаях отнимает мало репродуктивной энергии. Тем более оно способно обратиться к переплетению ассоциаций слов-идей: слова, обозначающие, например, целое наблюдения и его логически имманентную детерминацию в анализирующих наблюдениях, могут продвигать себя вперед. Если наблюдение на некоторое время останавливается на объекте, то и в этом случае многообразные ходы суждения могут переплетаться с ходом восприятия. Почти неизбежно возникает суждение, которое в конце концов подводит итог наблюдению.
Отсюда следует, если приравнять суждение и мышление: в научном наблюдении восприятие и мышление взаимопроникают. Это не только внимательное восприятие с целью концептуального определения, но и само по себе концептуально определенное восприятие. Поэтому действительно логически беспредметно переносить модальности истинности суждения на само наблюдение, несмотря на его перцептивный характер: наши наблюдения могут быть истинными, вероятными или ложными.
Еще более запутанной является последняя особенность научного наблюдения. Как материальные апперцептивные условия наблюдения в целом, так и формальные условия воспроизведения апперцепции, особенно внимания, являются площадкой для индивидуальных различий. От взаимодействия и противодействия этих индивидуальных условий зависят, сложным образом и в бесчисленных градациях, богатство и бедность, острота и тупость, легкость и трудность, быстрота и медленность наблюдения; не только научного наблюдения, но и всякого наблюдения. В животном царстве эти различия постепенно исчезают, как и тонкости нервно-мышечной организации. С другой стороны, они увеличиваются, особенно в нашем случае, с развитием индивидуальности. Даже если двое наблюдают одно и то же, они не наблюдают одно и то же.
В научном наблюдении, однако, понятийная общность апперцепционных масс противодействует этим индивидуализирующим моментам. Но она не может отменить игру индивидуальных влечений. Ибо интеллектуальное образование является необходимым условием для развития индивидуальности. Его влияние растет по мере самостоятельной работы, в ходе которой оно приобретается.
Из этого мы должны сделать вывод, что взаимодействие апперцептивных условий наблюдения не может быть сведено к общим правилам. Однако внешним условиям обращения с ними может «научиться» каждый, начиная с сознательной настройки органов чувств и кончая манипуляциями тончайшей инструментальной техники. Схематизму апперцептивных масс и внимания также можно «обучиться». Но сама эта тренировка, эта взаимосвязь их внутренних состояний является, по сути, продуктом индивидуального научного такта. Там он основан на индивидуальном, непроизвольном, даже часто бессознательном взаимодействии движений, ставших второй натурой, с соответствующими восприятиями; здесь он основан на аналогичном взаимодействии соответствующих репродуктивных процессов. В этой форме она позволяет нужным вещам быть сделанными и произойти в нужный момент; в этом она контролирует внимание, центр воспроизводства, вовремя в нужной апперцептивной насыщенности. Точно так же работа мышления иногда предвосхищает или помогает, иногда контролирует или регистрирует, иногда препарирует или обобщает, иногда ограничивает или расширяет, иногда признает, исправляет или отрицает таким образом, что при необходимости можно подслушать результаты, но никогда нельзя закрепить в правилах для всех.
Только по этим причинам научное наблюдение, в частности, является искусством, которому, как и любому другому искусству, нельзя научиться, а должно быть прирожденным. Его дух дается лишь избранным. Из этого следует, однако, что научное наблюдение, даже если эксперименты даже не рассматриваются, на самом деле не находит свои предметы, а создает их самодействующими, даже самодействующими. Оно создает свой предмет даже тогда, когда идентифицирует его просто как индивида или когда анализирует его индивидуальное определение. Ибо он никогда не берет его в той индивидуальности, в которой он присутствует. Скорее, он становится репрезентативным типом тотальной идеи индивида или единичного воплощения именно в этих условиях наблюдения. Соответственно, поглощая наблюдение, оно становится типичным представителем вида, образцом в подлинном смысле этого слова. Короче говоря, наблюдение создает свой объект как тип в художественной манере. С этой точки зрения наблюдение также предстает как искусство. Конечно, это не свободное искусство, а связанное искусство, научно связанное искусство, если можно так выразиться. Но творческое качество его процесса, в сущности, так же мало страдает от этой ограниченности, как и художественная работа, скажем, живописца, создающего пейзаж или портрет, и поэта, облекающего живой исторический материал в повествование или драму. О том, что научное наблюдение не лишено эмоциональных аспектов художественной деятельности, свидетельствует приведенное выше рассуждение об интересе, который в ней действует. Поэтому если это искусство, то бесполезно скрывать звание гения от избранных среди наблюдателей (как, по аналогичным причинам, от избранных среди исследователей в любой области знания). Именно потому, что гениальность справедливо считается прерогативой художественного творчества, она встречается и среди наблюдателей. Он присутствует там, где мы должны признать и восхититься достижениями творческого такта в ряде наблюдений, свидетельствующих о том, что интеллектуальная мощь его автора намного превышает среднюю меру: Th. Юм и Гельмгольц, Фарадей и Гертц, Вольф, Ниебухр и Ранке – кому захочется перечислять имена?
Однако даже при таком освещении тень не пропадает. Вышеупомянутые индивидуализирующие моменты, несомненно, влияют в первую очередь не на само наблюдаемое, а скорее на способ наблюдения. Воображение и воображаемое, однако, и здесь могут быть разделены лишь абстрактно. Тот, кто хотел бы отрицать, что многочисленные элементы и простые отношения наблюдаемого могут, тем не менее, стать общим достоянием практики и науки, преувеличил бы правильную мысль до абсурда. Очевидно, однако, что комплексы наблюдаемого всех видов ведут индивидуальное существование в каждом из нас: как в том, что они содержат, так и в тех отношениях, в которых они находятся. Даже те, кто облек бы это следствие в парадоксальное выражение, что никто не знает, как понять то, что наблюдал другой, не сказали бы ничего плохого. Более серьезным, однако, является другое следствие: природа научного наблюдения порождает источники ошибок, которые ослабляют фундамент нашего эмпирического знания. Некоторые из этих ошибок могут быть удержаны от подходов к формулированию результатов наблюдения именно методами научного исследования. Другие постепенно устраняются именно благодаря индивидуальному разнообразию наблюдателей, которое они влекут за собой. Третья группа нарушений баланса между различными наблюдениями может быть постигнута научным путем. Но с наличием всех этих источников ошибок приходится считаться на каждом шагу как в практике, так и в логической теории наблюдения.
IV. Основы логической теории научного наблюдения
Логическая теория научного наблюдения должна объяснить, какие виды наблюдения следует различать в соответствии с целями научного познания, при каких условиях они действительны и какими функциями вообще наделено научное наблюдение. В конце концов, она должна логически оформить психологические факты наблюдения, насколько они могут это выдержать, чтобы получить нормы наблюдения.
Мы можем исключить два осложнения наблюдения, одно из которых часто встречается, а другое легко ввести в заблуждение.
Пока обойдемся без сообщаемых суждений, которые проникают не только в наблюдения ученика, но во многих случаях и в наблюдения эксперта, и направляют ход апперцептивных масс, а также внимания. Путаница, возникающая под их влиянием, относится к обсуждению значимости чужих наблюдений, которое здесь не предполагается.
Независимые сенсорные наблюдения, которые таким образом остаются, как и все наблюдения, связаны с восприятием. Запомнившиеся концептуальные определения, которые не возникают как интегрирующие компоненты настоящего восприятия, не являются как таковые объектами сенсорного наблюдения. Если они вместе с наблюдениями образуют систематический эпитом, то этот эпитом может быть интерпретирован только неточно, например, a potiori, как наблюдение. Мы можем, например, сравнивать положительные или отрицательные послеобразы или явления последовательного контраста, которые мы наблюдаем в данном случае, с воспоминаниями о первоначальных восприятиях. Далее мы можем заново создавать стимулы для первоначальных перцептивных образов, снова наблюдать объекты, которые они вызывают, на основе накопленной за это время апперцептивной массы, и сравнивать их с воспоминаниями об этих послеобразах. Мы также оставляем здесь без внимания подобные путаницы, которые использование языка в материальных науках безоговорочно относит к (естественно чувственным) наблюдениям.
Как мы выяснили, нет необходимости в том, чтобы каждое научное наблюдение в процессе его проведения сгущалось, так сказать, в выполненное суждение, которое понятийно представляет результаты наблюдения. Но для логической теории целесообразно, чтобы каждое наблюдение было представлено таким наблюдательным суждением. Если наблюдение содержит только то, что непосредственно воспринимается, то я называю суждение-наблюдение утверждением восприятия, т.е. суждением восприятия. Мы видели, однако, что восприятия развитого сознания – это в основном косвенные переживания. Чем глубже понятийно прорабатываются возбужденные апперцептивные массы, тем больше материальные члены суждения наблюдения, субъект и предикат, наполняются определениями, которые по пути памяти перетекают из предыдущих наблюдений в настоящее. Это наполнение действительно может происходить через разнообразные виды независимого воспроизведения. Для логического наблюдения то, что воспроизводится таким образом, принадлежит наблюдению как интегрирующий компонент, когда оно содержится в концептуальных определениях того, что воспринимается. В этих случаях суждение наблюдения становится суждением опыта. Нет необходимости подчеркивать различие между этим делением и одноименным кантовским делением; также нет необходимости явно противостоять недоразумению, которое могло бы возникнуть, если бы эти суждения опыта относились к исключенным выше чувственным наблюдениям и лишь неточно так назывались.
Понятно, что эти апперцептивные дополнения или расширения могут быть самых разнообразных видов. Но даже помимо этого, логическая структура суждений наблюдения может быть очень разной. Они могут появляться как элементарные утверждения самого разнообразного вида, как связи суждений, как сокращения суждений, как суждения и структуры суждений. Там, где они перерастают в описания, они могут стать сложными воплощениями всех этих типов суждений.
Если мы предполагаем, что уверены в реальности воспринимаемых нами предметов, то в простейших случаях наши наблюдения отчасти идентифицируют, отчасти анализируют, отчасти поглощают.
В следующем разделе я хотел бы ограничиться этими самыми элементарными формами наблюдения. Все они предполагаются как непосредственные наблюдения. То, что относится к ним, может быть легко перенесено на символические, т.е. на те, которые имеют место только в данном символе означаемого предмета.
Самонаблюдение пока остается за рамками рассмотрения.
LITERATUR – Benno Erdmann, Zur Theorie der Beobachtung, Archiv für systematische Philosophie, Neue Folge der «Philosophischen Monatshefte», Bd. 1, Berlin 1895.