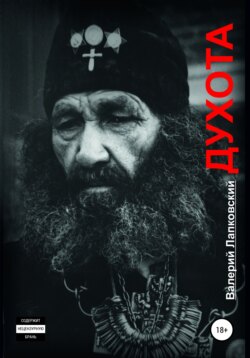Читать книгу Духота - Валерий Иванович Лапковский - Страница 1
Часть первая
Побег
Оглавление– Ну, а если бы всё-таки попали за границу и, м-м-м, скажем, пройдя подготовку в спецшколе, получили предложение вернуться на родину для работы в качестве агента иностранной разведки, вы… дали бы согласие?
В двух сантиметрах от вспотевшей шеи бывшего студента прошло прохладное лезвие чекистского меча кладенца.
Молодой человек приосанился и выпалил:
– Да!
Теперь у следователя не осталось ни капли сомнений: перед ним сидит сумасшедший.
Он достал из ящика стола несколько листов чистой бумаги и протянул их допрашиваемому:
– Пишите, пожалуйста, объяснительную записку в КГБ!
Час назад у здания американского посольства в Москве остановили тощего субъекта в пальто на рыбьем меху и войлочных башмаках, называемых в народе «Прощай, молодость!». Мороз-Трескун сильно надрал парню уши покуда, не решаясь подойти к охраняемым воротам, он, чтобы не привлекать лишнее внимание, слонялся поодаль от большого дома, на чьём фасаде реял полосатый стяг с искорками пентаграмм, похожий на апокалиптическую десницу, держащую семь звёзд.
Нарушителя порядка препроводили в тёплый полуподвал близ дипломатического особняка, где грелась наружная стража. Серые тулупы озябших постовых перетягивали узкие белые ремни, точно вырезанные из газет полоски, что во время войны с Гитлером клеили на окна, дабы уберечь стекла от бомбёжек.
Пожилой усатый начальник с тремя красными лычками на погонах равнодушно повертел в руках паспорт пострела, косясь на гаванскую сигару, которую башибузук с его разрешения закурил и стряхивал густой пепел в блюдце, заваленное окурками папирос и сигарет. Сержанту стало жаль малокососа:
– Слушай, приятель… Мотай отсюда пока цел. Бери документ и дуй во все лопатки!
Это совсем не входило в планы двадцатилетнего балбеса. Такой вариант пограничной ситуации его нисколько не устраивал. Ведь он, преодолевая глубокий страх, попёрся на рожон, не просто так, а сунув в карман на случай провала готовность к любому исходу. Прими шалопай в качестве руководства к действию рекомендацию сердобольного страрпёра, драма, которую мысленно отрепетировал сто раз и теперь играл, грозила ни за понюшку табаку превратиться в заурядную комедию – буфф, из диверсии в дивертисмент.
Он принахохлился и упрямо выдавил:
– Не пустите сегодня – прорвусь завтра!… Или свяжусь с закордонными корреспондентами.
Тогда служивый, корректно выслушав кристально ясные доводы оппонента, медленно набрал номер на телефонном диске и кому-то очень вежливо доложил об инциденте.
Примчалась серая «Волга».
Два добрых молодца зажали злоумышленника на заднем сиденьи. Место рядом с водителем оседлал отлично выбритый мужчина в норковой шапке. Сдавая задержанного, сержант обратился к нему чётко, по уставу:
– Товарищ майор!
Кабинет у товарища майора оказался самый обыкновенный: стандартные, как в милицейской караулке, жёсткие стулья с прямыми спинками, телефон, вешалка, надоевший портрет плешивого в потёртой жилетке помощника стряпчего поверенного («всевидящие глазки милого Ильича», по описанию Горького).
Когда возмутителя общественного спокойствия вели по коридору на допрос, он заметил стенд «Рисунки наших детей» и усмехнулся, вспомнив, как дряхлый Сталин осентименталил свою дачу, повесив на стену извлечённый из иллюстрированного журнала крупный цветной фотоснимок жизнерадостных жопынят.
– Имя и фамилия! – строго потребовал представитель силы и власти, держа перед собою раскрытый документ гражданина с отклоняющимся поведением.
– Викентий Гладышевский.
– Выложите всё из карманов на стол!
Смятая трёхрублёвка,… тёмно-синяя книжица с тонким золотым крестом на обложке,… деревянная ложка, расписанная в древне-русском стиле.
– Оружие?
– Не имею.
Офицер полистал паспорт.
– Почему нет прописки?
– Не дают.
– Почему?
– Не знаю.
Кагэбешник потряс в воздухе Новый Завет, проверяя, не выпадет ли что заложенное между страницами. Взял в руки и стал пристально рассматривать красно-голубой узор кустарного изделия, будто зашифрованный чертёж новой подводной лодки или депешу лешему, нацарапанную на бересте восемьсот лет назад…
Владелец раскрашенного орудия для еды, вытаскивая деревяшку из нагрудного кармана, нашивал задорную аппликацию на тусклый алюминий казённых вилок, эпатируя студенческую столовку, точно современного читателя словаря Даля бутыркой на шляпе бурлака. Чудак носил расписуху сперва с плоскими морскими камешками, подобранными на могиле Грина в Старом Крыму, а потом, когда раздал их знакомым, с томиком Нового Завета, который подарил ему осторожный иностранец-аспирант, любезно отказавшись поставить на презенте дарственную надпись из опасения раньше окончания срока пребывания быть выпертым из страны, где текут реки молока и мёда средь кисельных берегов атеизма.
По вечерам утомлённый длинными лекциями, галдящей публикой в полутёмных факультетских коридорах, где на каждом углу торчит картонная бирка с указанием, кто отвечает за противопожарную безопасность (в альма матер пылает огонь познания!), он в шумном общежитии, набитом железными койками, магнитофонами, клопами, бутылками, тщеславием, конспектами, драками, иллюзиями и прочей ерундой якобы самой счастливой поры жизни, снимал и вешал в углу подле своей кровати на стул пиджак, чувствуя в кармане приятную тяжесть пистолета крупного калибра: там лежало Евангелие.
Порой Гладышевский выгребал из постылой ночлежки к старенькой художнице (познакомились на персональной выставке её картин).
При первом появлении студента в мастерской Нина Александровна чуть смутилась и быстро повернула к стене незавершённое полотно с обнажённой женской натурой. Усадив молодого человека в кресло напротив большого окна, хозяйка водрузила загрунтованный холст на станок, соорудила пирамиду из двух табуретов и, разместив на ней палитру, выдавила краски из разных тюбиков. Прищурилась, взяла тонкий уголёк… Надтреснутое стёклышко её очков немного трепыхало на разболтанном винтике.
Колдуя над портретом, вынимала из передника маленькое зеркало и, став спиной к мольберту, смотрела через него на свою работу.
– В поисках ошибки, – поясняла она, – приходится даже переворачивать холст вверх ногами.
И точно птица, что в полёте над морем чиркает краем крыла воду, лёгким движением снимала с картины лишний мазок. Вытирала о подрамник испачканные пальцы, скоблила неоконченное произведение мастихином, замешивала на дощечке новые комбинации киновари и аквамарина, смягчая конопляным маслом, добиваясь «звонкости», превращаясь на глазах студента, любующегося ею, в сказочную старуху, которая варит солдату суп из топора.
– Господи, помоги мне! – говорила больная художница и, полежав на диване, снова брала кисть.
Иногда в студию вваливала, гомоня, весёлая гурьба её закадычных подруг. Прихлёбывая чай с баранками, компаньонки отпускали неослабевающему таланту пенсионерки заезженный комплимент. Им очень нравились написанные «под Ван Гога» ядовито солнечные подсолнухи, но особливо облик гарнизонного вокалиста, чья супруга, едва милёнок возвращался с гастролей ансамбля песни и пляски, подносила к носу сброшенные мужем носки и по запаху (свежие или грязные?) определяла гульнул запевала или нет, хотя согласие приглянувшейся ему женщины, испугало бы волокиту скорее чем отказ.
Одна из наперсниц Нины Александровны, доцентка кафедры истории КПСС в пединституте, пригласила к себе её молодого приятеля.
Квартира учёной дамы смахивала на гараж для рояля.
Вдова услугами расстроенного музыкального инструмента почти не пользовалась и на просьбы сыграть что-нибудь отвечала безобидным стишком:
Как хорошо, когда супруги
В согласьи творческом живут:
Не в две руки играют фуги –
В четыре Ленина стригут!
Она поддерживала тёплые отношения с мясистым композитором, сыном знаменитого прозаика, ходившего по мукам комфорта и конформизма. Сочинитель опер и балетов, редко попадавших на театральную сцену, жил невдалеке, брал у пожилой поклонницы деньги взаймы, приходил, если у неё собирались люди, так сказать, одной масти, пил из выщербленной чашки «спотыкач», присланный научной сотруднице роднёй из Запорожья, и рассказывал, по воспоминаниям покойного отца, как Горький прятал в их берлинской квартире крупный чемодан со слитками золота.
К непременному пирогу с яблочным повидлом подавали зажжённые свечи в перешарканных шандалах прошлого века. Здесь гусарили стариканы в широких, опять проникших в моду, галстуках; кокетничал молодняк: две заискивающие перед преподавательницей второкурсницы; помалкивал воспитанный скандинав Альф, присматриваясь ко всему новому в медвежьей стране, куда его занесло в аспирантуру усовершенствовать знание языка Ломоносова и Пушкина. И, конечно, жеманились ухоженные соседки того же возраста, что и хозяйка.
Среди гостей в минулое воскресенье оказалась девятилетняя внучка доцентки. С языка егозы несло филологическим салоном, а зубы вкривь и вкось напоминали деревенский тын. Явно заигрывала, по замечанию бабушки, с Викентием. Глядя на шалунью, южанин буркнул:
– Кажется, понимаю, почему Достоевский мог…
И запнулся.
Его стали дружно подбадривать, чтобы закончил фразу. Ведь речь, слава Богу, коснулась не перекати-поля, а столь теперь (после недавнего смещения Никиты Хрущёва) любимого ими, почитаемого на Западе и, естественно, в России, автора, чьё творчество косыми лучами заходящего солнца озаряет всю человеческую культуру; и многие герои которого, конечно, не все, но многие, начиная, кажется, с Раскольникова, выходя на улицу обязательно берут фуражку…
– Нет, нет, – отбрыкивался стипендиат. – Возьмите журнал, последний номер, и прочитайте; серьёзное исследование…
Общество надуло губы.
– Ладно, – сдался провокатор, – скажу!.. Предполагают, что Фёдор Михалыч… изнасиловал… ребёнка.
Застолье поперхнулось паузой.
– Зачем об этом писать?! – всколыхнулась, дремля в чёрном бархате, усатая монада.
– А что удивительного? – возразил тёртый актёр; в плавание по новой роли он пускался, отталкиваясь от гардеробного материка. – Ведь Флобер утверждал, у него болел живот, как у беременной мадам Бовари!
Но вечер был безнадёжно испорчен.
В глубине осыпающейся плоти каждая из надушенных дам, вероятно, почувствовала себя задетой не столь выпрошенной бестактностью студента, сколь печальной констатацией того, что густые коротко подрезанные каштановые волосы отроковицы, – не промытый в уксусе шиньон, впрочем, без которого ни одна богиня женственности не вынесет во двор ведро с мусором.
Интеллектуальные посиделки у подружки Нины Александровны Гладышевскому вскоре приелись, да и гости после прений с ним о Достоевском почти два месяца избегали посещать насиженное место. О чём бы в этом тереме теорем ни философствовали, ни щеголяли эрудицией, чем бы ни увлекались: доступным, наконец, после слома цензурной блокады, скучноватым романом Кафки или «Трясогузкой на увядшем листе лотоса» – гравюрой на вернисаже из Японии, и даже демонстративно натянутым отношением к демагогии правительства – все сии культуртрегеры обитали за тридевять земель от треволнений провинциала, продравшегося в престижный университет.
Как кошка или собака инстинктивно ищет средство от недомогания, обнюхивая травушку-муравушку, кусая наобум любую сочную былинку, так и Викентий, ощущая, что ему в вузе хомут на душу лёг, не ведая почему, заразился болезненным влечением к затюканной метафизике. Разницу между метафизикой и религией он как человек, воспитанный в лучших традициях нового общества, живущего по принципу «Голодранцы, в кучу гоп!», разумеется тогда не понимал.
Народец в доме доцентки часто и даже умно рассуждал о Христе, цитировал Библию, сентенции Будды, афоризмы других религиозных и политических светочей, мог назубок перечислить вокально-православный репертуар певческой капеллы Юрлова и, похоже, знал толк в обратной перспективе, декорируя свои жилища раздобытыми ветхими иконами (не хуже библейских старцев, не утративших интереса к подглядыванию тайком за купающейся красавицей Сусанной).
Благоверная малорослого скульптора, с жаром лепившего фигурки безголовых тёток с наваристыми титьками и крупным крупом, увидя образ «Не рыдай, Мене Мати», ничего не разобрав в нём кроме представительницы прекрасного пола, которая нежно обнимала обнажённый торс хорошо сложенного мужчины, всплеснула языком:
– Ка-а-акая сексуальность!
Никто из этой компании не ходил в церковь, не ломал мозги над тем, чтобы избавиться от власти греха, страсти и дьявола, да и сам Гладышевский на свой страх и риск лишь недавно проторил стежку в храм по сугубо, полагал, социологическим или эстетическим мотивам.
Бывая у обедни, студент воспринимал своё состояние сквозь притчу о потерянной драхме, повествующей о женщине, что ищет утраченную монету, подметая комнату с зажжённой свечой, а найдя, ликует с подругами, как ангел, который радуется обретённой душе обронившего её человека.
Ему подобной радостью в альма матер поделиться было не с кем.
И порой он с острой тоской сожалел, что так и не удалось встретиться с женщиной, которая могла бы, очевидно, утешить его душу, в сердечной простоте беседуя о Боге, о чём догадался лишь после того, как её лира в дырявом платке уже гуляла на загробном лугу. Когда, согласно завещанию, Анну Андреевну тихо отпели в Никольском соборе, на панихиде жались кое-какие светила текущей отечественной словесности, исподтишка снимаемые на киноплёнку историографами охранки. То были те самые коллеги, кои не препятствовали её изгнанию из Союза писателей и лишению хлебной карточки. Она не сдалась, позвала смерть к позорному столбу.
Теперь её мало-по-малу начинали официально признавать, и факультет, воспользовавшись «оттепелью», решил снарядить к ней именно его, дабы взять интервью для шестиметровой стенгазеты по поводу праздника 8 марта.
Но как вести себя со скандальной личностью, возведённой директивами партийного лидера в ранг «Блудницы»?
Что может быть темой их беседы?
«Реквием», рождённый в длинных очередях, когда мать пыталась передать в острог арестованному сыну скромную еду и тёплое бельё? Или её муж, прапорщик, кавалер крестов св. Георгия, расстрелянный чекистами, поэт, чьи сборники, изданные до революции, рвут с рук по любой цене в подворотнях букинистических лавок?
Гладышевский казался себе мальчиком из её стихотворения, который сказал, боясь, совсем взволнованно и тихо, где здесь живёт карась и с ним большая карасиха.
От предстоящей встречи едва не кружилась голова, точно от яблочного дурмана… летней ночью на окраине, где таскал из кузова под брезентом застрявшего в переулке грузовика свежие тяжёлые плоды для девушки, которую проводил с танцев в приморском парке домой, а потом… брёл пустынными улицами и наткнулся на мастерскую жестянщиков: два артельщика, в спешке клепали цинковое корыто для вертикально стоящего гроба, перегородившего цех, будто поле перед битвой с половцами червлёнными щитами русичей в «Слове о полку Игореве».
При нём Ахматовой звонили из деканата на квартиру и договорились о свидании, но в назначенное время, она, поглаживая второй подбородок веснушчатой кистью руки, затряслась в поезде, получив не весьма жданное приглашение на съезд писателей в столицу…
– Что вам нужно было в посольстве?! – поинтересовался отлично выбритый товарищ майор.
Допрашиваемый, вздрогнув, оторвался от объяснительной записки… Словно опасаясь порезать пальцы о голую стальную бритву, извлёк из внутреннего кармана утаённый тонкий стандартный конверт. Содержимое письма гласило:
Президенту США.
Заявление.
Прошу предоставить мне право жить и работать в Соединенных Штатах.
Число. Подпись.
Офицер снисходительно осклабился:
– Вы так наивны? Неужели не понимаете, что нужны были бы американцам на два-три дня? Вас отчислили из университета? Какая сенсация! Перед нею блекнет будущая колонизация Солнечной системы! Существуют, юноша, закон, порядок. Хотите выехать на постоянное место жительства в другую страну? Пожалуйста! Подавайте заявление, Президиум Верховного Совета рассмотрит… Впрочем, не буду отвлекать вас, пишите дальше… Подробнее о причинах конфликта в вузе и почему у вас нет прописки в Крыму.
Белый лист стыл на столе… Не лист, а босое, просвистываемое ветром пространство… Заснеженная гладь… И манило не то баричем, обнимая в санях раскрасневшуюся девку, мчать в чистом поле, не то суриковским юродивым – голыми ногами на мороз – усесться в колючий снег, чувствуя, как под задницей, едва прикрытой лохмотьями, закипает лёд в мозгах чекиста!
Поскребя по сусекам памяти, Гладышевский принялся восстанавливать на бумаге последнее слово, с которым выступил в университете:
«Досточтимые преподаватели и не менее досточтимые студенты!
Только что вы решили исключить меня из комсомола и альма матер за «псевдорелигиозные поиски, не товарищеское отношение к коллективу» и даже за «антисоветские взгляды».
Вы с гордостью носите форму бойцов идеологического фронта. Вдоль и поперёк рассуждаете о подлинной демократии. Часто сражаетесь с духовными противниками. И почти всегда побеждаете.
Надеюсь, выдержка и сегодня не изменит вам, и вы не станете перебивать меня, пока не окончу эту речь.
Я поступал на факультет не один раз, дважды был срезан на экзаменах из-за того, что умничал, а на третий раз, притихнув, проскочил. Я был преисполнен радужных надежд и восторга. Фантазия рисовала передо мной бессонные споры о найденный идеалах, карнавал грёз. Мнилось, что среди вас встречу людей, достойных поклонения, с которыми можно будет безбоязненно обсуждать любые проблемы, делиться замыслами и открытиями.
Мечты мои рассыпались в прах!
С каждым днём я всё больше убеждался, что коллеги – не хозяева, а лакеи текущих событий; жизнь гнёт и ломает их, вертит как хочет, и никто от этого особенно не ропщет. Нисколько!
Вместо разговоров о Тургеневе, я услышал мат, анекдоты, треньканье полуграмотной гитары. Я не мог молчать, когда при мне обливали имя великого артиста. Не мог терпеть, когда галдёж однокурсников мешал слушать пластинки с записью симфоний Моцарта, квартетов Бетховена.
Я не скрывал своего разочарования и недовольство окружением выражал достаточно ясно. Тогда академические авторитеты публично обвинили меня в «снобизме». Они были со мной едва знакомы и судили обо мне даже не по скупым анкетным данным, а по отзывам баловней «дедовщины», тех, кто пришёл в университет после службы в армии. Я попросил деканат быть сдержаннее в оценках моей персоны, ибо мне также были известны не совсем трафаретные факты из поведения педагогов, хотя не считал необходимым предавать их широкой огласке.
Меня тут же дёрнули «на ковёр» и, подвергнув пристрастному расспросу, потребовали извинений на ближайшем собрании, угрожая в противном случае возбудить вопрос о моём дальнейшем пребывании на факультете.
Душеспасительные беседы куратора Шаркова, расшаркивающегося перед вчерашними абитуриентами, признавшими его дешёвый авторитет, не произвели на меня никакого впечатления. Педель мусолил зады школьной морали и был зело юн, дабы подсказать, как жить «в прекрасном и яростном мире». На первом же занятии он сообщил нам о своём увлечении социологией. У кого это раннее проклинаемое хобби нынче не в моде? Отправная точка его поведения – страх потерять занимаемое место.
Патентованного старца Вяземского, автора нескольких справочников по нашей специальности, макающего, по выражению Сартра, перо в туалетную воду, я опрометчиво спрашивал: «Вы и вправду полагаете, что каждый человек обязан регулярно читать газету «Правда»? Ведь и в «Курьере» ЮНЕСКО есть не менее интересные статьи!». Сей риторический вопрос был резюмирован для меня «неудом» на зимней сессии.
Помните ли, как первокурсник Емельянов, потеряв успех у девушки, с которой несколько месяцев общался, заявил при всех: «Спрашиваю тебя, как коммунист, зачем врёшь? Разве ты не могла подготовиться к лекции из-за отсутствия «Маленьких трагедий» Пушкина? Я был у тебя дома, в книжном шкафу – полное собрание сочинений Александра Сергеевича!».
Я заступился за бывшую подружку члена партии, и вы на том собрании вылили на меня ушат ругани.
Продолжать ли реестр подобных гнусностей?
В гнилой атмосфере подозрительности, недоверия, солдафонских методов воспитания мучатся студенты, на беду свою достаточно проницательные, чтобы не замечать низости и лицемерия режима высшей школы. Среди старшекурсников есть лица, мечтавшие взорвать здание факультета.
Вам всё не терпелось спихнуть меня в солдаты.
Парторг Синегрибов, попав в альма-матер из армейской казармы, поучал меня с высокой трибуны: «Хорошо бы тебе набраться ума, постоять в полной солдатской выкладке с автоматом в карауле…».
Да я из того автомата стрелял бы в таких, как он!
Вышвыривать студента в солдаты не ново. Так поступали и при царе. Преследовать индивидуума только за то, что его чувство человеческого достоинства не вяжется с университетскими порядками – это поступки, которых полвека назад стыдились в Европе! Почему государство даёт казённокоштным студентам отсрочку от армии, но гребёт в казармы молодёжь из духовной семинарии?
У каждого человека есть свой бог, – писал почитаемый вами Горький, – и зачастую сей бог ничем не выше его слуги и носителя. К какому Богу я обратился, в каком семестре?
Будучи мальчишкой иногда забегал в церковь. Полушутя, полусерьёзно выучил со слов матери «Отче наш».
Позже хотел понять, почему русская и западная культуры тянутся к Библии? Почему Христа в прошлом веке воспринимали в качестве социального реформатора? Почему Ге писал облик Иисуса из Назарета с Герцена? Что переживал Пушкин во время венчания с Натальей Гончаровой? Что заставляет дряхлую старуху перепиливать хрупкой ножовкой железную ограду вокруг закрытого властями храма?
Вы постоянно шпыняли меня вопросом: на какие доходы процветают попы, откуда у дармоедов пышные хлеба?
«Не заграждай рта волу, когда он молотит!» – гласит Слово Божье.
Я повесил над кроватью в общежитии распятие, а коллеги наклеили этикетку с изображением секс-бомбы на репродукцию картины мастера эпохи Возрождения. Мне приятнее видеть ободранные в кровь колени Христа, нежели оголённые плечи кокоток.
Да, я разделяю многие постулаты Библии. Разобраться в истории, искусстве, политике, религии без знакомства с Книгой книг нельзя. Она – путеводитель по залам Эрмитажа, ключ к «Отцу Сергию» Льва Толстого, к творчеству Александра Блока…
Вы растерялись, едва я провёл перед вами уже набившие оскомину параллели между «моральным кодексом строителя коммунизма» и Нагорной проповедью Христа.
Вас обуревал зуд превратить меня в отступника. Вы гарантировали мне дальнейшее протирание штанов на одной скамье с вами, если состряпаю атеистический памфлет.
Вышибая меня на улицу, вы рекламируете собственное бессилие, трусость. Вы, как огня, боитесь спора о Боге; дискуссия на темы метафизики вносит перебои в гудёж конвейера по производству роботов с дипломом высшей школы.
Вам всё казалось, что я играю в оригинальность. Вам не было никакого дела до гибели моих надежд, возникновения желчных сомнений в правильности избранной мною профессии. Вы жаждали только одного: чтобы я не перечил вашей неистощимой пошлости, когда кричал от дикости ваших поступков!
И я… смирялся. Дабы не беспокоить мать, присылавшую ежемесячно лепту из своей мизерной зарплаты; дабы вкушать хоть крохи знаний, просил прощения… И вы великодушно отпускали мне мои грехи, чтобы потом тыкать мне в лицо этим великодушием. Куратор Шарков уверовал в мою любовь к людям, когда ему на очередном допросе в деканате надоело вертеть перед моими глазами ключ на верёвочном кольце.
Узнав о судилище надо мной, ко мне подходили незнакомые люди, и каждый чем-то ободрял. В кулуарах мне задали вопрос: не связался ли я с «Зайцем»? Да, я ученик Вячеслава Кондратьевича Зайцева, автора гипотезы «Христос – первый космонавт».
Я дрался с вами неумело.
Не всё, может быть логично в данном выступлении, но придёт время, и я встречусь с вами на новых баррикадах!»
После изгнания из университета Викентий вернулся в Крым и, прожив несколько месяцев у матери, спохватился, что до сих пор не оформил прописку в паспортном столе.
– Я тебе давно говорила: сходи, а ты всё тянул… – заохала родительница. – Думал, уедешь в другой город… Знаешь, какие ныне строгости? Могут оштрафовать!
Сын направил апостольские стопы в милицию. Попасть на приём можно было при одном условии, если поднимаешься с постели до третьих петухов. И хотя парень ну не понимал, почему запись в очередь производится с пяти до шести утра, однако, в указанное время счёл за благо приблизиться к парадному крыльцу РОВД, размещённому в старинном здании.
Каменные нимфы на фасаде стыдливо прикрывали нежные лица облупленными локтями. Кучка посетителей робко жалась у массивных дверей. В ржавом патрульном газике на заднем кресле храпел сержант.
Управитель принимал в разгар дня, на другой улице, в том доме, куда бывшего студента мальчиком водили в детсад.
Командовал детсадом участник войны. Под Сталинградом или под Берлином, можете представить, ему, точно капитану Копейкину, оторвало правую руку. На работе инвалид появлялся в гимнастёрке, выгоревшей (как пели тогда в песне) от жары и злого зноя. Пустой рукав ветеран засовывал за потрёпанный офицерский ремень на пояснице.
Незаменимым помощником героя-фронтовика слыл методист: мужчина с крашенными в чернь волосами и помятой облигацией трёхпроцентного займа в жамканном портмоне. Он имел авторитет педагога, съевшего собаку на психологии малят.
Чем нежила себя наука тех незабываемых лет? Манией оградить детей, во-первых, от разлагающе тлетворного, преждевременного полового созревания, во-вторых, от ещё более пагубного влияния религии. Но как с этими треклятыми пережитками прошлого бороться, если родители целуют и ласкают своих чад, если из дома до сих пор не выпотрошены иконы, бабка не бросает втихаря молиться, да и сам отец по старинке, изредка, воровато заскочит в церковь, открытую при немцах, ткнёт свечку перед Николаем Угодником и – давай Бог ноги!
Однажды методист и заведующий детсадом вернулись с совещания в горкоме партии, где обсуждали свежий опыт. На другой день собрали молодых воспитательниц и потребовали в течение часа отнять у детей и снести в кабинет директора всех Тань, Кать, Маш-растеряш, Ванек-встанек, всех кукол мужского и женского пола.
Стали изымать разбитых, покалеченных, лоснящихся разноцветных кукол. Детсад ревел несколько дней.
– Нездоровые инстинкты! Преждевременное чувство материнство уже созрело у девочек, – констатировал методист.
Три дня был словно траур. Дети неохотно ковыряли вилками в тарелках, вяло бегали, мало прыгали, и всё спрашивали, куда забрали их матрёшек.
На четвёртые сутки воспитанники обнаружили, что в их палатах возникли какие-то странные существа. Это были пузатые, бородатые, в чёрных платьях, набитые опилками жадные попы. Дети сконфуженно молчали, разглядывая атеистические чудовища.
Руководство ликовало: заменив кукол «колокольными дворянами» оно убило двух зайцев – срезало пик писклявой сексуальности и взметнуло ввысь антирелигиозную пропаганду.
Но на пятый день… К увечному подскочила четырёхлетняя замарашка, дочь бочара:
– Аким Петрович! А у меня ребёночек крещёный! – и показала пальцем на крестик, нарисованный ею огрызком чернильного карандаша на крохотной пелёнке, куда завернула безобразного жреца.
Калека не поверил своим глазам…
Малыши расхватали православных батюшек и носили на руках, баюкая, воркуя с уродцами, усыновив глупых попов…
Теперь здесь не было ни игрушек, ни добрых нянь, ни деревянных навесов – грибков с песком. Во дворе не мог отдышаться грузовик с железным прицепом, откуда сгружали пыльную картошку. Неряшливые милиционеры да вертлявые паспортистки набивали ею свои сумки и багажники двух административных «Волг».
В помещении с черепашьей скоростью двигался ремонт. Свисала наружная проводка, в углу возились штукатуры. В толпе, сгрудившейся на приём, талдычили о том, кто, куда и зачем, сколько стоит капуста на севере и почём килограмм мяса в Караганде. Чей-то голос честил повышение цен. Остальные прислушивались, зыркая в сторону бирки на свежевыкрашенной белой двери. Бирка представляла из себя клок серой картонной бумаги с тремя страшными буквами, жирно выделенными синим карандашом:
КГБ
В эту дверь, храни Боже, никто не входил и не выходил.
Бывший студент направился к ней и, хотя знал (в университете мохнатое ухо первого отдела не оставило без любезного внимания его пылкую прощальную речь и пригласило языкатого первокурсника к себе на доверительную беседу), что сотрудники госбезопасности всегда сидят за двенадцатью железными дверями, за двенадцатью медными запорами, и к ним, не ведая секретного кода в наборном замке, даже зайцу косому не проскочить, потянул на себя – буйная головушка! – ручку таинственной двери.
Толпа отпрянула.
Молодой человек рассмеялся: в пустой комнате валялись на полу рубашки и штаны строителей; дабы никто не стянул их одежду, кто-то из мастеровых вывесил магический ярлык.
Однако подлинным магом был не штукатур, а начальник милиции Тарадымов. Он имел книгу злых духов, вызывая их, когда нужно. Непокорные духи, занесённые в фолиант, давали обет полного и деятельного повиновения. На одной странице гримасничало изображение духа, на другой – закорючка его подписи, а под ней – имя нечистого, его звание и место.
Каждый дух был обязан по первому заклинанию являться к Тарадымову в настоящем человеческом виде, без уродства и безобразия, не нанося вреда тому, что капитан милиции получил от начальства, ни его пяти природным чувствам, ни его сослуживцам, ни дому, куда он их выкликал; не производя грохота, стука, шума, грозы, матерщины, чтобы Тарадымов их сразу замечал. На задаваемые вопросы любой должен отвечать только чистую правду, без лукавства и двусмысленностей, ясно, понятно, на языке вызывающего. А удовлетворив требования надзирателя, удаляться мирно, тихо, соблюдая условия появления.
Один дух, пожаловав к исправнику без приглашения, вёл себя не совсем корректно. Был обуян Бахусом и горланил:
Калина́, калина́,
Толстый дрын у Сталина,
Толще, чем у Рыкова,
У Петра Великова!
Он ворвался в кабинет, где капитан принимал бывшего студента, и завопил:
– Слушай, начальник! Отпусти меня! Я тебя знаю! Ты к Таньке в наш дом ходил…
– Трахтенберг! – взорвался Тарадымов. – Уберите поддонка! Где машина? Почему не отвезли в медвытрезвитель?
Подчинённый выволок пьяндылу в коридор. И там тот снова запел:
Ленин Сталина спросив:
– Где ты ступу заносив?
– На колхозному дворі
Товк макуху дітворі!
Капитан зачем-то полез в ящик стола, где валялись канцелярские скрепки, бритвенный станок, календарик с манекенщицей, оголяющей тяжёлые груди. За спиной офицера на стене напряжённо дышал «экран» слежки за негодяями, выпущенными из мест не столь отдалённых. Круглые клавиши пишущей машинки на столе смахивали на присоски осьминога.
– Вы почему не работаете? – задал трафаретный вопрос «застёгнутый на все пуговицы мундир». Он задумчиво посмотрел в окно на пионеров, собирающих во дворе макулатуру:
– Даже дети работают. Труд создал человека!
– Простите, прежде чем устроиться на работу, нужно прописаться.
– Вы обязаны приносить пользу Родине.
В кабинет вошла пышноватая помощница, держа под мышкой прошнурованную папку с бумажками на подпись… Сводящий с ума шёлковый шорох трущихся нежных ляжек. Гладышевский немедленно внутри себя окрестил её парижски-журнальным именем породистой лошади Вронского: – «Фру-фру»!
– У меня вся зарплата на колготки уходит! – с досадой воскликнула она, сидя на краю кровати и рассматривая затяжку на чулке перед тем, как одеться. Бывший студент, который опасался, что нижнее бельё у канцелярской крысы окажется менее красивым, чем предполагал, рассмеялся, сообщив ей, как Гитлер после покушения на него в бункере вскочил на ноги и выругался по поводу разорванных бомбой надетых впервые брюк.
– Прописки вам не будет! – дёрнув погонами, внезапно сыпанул в глаза молодому человеку горсть острых пятиконечных звёзд одудловатый мент, обрывая вспышку его эротической фантазии на самом любопытном месте.
– Почему?
– Вы с матерью разнополые. По закону, вам вместе в одной комнате жить нельзя.
– Матери и сыну?
– Да.
– Но…
– Жилплощадь у вас маленькая, район под снос…
– Но…
– Не шумите, не шумите! Я вас превосходно слышу… Приходите через неделю… Собирайте справки… Там увидим… И думайте о трудоустройстве. Мы не терпим тунеядцев!
Сколько ни обивал тунеядец пороги ЖЭКа, милиции, горисполкома – в прописке ему отказывали. Тогда он сунулся в консультацию адвокатов.
– Вы по какому вопросу?
– Насчёт прописки.
– Это не ко мне. Вам вон туда… Игорь Николаевич, к вам!
Игорь Николаевич (больные ноги, дома старый лохматый пудель лижет ему то худые колени, то свой вывернуты красный пенис) предложил ананасное пюре:
– Вас обязательно пропишут. Не имеют права. Мать одинока, нуждается в помощи, хворает.
– Меня вызывают на административную комиссию за нарушение правил паспортного режима. Регулярно в квартире матери появляется участковый, составляет на меня протоколы…
– Не пугайтесь. Я сам в этой комиссии.
– Мне угрожают уголовным наказанием.
– Не волнуйтесь. Вы прямо-таки кипящая глина…
– Зачем же вызывают?
– Вас просто предупредят.
– За что?
– За отсутствие прописки.
– Но ведь вы только что сказали «не имеют права».
– Не имеют.
– Так что?
– Пишите.
– Написал.
– Куда?
– В газеты, облисполком, Верховный Совет.
– Ждите.
– Чего?
– Ответа.
– Уже получен.
– Ну?
– Все жалобы направлены тем должностным лицам, чьи действия подвергнуты критике. Разве это не запрещено?
– Запрещено.
– Так что?
– Ничего. Пишите снова.
– Да сколько ж можно?
– А зачем вы уехали из Ленинграда? Жили бы себе там, взяли бы к себе мать… В общем, ступайте на комиссию, там посмотрим…
Избавившись от парня, Игорь Николаевич снял очки и с удовольствием поскрёб переносицу, точно Сократ ногу, когда в темнице его освободили от оков.
Ливень отказов в прописке превратился в слой сала на стылых щах. По примеру соотечественников, которые в поисках правды-матки сочиняли письма мумии Ленина в Мавзолей, поехал сын в Москву.
В Приёмной Президиума Верховного Совета корректные мужчины, пьющие по вечерам коктейли из плодов пальм и лоз, расфасовывали граждан со всего Союза по этажам: вам сюда, вам туда, а вам… Вы впервые у нас?.. Нет? Ну, тогда, пожалуйста, подождите… Да, да, станьте в сторонку… Следующий!.. Ну, не плачьте, не плачьте! Не надо благодарностей, это наш долг. Да, мы пропускаем вас наверх, там обо всём поговорите… Господи, опять эта рожа… Надо психиатрам звонить!.. Откуда, мамаша? Нет, вы спокойно объясните… Читали новое постановление ЦК?.. Следующий, следующий!
Тут и с грудными детьми, и на костылях, и с медалями на потрёпанных пиджаках, словно с рисунками на молях молитвенника. С Дальнего Востока, с Западной Украины, из Алма-Аты, вереница за вереницей… Старики из закарпатского села, отец и мать убитого милиционером сына, показывали всем сорочку в крови на цветной фотографии. Нет, уверяли их сотрудники Приёмной, ваш сын сам погиб!
Вот молодожёны, готовые разбить палатку на улице.
– Четверо малышей – жить негде. А кричат: «Рожай!».
– Вы бы к Терешковой, ну той, что в космос летала…
– Были! Не принимает. Сказала: «Если у советской женщины возникают проблемы, она их решает в постели!».
– Ау, Эльза Кох, «бухенвальдская сука», у которой заключённые сильнее кричали в постели, чем раздетые на плацу в мороз.
– Вы кто? – спросил южанина юрисконсульт.
– Бывший студент.
– За что исключили?
– За религиозные поиски.
Аппаратчик уставился на челобитчика, точно перед ним была заспиртованная в стеклянной капсуле башка усатого басмача – подарок Красной Бухары питерским рабочим. Паломник, в свою очередь, по особенностям строения костей, зубов, черепа определил в облике чиновника нечто среднее между типичным грызуном, существующим с конца первых пятилеток, и саблезубым тигром, чьи останки найдены в Патагонии.
– Мы не вмешиваемся в компетенцию местных органов, мы только даём консультации. Вам отказывают в прописке? Город расположен в приграничной полосе… Напишите нам заявление… Авось отыщутся возможности…
Спустя десять минут обескураженный вояжер переминался с ноги на ногу на улице… Куда ещё ткнуться? В ЦК КПСС? Там, говорят, пропускная способность шестьдесят человек в час…
Подняв голову, увидел Останкинскую телевышку. Башня показалась ему железным посохом, который Иоанн Грозный вонзил в стопу холопа за то, что окаянный смерд дерзнул подать царю эпистолярию опального болярина.
Пока сцапанный у посольства писал, майор, заполнив протокол допроса, успел позвонить жене: купила ли себе итальянские сапоги?
Затем отобрал у бунтаря его исповедь и впился в текст.
Сценка в кабинете в этот момент соответствовала карикатуре из журнала «Крокодил»: инструктор ЦРУ (жилет, ковбойская шляпа, сигара – в зубах, на поясе – кольт) тычет под нос двум щуплым агентам бестселлер Пастернака «Докотор Живаго»:
– Вот как надо работать!
Когда кагэбешник накося-выкусил объяснительную записку, её автор деланно безразличным тоном спросил:
– Десять лет тюрьмы?
– Что вы? – возразил кадровый офицер. – Мы за убеждения не судим… хотя взгляды у вас… довольно странные… м-м-м… хотите стрелять в коммунистов…, бежать в Америку… Вяжется ли это с вашим увлечением христианством?.. Мне кажется… у вас… не всё в порядке с головой.
– Почему бы вам в таком случае не пригласить психиатра?
– А я уже его вызвал.
В кабинет вполз «Чёрный супрематический квадрат» Малевича: мужчина в тёмном пальто едва не до пят. В руке у него трепетала почтовыми голубями стая больших бланков. Их было так много, что чудилось, медик мечтает упрятать в сумасшедший дом всю Москву.
– Не возражаете, если мы направим вас подлечиться?
И, не дожидаясь ответа, врач быстро набросал авторучкой на бумаге несколько слов.
Дюжий санитар в синей шинели с багровым рубцом креста на рукаве, дыхнув вином, подтолкнул к двери пациента с красными отмороженными ушами.