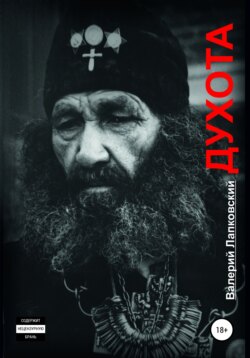Читать книгу Духота - Валерий Иванович Лапковский - Страница 2
Часть первая
Ночные бабочки
ОглавлениеВечером двое неизвестных в серых шляпах тактично постучали в калитку.
– Сын дома?
И, предъявив удостоверение, добавили, будто в городе комендантский час или осадное положение:
– Проверка документов!
Викентий был в церкви.
Помусолив его паспорт, заглянули в графу с пропиской и вежливо откланялись.
Мать встревожилась. Парень, прийдя с богослужения, выслушал её сбивчивый рассказ, поужинал, чем Бог послал, и лёг спать. Родительница, сидя на диване, тихо перебирала вынутые из торбочки металлические бигуди, который в её руках порой чуть-чуть звенели, как бубенцы на ризе архиерея.
В полночь калитка взмолилась под гиканьем сапогов. Град ударов сыпался в оконную раму, стёкла. Барабанили резко, нетерпеливо, нагло.
Перепуганные жильцы, не зажигая света, подскочили к окну, занавешенному обветшалым пледом. В переулке мелькали фигуры, спросонья казалось, в белых простынях, бледные призраки. Сердито урчал породистый автомобиль с горящими фарами.
Гладышевский приоткрыл форточку:
– В чём дело?
– Отворяй! Повестка из военкомата!
– Какая повестка?
– Отворяй!
– Я давно снят с воинского учёта!
– Отпирай! – рявкнуло привидение в фуражке с милицейской кокардой.
Молодой человек мигом захлопнул форточку.
– Это за мной, – полурастерянно шепнул матери.
Та заломила руки.
– Прекрати истерику!
В дверь тарабанили без передышки, сломав крючок на калитке… Дом был блокирован со всех сторон… Выскользнуть можно только во двор и сразу – в лапы громил… Кабы из лачуги шёл подземный ход к соседям или к морю, ещё лучше – к турецкому берегу!
– Меня предупреждали о таких налётах… С первого стука догадался… Да не хнычь ты! Это тебе не финтифлюшки на ёлку вырезать!
(Мать утром под Новый год в шлёпанцах на босу ногу и стареньком халате мастерила с помощью ножниц из цветной бумаги игрушки на ёлку из магазина, забыв, что ей за сорок и через полчаса на работу)
– Что же будет? – причитала женщина. Металась от окон к двери, лихорадочно одеваясь, путая рукава кофты.
Сын крикнул в форточку:
– Прекратите шум!
– Выходи!
– Не выйду!
–– Мы из милиции!
– А я думал – «из военкомата»! Пока не появится Маграм, не выйду!
Грохот резко прекратился. Кто-то стал хрипло распекать подчинённых:
– Растяпы! Маграма не взяли, устроили кавардак. Вся улица подымется! Марш в машину – быстро за Маграмом!
Судя по голосам, наряд милиции остался сторожить дом.
После катапультации из альма-матер и пробы недозволенного оставления родного отечества гордец и враль «отдохнув» месяц в «палате №6» был отпущен на волю со строгой рекомендацией впредь не совать нос в иноземное посольство и вообще не околачиваться в столице, а преспокойно загорать на солнышке в Крыму, где ему, наконец, со скрипом дали паспортную прописку.
Он нигде не работал, нигде не учился. Жил с матерью на те жалкие деньги, что она получала, печатая горы бумаг на машинке в штабе рыбразведки. На эти гроши сын ещё умудрялся ездить в город на Неве и там, в библиотеке, основанной при царе, сидел с утра допоздна, превращаясь в книжного клеща, озабоченного, как обмануть бдительность сотрудниц, выдающих крамольную литературу по спец.разрешению.
В фойе уникальной избы-читальни сталкивался с профессорами, у которых недавно учился. Те раскармливали двадцатью копейками чаевых начитанных швейцаров. И он, и учёные мужи, как малознакомые лорды, делали вид, будто не знают друг друга. Провинциал брал у гардеробщика солдатскую шинель, подаренную ему приятелем после демобилизации из армии, и, выскользнув на улицу, был готов попотчевать искренним презрением любого, кто легкомысленно дерзнёт подшутить над его внешним видом.
Заботливые дяди и тёти из горздравотдела не раз предлагали своему подопечному устроиться в бригаду грузчиков и забиванием бочек хамсы в вагоны на железнодорожной станции скопить денег на новое пальто. Экс-студент, слушая сердобольные советы ласковых эскулапов, скорее замёрз бы на улице от холода, чем ударил палец о палец в стране, где его официально объявили сумасшедшим, лишили всех прав, кроме привилегии таскать камни и рыть канавы.
Шинель дразнила лекарей. Пальто успокоило бы их как смирительная рубашка. Медицинские пиявки обзывали полишенеля между собой то «Грушницким», то «Дзержинским». Но в Конторе Глубокого Бурения ему присвоили кличку «Ирод» (чем так напужал?).
Разработка закодированных кличек на интимном языке Лубянки требовала недюжинного мастерства. Для такого дела привлекали не октет дворников из наружного наблюдения, а психотехников высокого полёта, умеющих, не менее друзей человека из библейской земли Уц, определить, почему сбитый лётчик-испытатель Иов сидит за городом на пепелище и скребёт себя огрызком черепицы.
Кличка обеспечивала максимум удобств для мгновенного распознавания паразита, цепляющегося за шерсть тигра. Щуплый физик-академик становился «Аскетом», его жена (хитрющая хайка) – «Лисой», ядовитый писатель из Рязани – «Пауком», биолог в рясе – «Миссионером», а затесавшийся в эту дурную компанию недоучка студент – кровожадным «Иродом».
Внутри себя он издевался над врачами, подозревая, не написал ли кто из них закрытую диссертацию на соискание научной степени «Почему и как чекисты дают прозвища поднадзорным и стукачам»? Его смешило, что главный психиатр города Маграм тайком считал его не «аферистом», а «авантюристом», вряд ли зная, что в глазах историков Ирод слыл беспутным авантюристом, совершенно чуждым еврейскому благочестию.
Приезжая в огромный город на севере «Ирод» ютился в общежитии политехнического института, куда в потёмках забирался через разинутое окно на первом этаже благодаря протянутой руке студента-земляка. Прячась от кургузой комендантши (усы, брюхо, бритый пах), шмыгал в клеть между умывальней и туалетом – гарем обтерханных веников, вёдер не первой свежести и волглых тряпок. Тулился спиной к тёплой батарее водяного отопления, лежа на поломанном панцире железной кровати.
Рыжий плечистый друг в свитере с прорехами на локтях приносил шерстяное одеяло, подушку и, если удавалось, кусок хлеба и банку консервированных бычков в томате, подтрунивая над его неприхотливостью.
– У самого входа в этой стойло, куда сквозь дырявую крышу заглядывали звёзды, находилось жёсткое, жалкое и ненадёжное ложе Дон Кихота, – в тон ему посмеивался над собой книгочей.
Спозаранок «Дон Кихот» обшаривал пустые кухни, выискивая в упитанных отбросами урнах бутылки из-под вина и кефира. Ополоснув, тащил их в ближайший магазин в авоське, точно колоннаду Казанского собора, где майор Ковалёв в опере Шостаковича выяснял отношения со своим Носом. Сдав стеклотару и чувствуя себя королём с рублём имитированного серебра, усердно штудировал в публичке «голубинныя книгы» Мейстера Экхардта, Ницше, Бердяева, терпеливо дожидаясь заветного часа, когда настанет блаженная обеденная страда.
В столовой научных читальных залов «Ирод» как-то встретил поджарого еврея (золотой зуб, чёрные волосы на руках), того самого, что оприходовал его в приёмном покое психбольницы после «побега» в Америку. Аккуратно лишив девственности формуляр «Истории болезни» и выпроводив новичка в старом халате цвета кофейной бурды в пахнущий карболкой и сырыми полами коридор, психиатр сделал стойку на голове, использовав стул.
Медик обрадовался. Старый знакомый!.. Погоди… где мы виделись?.. Его запломбированная спортом голова никак не могла воскресить в облике прилично одетого молодого человека (на нём сидел его единственный костюм, белая сорочка, галстук в классическую диагональ) пациента жёлтого дома.
– У какой бабы мы пили?
Собеседник напомнил.
Врач смяк. И больше не настаивал на продолжении знакомства.
Такая сладкая казацкая жизнь выкидыша в солдатской шинели мало нравилась отцам таврического захолустья.
Анфан террибль своим вызывающим поведением, баламутил уезд, в первую очередь, незрелую молодежь, которая, конечно, не вся, но всё же тянулась к оригиналу… Исхудалый, весёлый, с обсмыканным портфелем, набитым конспектами, рукописями, он возвращался самолётом (за полцены по студенческому билету рыжего земляка) из-под низкого оловяного неба Невы в зеленеющий травой даже в феврале полуденный край и после контрабандного ночлега в беспокойном общежитии отсыпался у матери на твёрдой кушетке в доме, где они жили до переезда в Кооперативный переулок.
Рано утром родительница будила:
– Сыночек…
– Шо?
– Слышишь?
– Шо?
– Деревья шумят, разговаривают…
В жилье однако было так тихо, что ощущалось, как подле ложа вояжёра шуршит в оконной раме проворный шашель. Докучал, словно мукомол монаршей особе работой своей чёртовой мельницы, расположенной близ дворца. Король разыгрывал из себя демократа и не мешал верноподданному. А «Ирод» просто не знал ну каких ещё волхвов послать, чтобы вытурить этого крота из прогрызённого тоннеля.
Гладышевский поднимался и, очистив от жужжелицы печь, выносил ведро с перегарками на мусорник во двор.
Ещё было темно.
Шёл мимо высоких, осторожно мятых ночным холодом, бордовых цветов на аистовых ножках. Передвигался, не поднимая глаз, боясь спугнуть предутреннюю дремоту астр, их безразличие к нему. Цветы стыли, как сорок мучеников в озере Севастийском… Возвращаясь в квартиру, чувствовал себя по отношению к ним предателем, что удрал из ледяного водоёма в горячую баню на берегу…
Просыпались соседи. Согнутая в три погибели Меледониха выводила на прогулку сиамского кота, привязав к задней лапе любимчика длинную верёвку, держась за неё, как за нить Ариадны.
У ворот сидел в инвалидной коляске дед в промасленном капитанском картузе и в пятый раз спрашивал проносящуюся мимо хохлушку:
– Верочка, вы давно были на Кубани?
Часовщик – в окне напротив – показывал собственному чаду металлические потроха дряхлого будильника, учил мальца осторожно орудовать пинцетом в утробе испорченного времени.
Коли было лето, Викентий натягивал купленные в «Торгсине» беленькие шорты с вышитым на боку чёрным зайчиком и ехал в общественном транспорте на пляж. Размашисто шлёпал ногами по воде мимо деревянных раздевалок, чьи щели законопачены пунцовыми затычками бледных курортниц, мимо сезонных гостей, что на солнцепёке закусывали самогон салом, гогоча над прибаутками перепудренного пердуна, которого надысь бачилы на голубом экране, мимо семилетней резвуньи, спорящей со старухой:
– Не хочу я с тобой играть!
– Почему? – допытывалась седая подружка.
– Потому что ты хочешь быть принцессой!
– А почему ты всегда должна быть принцессой?
Лёжа у самой кромки моря, носом к чуть плещущимся волнам, Гладышевский нехотя размышлял над загадочным фрагментом древнего трактата: «Одна волна следует за другой… Что это такое?.. Рождение-и-смерть…».
После купаний мчал в переполненном автобусе и, обдуваемый встречным ветром из открытого окна, смежив вежды, неожиданно для себя искренне, без слов, молился.
Спешил по жаре домой мимо огромного универмага, соображая, откудова раздобыть денег матери на байковый халат.
На фасаде торгового здания висел трёхметровый портрет главы партии и государства. Вождь простирал немеющий взор на гору, где высился обелиск, меблированный пушками. Вонзённый штыком в небо, памятник был сложен пленными немцами из камней разорённого до войны («по требованию пролетариев») Троицкого собора. Под горлом генсека висела звезда маршала с бриллиантами: так по рецепту чернокнижников украшали шею измотанной лошади зубами убитого волка, чтобы коняга не сдохла от изнеможения. Мундиру генсека позавидовал бы нагрудник иудейского первосвященника, оснащённый драгоценными камнями в честь двенадцати колен Израилевых, принадлежащим (в анекдоте) если залезть под стол, шести ногам сидящих будённовцев. В последние годы нумизмат из Кремля, словно пенсионерка, которая методично копит имеющие для неё глубоко исторический смысл пустые пузырьки, коробки из-под пудры, пластмассовые гильзы, где нет губной помады, как пороха в костях, без устали коллекционировал на своей груди отечественные и закордонные ордена. Свинные пятачки медалей присосались к его кителю, как поросята к вымени хавроньи.
Пять золотых звёзд блистали около сердца; три повыше, две снизу. Никто не брался подсказать «дорогому Леониду Ильичу», что столь неуклюжее расположение регалий вносило беспокойство в эстетическое восприятие наград. Их размещение напоминало перевёрнутую пирамиду, чья фундаментальная подошва болтается в воздухе. Окажись в Кремле староста местного храма, где настоятелем служит отец Иоасаф, дело бы, конечно, поправили. Порука тому – один богомаз: накрасил деревянных яиц к Пасхе, принёс в церковь. Ктитор посмотрел и забраковал:
– Что ты мне Христа вверх ногами нарисовал?
– Как «вверх ногами»?
– Лик должен быть на остром конце, а ты его упёк на широкое основание!
Иногда бывший студент приходил на приморский бульвар и часами сидел на одинокой скамейке, глядя в синюю даль, будто, по выражению живущего в провинции европейского философа, пытался заглянуть за горизонт, в то время когда пролив называли Коровьим бродом в память о возлюбленной Зевса, которую громовержец, опасаясь ревнивой жены, превратил в белоснежную тёлку, что бежала в этот край, спасаясь от оводов, натравленных Герой. Прикатывал сюда на своей коляске и калека в капитанском картузе, чтобы наловить рыбы.
– Эге, дед, пора тебя штрафовать! – пошутил парень. – Знаешь, сколько бычков положено вытаскивать из пролива по закону? Ты вон сколько поймал!
– Ты, соседушко, дуй своей дорогой… «Штрафовать»!.. Вы завтра за то, что человек в сортир ходит, будете штрафовать!
– Дедунь, сматывай удочки… Видишь машину? Лягавые за тобой примчали!
– Не, не за мной.
– А за кем?
– За ногой.
–Какой ногой?
– Вон бултыхается…
Около берега и впрямь плавала незамеченная собеседником старика согнутая в колене нижняя конечность. Довольно стройная, со стружками отслаивающегося мяса, цвета селёдки на праздничном столе, очень белая от неумеренной дозы уксуса.
По набережной сновало туда-сюда озадаченное чрево в толстых очках: начальник милиции. Тарадымов! За ним – чины в форме. И шелестел между ними такой обмен мыслями:
– Как ты думаешь, – сопело брюхо, – чем это её? Топором?
– Не похоже… Пилой, наверно.
– Гладко отрезано… Гм.
–Откуда взялась, чёрт бы её побрал!
– Да из Турции приплыла!
– Из Турции?.. Ну-ка, Трахтенберг, сфотографируй её… Да рыбаков, мать их, прихвати на плёнку… На всякий случай.
Похож был в ту минуту Тарадымов на медведя, что на костыле кружит вокруг избы мужика. А крестьянин, ничего не ведая о том, варит в котле его отрубленную ногу…
Накануне праздников государственного значения, когда каждый гражданин должен вывешивать на воротах красный стяг, подобно тому, как древний еврей в египетском плену мазал косяк своих дверей кровью закланного агнца, дабы Ангел Губитель не коснулся его жилища, мать по телефону приглашали куда следует или в отсутствие «Ирода» навещали её и кротко просили присмотреть на время торжества за шалуном… Знаете, такое ликование, музыка, знамёна, и вдруг – листовки от руки, нездоровые речи в толпу, нехорошие призывы, взгляды… А взгляды у него, сами понимаете… Да, да, душевнобольной, ничего не поделаешь… Так вы уж, будьте любезны, пусть не выскакивает на улицу… А то как Мамай под стены Москвы!
Но в эту ночь поступили круче. И так хватали проблемных элементов по всей стране, стоящей через пень колоду на пороге коммунизма.
Уже пять минут у порога ворковал заспанный Маграм, уговаривая мать выйти во двор. Рядом с ним топтался флагом парламентёра милиционер в светлом халате.
Мать, дрожа от страха, отодвинула ёрзающий засов.
Блеснули семь лакированных козырьков. Белые балахоны были напялены прямо на шинели.
Обер-психиатр умолял мать ни о чём не беспокоиться. Сын должен сесть в машину.
– Сын должен сесть в машину!
– Куда? Зачем?
Этого Маграм «не знал».
– Я к вашим услугам! – Викентий вырос перед непрошенными гостями.
Дверь фургона щёлкнула за ним. Женщина кинулась к окошку автомобиля, но тот, взревев, рванул вперёд по едва освещённому переулку.
И понеслись строкой из Блока: ночь, улица, фонарь, аптека… Мелькнуло новое грандиозное зданьице горкома партии. По бокам у парадного входа застыли декоративные бородавки из песка и цемента, похожие, зараз на ядра для царь-пушки и на каменные слёзки номенклатуры, что выкатились из глаз после смерти Сталина, превратившись в горошины, подсунутые сказкой Андерсена под двадцать перин, чтобы партия, лёжа на них, чувствовала себя настоящей принцессой.
Весной власть прислала Гладышевским автоматически, как всем аборигенам, сверкающее золотой звездой на фоне кровавого знамени глянцевое поздравление с Днём победы над фашистской Германией.
Недолго думая, анфан террибль почтой вернул юбилярам их прокламацию, добавив на полях постскриптум из Канта:
«У каждого народа после дня победы должен быть день покаяния» (собр.соч., том такой-то, стр., год и место издания).
– Что вы этим хотели доказать?! – позёвывая, прищучили гадёныша в чистилище КГБ, куда огорошенный горком поторопился переадресовать втык-цитату…
Машина спешила мимо закрытого ещё в тридцатые годы древнегреческого собора Иоанна Предтечи… Раньше вокруг храма ютился погост, но творцы нового мира закатали под асфальт могилы людей, которые выстроили порт, гимназию, музей Тезея, крепость на берегу по чертежам защитника обороны Севастополя Эдуарда Ивановича Тоглебена, широкую лестницу на гору Митридат с реявшими над городом грифонами – ненавистными для геростатов в будёновках зверями, в которых таился образ Христа.
В последнее время внутри и вокруг собора археологи вели раскопки и набрели не на облезлые фрески сырой погребальной камеры богини Деметры, обнаруженной на окраине, а на чистенький выбеленный склеп, где чаял воскресения мёртвых металлический гроб с позеленелым распятием на крышке и львиными лапами по бокам внизу.
Печенеги двадцатого века, привыкнув пить вино массовой культуры из железобетонных черепов стадионных чаш, сунули уникальную находку в замусоренный сарай историко-краеведческого заповедника.
Колченогий сторож, по просьбе Гладышевского, поковырял гвоздём в висячем замке, открыл дверь в хранилище хлама.
По гофрированным стенкам саркофага скользили тихие волны… «Одна за другой… Рождение-и-смерть». – опять пришла на ум опальному интеллектуалу строка, похожая на руну. Четыре изящные рукояти зависли по бокам, будто шлюпки по бортам корабля на случай крушения. Изнутри крышка была застёгнута на потайные скобы.
Хромой повозился и отворил.
Экскурсант с замиранием сердца склонился над погребальной ладьёй.
Сквозь истлевшую матерчатую обшивку пробились жёлтые стружки. Фелонь с остатками позолоты спеклась с белым подризником. На голове уцелела фиолетовая скуфья. Лик облегал линялый покровец. Фаланги пальцев обуглено темнели, как вынутые из деревянных чехлов грифели чёрных карандашей.
– Боже мой! Да это же я! – чуть не вскликнул «Ирод», давно мечтая стать священником.
– У него даже сохранилась борода и кожа на лбу, – буркнул караульщик.
– А где наперсный крест? – оторопело спросил будущий батюшка, которому отец Иоасаф подарил такой же нагрудный крест (с вензелем последнего русского царя и наставлением из послания апостола на обороте).
– Крест? Дак ведь он из серебра… Народное достояние!.. Мы его в музей… Через шею стащили…
– А Евангелие, крест в руках?
– Изъяли… Крест у него в руке тоже из серебра, а книжка отсырела, сгнила.
Инвалид принялся закрывать экспонат.
– Что же вы теперь будете делать… с ним?
– Этот ход мысли, – заметил охранник бывшему студенту или тому, пожалуй, так показалось, – берёт исток в философии Декарта и в принципиальных чертах воспроизводится у Канта и в немецком идеализме, хотя и с существенными модификациями.
– …?!
– Что хлебало разинул? Похороним где-нибудь… Надо бы его из гроба вынуть… Уж больно ящик необычен, такие сейчас только в кино… Да и одежду от костей неплохо бы отделить.
– Зачем?
– Чтобы люди знали, как раньше ткали, из каких ситцев.
– Назад, в усыпальницу нельзя?
– Нельзя. Ограбят!
– Что грабить? Серебро ведь экспроприировали.
– Всё равно. Разроют!
– Здесь, рядом с милицией?!
– Ты с Луны свалился? У нас в центре города по ночам гадят под памятником Ленину, уборщицы каждое утро ругаются, а ты – «милиция»! Гони трёшку, как обещал…
Через полчаса «Скорая помощь» выбралась за город.
– Куда едем? – попробовал осведомиться «пациент» у милиционеров, изображавших медбратьев. – Угостите табачком.
Не ответили, но сигарету дали.
– Стану не благословясь, пойду не перекрестясь, не воротами – собачьими дырами, тараканьими тропами, не в чисто поле, а в тёмный лес! – пробормотал «странный тип» и подумал: – Завезут в овраг и прикончат!
Вскоре замигали справа редкие жёлтые огни. Короб на колёсах с красным крестом на фонарной скуле притормозил возле длинного приземистого барака.
– Чунгулек! – догадался наслышанный о сей обители похищенный гражданин. – База хроников сумасшедших.
Его ввели в тёплый хлев приёмного покоя. Перепуганные, как его мать, две томные, раскормленные, не то медсестры, не то сиделки тупо внимали тому, что им втолковывал офицер в штатском.
Разбуженная дежурная врачиха, стесняясь командующего незнакомца, расплёскивая сон, одёрнула на аэродинамических обтекаемостях бёдер жёванное спячкой платье, выстроила грамматически правильное предложение:
– Может, он буйный? Сделать ему укол?
И включила маленькую электроплитку, чтобы прокипятить шприц.
– Как хотите! – великодушно улыбнулся подтянутый инкогнито.
Пленник психиатрического ущелья слегка поклонился офицеру:
– Благодарю за доставку.
– Располагайтесь поудобнее! – ни за что не хотел отказать себе в вежливости, вероятно, лейтенант.
Приблизительно в таком же бедламе после демарша в посольство бывший студент «отдыхал» в Москве. Там его приветствовал истошным воплем «теоретик» в рваной робе:
– Во второй мировой войне сражались фашиствующая Россия и жидовствующая Германия! Зло против зла!
Ежедневно «теоретику» кололи инсулин, доводя до коматозного ража, когда с него пот градом, из глотки пена, хрип, сам он в отрубе, лежит навзничь, без памяти.
Его укладывали на тележку, везли в спецлабораторию. Там прикладывали к забубенной головушке стальной венец, к венцу – электропровода, а в рот между зубами втыкали кусок резинового шланга, чтобы язык не прикусил (хотя всё делали именно для того, чтобы он язык прикусил!). И током били по мозгам. Всё тело синело и плясало чечётку. Вечером тащили в женское отделение на танцы под надзором санитаров и медсестёр. Две подружки сидели тут за столом, и старшая медсестра, жужжа пожилой, как ей хорошо живётся с мужем, поглаживала ляжками толстых пальцев длинный нос эмалированного чайника.
Там, в московской психушке, экс-студент видел массивные, обклёпанные досками до пола, скошенные внизу на конус, круглые столы. Такое произведение мебельного мастерства ни «персидский шах», ни «внук Ленина» не мог схватить за ножку и в сердцах отблагодарить своих благодетелей перед тем, как они закатают ему в ягодицы три куба жидкой «серы».
В подошву мебели предусмотрительно вмонтировали что-то тяжёлое, наверно, железо. Угрюмые столы казались утопленниками на морском дне, в чьих саванах зашиты камни.
По этому дну сновал, как водолаз, Оскар Евгеньевич, доктор медицинских наук, мужчина атлетического телосложения. Отправляясь на деловую встречу с работниками охранки, нуждающейся в услугах карательной психиатрии, лейб-лекарь глотал нейролептики, чтобы не очень нервничать.
Балагуря со свитой помощников, профессор (из кармана белого халата торчал свёрнутый в трубочку список очереди медперсонала на покупку дефицитных ковров) приближался к беглецу в Америку.
Обнимал беглеца за плечи, тискал:
– Ну, как дела?
И лукаво, заговорщицки, поблескивал очками в сторону коллег, присаживался на край кровати, демонстрируя практикантам умение втираться в доверие к больному. Вытаскивал из-под подушки растрёпанную книгу.
– «Былое и думы»… Читал, читал!.. Вот вы неравнодушны к монархии, а помните у Герцена? Сколько талантов загубило самодержавие? Лермонтов убит на дуэли, Полежаев умер в ссылке, Радищев отравился, Пушкин…
– Доктор, Маяковский послал себе пулю в грудь, Есенин вскрыл вены, Цветаева повесилась, Гумилёв расстрелян, Мейерхольда утопили в бочке с нечистотами, Мандельштам…
– Н-да… Ну ладно… Отдыхайте!
В углу приёмного покоя Чунгулека жался в кальсонах пожилой небритый гном. Твердил без остановки:
– Бесконечно… Бесконечно… Бесконечно…
Медсёстры, путаясь, рядили в какую палату определить новичка. Молодой человек метнулся шёпотом к коротышке:
– Ты давно здесь?
– Бесконечно…
– Тебе сколько лет?
– Бесконечно…
Парню указали койку: тут он должен встретить несколько зорь и закатов, пока будни не смоют флаги с улиц.
Няня забрала у него вещи, выдала застиранную пижаму; укладываясь на боковую заметила:
– Жулик!.. По одежде видать.
И коллега, вполне удовлетворённая её диагнозом, согласно зевнула.