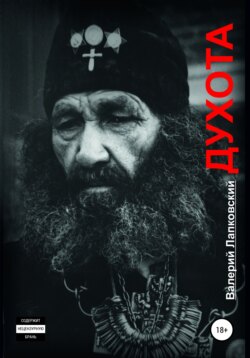Читать книгу Духота - Валерий Иванович Лапковский - Страница 3
Часть первая
Детский альбом
ОглавлениеНочью бабка досыта ворочалась в постели, кашляла, кряхтела. Под утро внук услышал:
– Сорок восемь копеек осталось… Никогда так не было… Чем их кормить?.. Ишь поганец, деньги наделал… Страну поджечь… Ну подожди, вернётся дед с командировки, он тебе… Когда ж у девок зарплата? Тоже хороши… Ни гроша в дом!.. Лидка одно цветы артистам заезжим носит… А всё «дай», «дай», а где я возьму?.. Против власти здумал идти… Да разве можно? Лучше б мы тебя маленького удушили… От людей стыдно!
Ворчунья задремала.
Дыханье трёх ртов доносилось из другого угла.
Восьмилетний фальшивомонетчик, настигнутый словами старухи, как обвинительной речью прокурора, прилип под одеялом к стенке…
В просторной комнате с высоким потолком жили дед, бабка, две их дочери, а также девочка и мальчик, дети Лидки от брака с бухгалтером. Семейное предание повествовало, что, приходя с работы, он доставал из своей кишени свежий носовой платок, проводил им по столу, этажерке, подоконникам, и, если находил пыль… Сами понимаете! Ещё говорили, любил охотиться с ружьём на диких кабанов… После войны волочил домой мешки с деньгами, и Лидка считала их всю ночь… А потом обчистил кассу на производстве и исчез навсегда неведомо куда.
В сорок пятом году из-за нехватки жилья комнату перегородили. За каменной перемычкой обосновался кладовщик райбазы, известный всей улице тем, что воспитывал истеричную жену снятым с ноги деревянным протезом.
Переборка рассекла на потолке лепной крендель, разломив его на две квартиры. На дедовой половине из кренделя торчал крюк для люстры. Над скрипучим шифоньером, двумя облезлыми кроватями с полуотвинченными шарами свисал выгоревшей эполетой бахромчатый абажур.
Подоконники дружили с перочинным ножом и чернильницей. На одном нехотя цвёл в глиняном горшке колючеватый столетник, на другом пузырилась бутыль, заткнутая марлей: в посудине обитал сладковатый гриб, деликатес, обожаемый бабкой, тётей Верой и всей страной.
В простенке между окнами теснилось большое, закреплённое поклоном зеркало. Печь с широким кирпичным щитом топили вручную, дровами и углём.
Когда осень распускала нюни, в щите начинали гудеть боги огня. Но разве не были они здесь чужаками? Никто не вспоминал тут о Боге, никто не носил даже нательного креста, хотя Лидка после войны (жили во Львове) перед тем, как уложить крещённых в костеле детей спать, осеняла крестным знамением окна и двери, опасаясь бандеровцев… Печь просто была большой птицей, высиживающей своим теплом внучат деда и бабки.
В центре комнаты стоял стол, а в углу тулилась тумба, разрисованная под орех, с двумя толстыми книгами, в которых мальчик читал всё детство про седого Луку, захристанного четырьмя «Георгиями», про Григория, что рубил шашкой матросню, налетая конём на плюющий свинцом пулемёт, и про француза, не желающего снять китель по причине неопрятной сорочки, в то время, как русский граф Игнатьев намерен вручить союзнику орден, надеваемый на шею.
Было, впрочем, и собрание сочинений Иосифа Виссарионовича, «большого учёного, в языкознании познавшего толк».
Над кроватью деда красовалась полиграфическая картина под стеклом с изображением кремлёвской пасторали: тов. Сталин и др.руководители партии и правительства кушали фрукты, пили чай с пирогом из колхозной муки, слушая Максима Горького, кой, густо окая, читал, как сказочник царю на сон грядущий, поэму «Девушка и смерть», что, на вкус сына сапожника, была похлеще «Фауста» Гёте.
Деда внук боялся.
Экс-матрос царского флота (в его роду, по глухим, ничем не подпёртым слухам, затесался цыган), дед служил на железной дороге секретарём партийного бюро.
Старик присматривался-присматривался к лядащему внуку и убеждённо говорил:
– Не, ни чорта – батька, ничего с тебя не выйдет!
Пошёл внук в школу.
Поучился полгода и натворил беды.
Взвился на уроке из-за парты его сосед Лёнька Лагутин (отец – пьяница, ящики посылочные из ворованной фанеры сколачивал и на базаре продавал) и, держа палец во рту, тыча в дедова наследника, прошепелявил во всеуслышанье:
– Евдокия Семёновна, а ён гаварить: нада нашу родину поджечь! И гроши мне на ето даеть!
Учительница обмерла.
Пузатая, шурша зелёным крепдешином, в грозной тишине прошелестела, протискиваясь гуттаперчевой бочкой между партами к растерянному поджигателю, комкающему пачку самодельных кредиток, наштампованных карандашом.
Ахнула.
Мелко затряслась, отобрала «деньги».
– Дети, посидите тихо.
Вывела мальчика в коридор.
И, двигаясь на его лицо катком живота, срывающе, испуганно прошипела:
– Кто ж тебя научил?!
(– Господи! Что скажут в учительской?! Дети разнесут по домам… А директор школы?! О!)
– Да кто же тебя научил? Отвечай, негодник!
И загоняли мать по каким-то неизвестным ему учреждениям. Потому что ещё владычествовал Сталин, и потому что Евдокия Семёновна поисповедовалась не только перед декольтированным лысиной директором, но и в тот же Божий день – едва дождалась сумерек! – проинформировала о чрезвычайном происшествии своего мужа, долговязого водопроводчика, ходившего по городу с гаечным ключом в руке. Встречая знакомых, кланялся приподнимая кепку со словами:
– Моё почтение!
Рассудили дождаться из командировки деда, ибо от матери, таскающей цветы в клуб госторговли гастролёрам-певцам, толком добиться ничего не смогли.
Когда дед был дома, внук спал с ним на одной кровати. Глава семейства храпел. Потом затихал. И вдруг орошал комнату хрипом.
Мальчик цепенел от страха.
Чудилось: дед вот-вот умрёт. Струной отпрянув в угол, прислушивался: дышит ли?.. Дед рассказывал, что когда умрёт, его заколотят гвоздями.
Неужели в руки, ноги, вгонят большие, толстые, жирные от масла (чтоб не ржавели) гвозди?
А уж дед поглядывал в окна. Как несут по улице покойника под марш поляка Шопена, так и сигает к стеклу. И смотрит, смотрит. И глаза сухо блестят. А потом откинется на гугнивый диван, уткнётся в газету, высоко подняв её к лицу, так что даже седой бобрик – причёску «под Керенского» – не видно…
Во дворе у них жила Фроська. Ещё крепкая, лет за семьдесят. Раз летом поругалась с соседкой, препираясь из-за вишнёвых ягод, кому рвать с дерева у неё под окном, а осенью пошла эта самая вишня из её горла кровью; захирела, слегла. Тяжело сопела в своей конуре под образами, в полутьме, с прикрытыми ставнями…
Юркнули к ней парень и девка с другого конца улицы. Давай клянчить у родичей икону Спаса на горе Фавор, чтобы тайком загнать коллекционеру.
Запнулись на пороге и спросили шёпотом:
– Что с ней?
Фроськина невестка накрашенными губами тем же шёпотом пророкотала:
– Рак.
Полезли к образам.
Фроська заворочалась, через плечо прохрипела:
– Не трожь…
Через неделю угомонилась в розовом гробу. Подле неё в саркофаге лежала срезанная ножом с дерева тонкая жердь с белыми пятнышками – следами удалённых веток, похожая на свирель с дырочками, а вовсе не на аршин, которым снимали с её тела мерку для гроба.
На похоронах маячил выбритый до глянца Фроськин сын в подполковничьем мундире. Таращил глаза на бородищу молодого нервного дьякона; вместе с хиленьким попом и двумя хористками из Афанасьевской церкви, тот отпевал почившую. Когда грянул час последнего целования, родня и близкие, пригвождённые невзгодами, гримасничая, морщась, лобзали бумажный венчик на челе покойницы. Один мужик, уже подвыпив, гаркнул, перепугав жидкий хор и детвору:
– Ну, тётка, с Богом!
Дьякон махал над гробом кадилом, чем-то напоминающим небольшую гирю настенных часов-ходиков в квартире бессменного секретаря парторганизации вагонного депо.
Дед вернулся с похорон Фроськи, дерболызнул чарку водки:
– Царство Небесное копачам!
Нет, встречаться с ним после командировки, нынче утром, внуку явно не хотелось. И, когда в коридоре прояснились вкрадчивые шаги, кто-то вышел от молодящейся соседки, он, тихо выскользнул из постели, и, как солдат по боевой тревоге, оделся за минуту. Схватил портфель – и к двери. Стараясь не греметь, чтобы не разбудить спящих женщин и шестилетнюю сестру, нажал на медную ручку, уже надраенную мелом к приезду деда. Из-за непокорной и ехидной двери у внука с дедом возникали свары. Особенно зимой, когда январь выманивал мальчишку на свежий воздух драться в снежки. Дверь делала вид, будто полностью закрыта. Но дед чувствовал, что в его кости, ночевавшие в предках столетие назад у костра в таборе, просачивается предательский холод. Старик устремлялся к двери:
– Ну конечно: щель! Опять не закрыл… Вот я тебя! Вернись только, шельмец!
Фальшивомонетчику удалось без стука выбраться во двор, где спустя четыре года он… выстроит театр.
Театр? В провинции, выжженной войной и солнечным зноем?
Он будет представлять собой характерный для романтиков тип разностороннего художника, совмещая обязанности директора, актёра, драматурга, режиссёра. В труппу вольётся детвора, выросшая беспризорными лопухами на лоне еврейских кастрюль, кацапских клопов, туго закрытых дверей зубного техника, дощатых сараев, каменного колодца с протухшей водой в середине двора.
Рядом сломают дом. Старые, но ещё крепкие доски, гнутые венские стулья о трёх ногах, костыль с распоротой ватной подушечкой, пыльная шляпа, изношенный салоп, всё тряпьё пригодится для первой в уезде драматической сцены. Подростки сколотят помост, натянут кривую проволоку для занавеса из латанных простыней.
И прилетит к ним не чеховская чайка, а опять повестка к его матери в милицию.
Играя под открытым небом, дедов наследник будет ставить пьесы, выдуманные им самим. Перекраивая сказки Андерсена, станет преображаться в стойкого оловянного солдатика, в пляшущую ведьму. Конечно, не останется без внимания и близкое прошлое: партизаны, фрицы, бинты, винтовки. Оружие у босоногих поклонников Мельпомены будет настоящее. Не то, что игрушечные пистолеты из магазина, да их и не купить, денег нет. Зато разжиться оружием можно было на свалке близ железнодорожного тупика, где ржавели, дожидаясь отправления на переплав собранные с полей сражений исковерканные автоматы без прикладов, пулемёты без спусковых крючков.
Пригибаясь, прячась за вагонные колёса, воришки выдёргивали из кучи металла остов «шмайсера» или ствол «максима», задавая стрекоча с трофейной пасеки под ругань сторожей и смех рабочих.
Самодельная афиша с фотографиями артистов ДДТ (Детского Драматического Театра, сокращённое название которого бюргеры остроумно путали с аббревиатурой дуста для травли клопов, тараканов и прочей нечисти) на воротах дома измочалит душу удивлённой улицы, сгоняя обывателей с зачаженных квартир на любопытные эксперимент – спектакли.
И защекочет закон в сердце у подкованного единственной звёздочкой на погонах чуткого участкового. Он ликвидирует у расплакавшейся сестры режиссёра, продающей за столиком у калитки отпечатанные матерью на машинке театральные билеты (по пятаку со зрителя). А родительнице пригрозит серьёзным штрафом за потворство посредством казённой техники процветанию запрещённого частного предпринимательства!
Школа находилась впритык с церковью Иоанна Предтечи, сооружённой греками в девятом веке. На переменках сорванцы перелезали через забор и с любопытством, опаской шмыгали между могил с покосившимися мраморными надгробиями, взволнованно передавая на ухо друг другу: если положить палец на крест – останешься на всю жизнь калекой!
В этот ранний час проказник, сбежав от бабкиного гнева, слонялся до занятий в классе вокруг древнего храма, превращённого в склад. На паперти стоял пехотинец со штыком у пояса.
И, сорванец, которому как любому мальчишке так нравилось всё связанное с армией, оружием, амуницией, военными парадами, кинофильмами и книжками о войне, который постоянно организовывал спартанские игры, оборудуя в сарае или подвале «штаб», раздавая одноклассникам офицерские чины, а себе присвоив чин «генерала», посмотрел ещё раз на часового и подумал:
– Ничего, вырасту и сам встану на его место!
Начались уроки.
В класс вплыла Евдокия Семёновна.
Шлёпнулась на стул, скрестив под столом кочерыжки волосатых ног.
Вызывала к доске по алфавиту. Слушала, рисуя на промокашке кошек и собак. А потом… ка-а-ак глянет на него! Вспомнила!
– «Кто ж тебя этому научил?!»
Да никто его «этому» не учил! Взял дома дедову газету «Правда» и увидел карикатуру Кукрыниксов: оскаленные империалисты суют какому-то бандюге миллионы для разорения и поджога СССР… Втемяшилась картинка в голову… Заскучал на уроке и захотел поиграть: наделал денег из обложки тетради, сунул Лагутину, а тот принял всё за чистую монету…
После напряженно нудного урока по арифметике дедов внук смотрел на большой перемене из окна в соседний двор, где суетилось подсобное хозяйства треста столовых и ресторанов… Желтели клочья соломы, гуляли куры, свиньи, блестела обглоданная топором горка скользких брёвен… Приземистый Корней в шапке, щурясь от самокрутки, запрягал в таратайку конька-горбунка…
Мальчика позвали. Приковыляла бабка. Сунула в руки промасленный бумажный свёрток – пирожки с тёплой требухой:
– У, волчёныш! И где вы взялись на мою голову с вашим белополяцким отцом?.. Жри!
– Ба, а плов сегодня будет? – спросил внук.
Старуха сердито молчала.
Она никогда не говорила так, как выражались её соседи или как печатали, например, слово «плов» в меню общепита, из которого давным-давно испарились названия подлинно русских блюд: ботвинья, кулебяка, растегаи… Блюдо из риса с мясом не именовала по-татарски: «плов», а величала его почти по-персидски: «пилаф»!
Откуда проникло это в говор рода Головко из-под Пятихаток?
Через шесть лет фальшивомонетчика захлестнул тёмно-синий мундир с застёжкой под самое горло из позолоченных дутых пуговиц. Над головой простёрся сиротский нимб. Нет, не жирный, из солнца, как на отечественных иконах, скорее условный, ниточкой, циркулем по кругу, как на картинах Ренессанса – бледный кант на форменной фуражке.
В этом парадном камзоле казённого благополучия его по воскресеньям отпускали из интерната, в тот дом, где уже навсегда не было деда, где бабка после ссоры с роднёй причитала перед фотокарточкой на столе:
– Зачем ты меня оставил? Я ж тут одна, как палец…
По вечерам вдова партсекретаря читала по слогам «Ярмарку тщеславия» Теккерея, надев тяжёлые очки мужа. Кошка сворачивалась в клубок у её ног, напоминая стёсанный ремонтом с потолка крендель для люстры.
Падающими руками старуха месила тесто и жарила для гостя пышки на кипящем масле в кратере чугунного казанка.
Провожала потомка между массивных скал новых домов. И стояла долго-долго на углу – низенькая, лица издали не видно, ветер, глаза слезятся – пока насупленный самостоятельный недоросль не исчезал за поворотом.