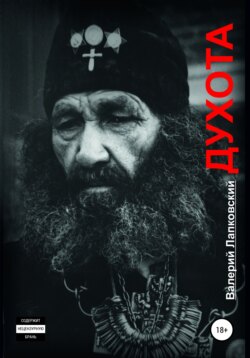Читать книгу Духота - Валерий Иванович Лапковский - Страница 5
Часть первая
Владыка
ОглавлениеНакануне весеннего половодья добрались в областной центр из глухого села в прикаспийских степях две домотканные старухи.
Присели в приёмной архиерея на диван в белоснежном чехле, поджав под себя ватные бурки в калошах…
Так ведёт себя зимой в ресторане девица в летнем платье, стеснительно заглядывая из пустого фойе в переполненный накуренный зал.
Так надеется войти в большую литературу начинающий писатель.
Владыка выскочил в приёмную в белой рубахе, забрызганной каплями свежей крови. Только что на кухне он отчекрыжил голову толстому сазану. За минуту до того, заставив закричать стряпуху, рыба ударом хвоста смела тарелку на пол.
Епископ извинился перед посетительницами, юркнул назад; в дальней комнате выбранил молодого келейника, обязанного предупреждать начальство обо всех визитёрах, быстро переоделся и в подряснике и панагии, с деловитым выражением на приятном, чуть усталом лице, галантными интонациями контрабаса, беседующего с флейтой-пикколо, пригласил женщин в кабинет.
Спустя полчаса он появился в зале, где в обществе портретов Преосвященных монашествовал чёрный рояль с кипой нотных тетрадей на крышке, ритмично отсчитывал время золотистый маятник в стоящем на полу футляре старинных часов. За узким низеньким столом, запорошенным бумагами и книгами, сидел, получив нагоняй, чуть надутый келейник, он же епархиальный архиварус.
– Как вы думаете что это такое? – улыбнулся Владыка показывая принесённый некий предмет в белой тряпице.
«Архивный юноша» изобразил недоумение.
Тогда шеф ткнул перстом в портрет своего предшественника покойного Ф., добавив, что тот… прислал подарок. Архиепископ Ф. дважды тревожил во сне прихожанку, требуя испечь большую лепёшку и отнести ныне здравствующему архипастырю. Истинная дочь Церкви, невзирая на серьёзную распутицу, с подмогой подруги выполнила возложенное на неё послушание!
Положив свёрток на рояль рядом с нотами, епископ опустился в удобное кресло, устремив взгляд на рабочий стол помощника:
– Ну как, дело движется?
(До рукоположения в духовный стан Михаил Николаевич Мудьюгин окончил два института: политехнический и иностранных языков, а также консерваторию по классу фортепиано. Став кандидатом наук, читал лекции в Горном. Этого ему показалось мало. И, возымев благое и похвальное намерение, успешно защитил диссертацию в духовной академии, превратившись в магистра богословия. Теперь архиварус готовил его труд по сотериологии для публикации в «Богословских трудах», проверяя пассажи Писания, уточняя номера псалмов, поскольку ранее патрон занёс их в свой текст по памяти.)
– Есть шероховатости, – заметил подручник.
– Например?
– Сейчас, одну секунду… Вот: «Всякий грех в самом себе и за собой влечёт воздаяние так же, как и принятие яда грозит отравлением…». Далеко не всякий яд – отрава. Яд принимают и в лечебных целях.
– Ну-с…
– На странице пятьдесят шестой… в качестве заядлых болельщиков, подбадривающих игроков на футбольном поле, у вас при спасении человека фигурируют ангелы, сонмы святых…
– Но апостол Павел не чурался выражений, употребляемых в спортивной тематике…
В дверь просунулась Филаретовна, худая, стрекочущая экономка лет сорока пяти:
– Владыка, сазана под сметану?
– Да, пожалуйста… Только не переборщите! И возьмите свёрток на кухню.
Епископ плотно закрыл дверь за Филаретовной, сходил в кабинет, вернулся с папиросой в руке. Опять сел в кресло, закурил.
– Снова неприятности? – осторожно спросил архивариус.
– Церковь в Сероглазке закрывают…
– Как?! Мы же служили там три месяца назад!
– А вот так! Что взбрело в голову, то и вытворяют… Вместо умершего священника я назначил, как тебе известно, отца Виктора из храма Иоанна Златоуста… Сельсовет воспользовался смертью священника, и, поскольку старостиха, как нарочно, тоже отдала Богу душу – я этого не знал, только что сообщили, – забрал ключи и церковную печать…
– А отец Виктор?
– Валяет дурака. Не хочет ехать из города в деревню. Вдруг обнаружил у себя болезнь почек… Я ему твёрдо сказал: это временная, вынужденная мера. Послужишь в селе, вернёшься… Так нет, не хочет… Народ в Сероглазке плачет: ни батюшки, ни ктитора!.. Завтра поедем на службу в храм Златоуста, будь начеку… Отец Виктор популярен, накрутил приход… Как бы не вышло эксцесса!
Архиварус и архиерей впервые встретились, когда Викентий числился в университете, а Владыка занимал пост ректора духовной семинарии и академии. Гладышевский разыскал бурсу в Александро-Невской лавре и, робко попросив у дежурного в сенцах аудиенцию у Его Преосвященства, тут же оную получил.
Обилие икон, тлеющие огоньки лампад в уютном кабинете всё ещё смущали студента, но то, что на стене висела простенькая гитара, а на письменном столе размещался микрокосмодром из серо-белого мрамора, и ручка, заправленная чернилами, готова была к старту в форме межпланетной ракеты, это вперемежку с фолиантами в кожаных потёртых обложках с медными застёжками и шторой на окне, пурпурной, как мантия кардинала, делало далёкое значительно ближе!
Несмотря на их знакомство, о поступлении в семинарию после «бегства в США» не могло быть и речи.
– Разве допустимо, чтобы душевнобольной учился в духовной школе? – осадил епископа попечитель богоугодных заведений, то бишь уполномоченный Совета по делам религий.
Ректора через время сместили в провинцию, дав епархию в прикаспийском крае. Сюда прилетел после освобождения из тюрьмы и психушки его старый молодой друг.
Владыка придумал ему синекуру келейника и архивариуса.
Быть архивариусом значило для экс-студента то же самое, что служить помощником библиотекаря в королевском замке – должность, которую занимал господин Кант, заодно приват-доцент местного университета. В библиотеке монарха книги сидели на цепях, дабы кто не спёр. А в библиотеке горкома партии, куда легально, по записи, некогда проник теперешний «архивный юноша», сиротела лишь одна на весь двухсоттысячный город книга Гегеля, да и та не на привязи, ибо никого, в том числе и первое лицо партаппарата, не интересовала, за исключением идеологического клептомана, который умыкнул шедевр германца, то есть взял в читку и не вернул, что стало дополнительным компроматом по доносу потерпевшей стороны после ареста ворюги.
Покои архиерея размещались в двухэтажном особняке близ кафедрального собора. Собор лежал между новыми домами, как царь Давид в старости среди молодых дев.
На первом этаже располагалось епархиальное управление. Здесь трудились секретарь Владыки протоиерей Василий Байчик, красивый белорус, чья голова, лысея на затылке, всё больше становилась похожа на просфору из Почаева с отпечатком стопы Пресвятой Богородицы, и «первая дама епархии» – экономка Филаретовна, под пальцами которой выплясывали чечётку круглые костяшки деревянный счётов, разрываемая на части базаром и бухгалтерией (« – В храм некогда сходить! Господи, когда это кончится?»).
Шныряла тут и машинистка, ни дать ни взять процентщица из «Преступления и наказания» Достоевского с мышиным хвостиком волос на редеющей макушке. Раздражала архиерея не столько опечатками в бумагах, сколько безудержным любопытством: от кого поступает обильная корреспонденция на второй этаж?
Нельзя, конечно, не упомянуть и прилежного кассира Вертишова, отставного певца оперного театра. Он пел в архиерейском хоре и умел безошибочно определять на нюх, поднося к носу пачку потрёпанных купюр, где и как долго находилась попадающая к нему на оприходование сумма.
– Вот эта… лежала в стальном ящике… А эти деньги… – с заминкой констатировал дегустатор, – из соломенного матраса… Видите?
Во дворе, ограждённом высоким забором с железными воротами, находились гараж, склад свечей и церковной утвари. В клети для сторожей булькал на печурке суп. Собакам варили отдельно.
Привратник Алёха, здоровенный старик, сидя в сторожке на изъёрзанном диване, частенько рассуждал с бабками, приезжающими из церквей за крестиками, ладаном, погребальными покрывалами, что вот хорошо бы съездить в Иерусалим, поклониться Гробу Господню, выкупаться, осознавая своё недостоинство, в мутных водах Иордана… Носился он с этой идеей не первый год. Кто-то посоветовал, и дед поплёлся в инстанцию, где знали всё, были в гуще всего, умели подойти к любому явлению и так и эдак, особенно, если вопрос касался религии; тут будто помнили наказ Леонардо да Винчи своим ученикам – подолгу рассматривать пятна, выступающие от сырости на церковных стенах.
– Сколачивай делегацию. Как соберёшь человек тридцать в Иерусалим, приходи. Выпишем визу! – сказали Алёхе.
– Да, выпишете вы, – кряхтел старчище, уходя, – на тот свет!
Второй этаж архиерейских покоев пропах чесноком и луком. Владыка не ел мясо. Летом удирал на «Жигулях» в леса соседней области… Пекло солнце. Епископ тесал колышки, счёсывая пот со лба лезвием топора. Крепил с келейником палатку, загоняя в землю выструганные клинья. Рыскал по чащобе, собирая грибы на зиму. Нанизывал их на нитки и сушил за ширмой на веранде архиерейских чертогов, точно письменные узелки от знакомого поэта, увлечённого, как и он, охотой на боровиков и лисичек.
В опочиваленке Владыки было тесно от книг, коробок с граммофонными пластинками, древних икон. Птичьим базаром гнездились в плоском скворечнике под стеклом ордена с разноцветными лентами, наградами отечественной и иностранных Церквей. На утренних и вечерних молитвах Преосвященный поминал умерших родственников и близких, чьи фотографии грустили близ аналоя.
В углу спальни приткнулся верстак – маленький стол с железными тисками и телефоном. Архиерей то выравнивал в тисках погнутый ключ, то надпиливал деталь для магнитофона, то хватал телефонную трубку:
– Алло! Будьте любезны, два билета на «Аиду».
– Алло! Междугородная? Свяжите меня, пожалуйста, с Москвой, а через час – с Киевом.
– Алло! Пётр Алексеевич? Здравствуйте, дорогой… Так вы сказали мастерам, что золотить купол мы согласны?
Бывало, утром выскочит во двор в подряснике, продранных носках и шлёпанцах, с суворовской косичкой на спине, и потянет сторожа да Филаретовну с глухарём Вертишовым в садик под окнами покоев – смотреть на ещё одно доказательство бытия Божия: плющ, что пробирается щупальцами не в пустоту, а к стволу цветущей яблони… Разумно? То-то… Везде Промысл Божий!
Выглянет в летний полдень из открытого окна кабинета, разыскивая архивариуса, точащего лясы с Алёхой:
– Иваныч!
– Чего изволите, Владыка?
– Чтоб завтра у вас были плавки! Едем в лодке на острова. Запомните: плавки у вас всегда должны быть при себе, как паспорт.
– В таком случае благословите, Ваше Преосвященство, окромя трусов для плавания, держать под рукой… пару гранат и парашют!
На Пасху и Рождество в доме архиерея пировало городское духовенство. К вечеру столы накрывали вновь, сортируя остатки, добавляя непочатые бутылки коньяка, вина.
И тайком стекалась на рождественский раут (или, если хотите, клавирабенд) местная интеллигенция; воровато пискнув звонком в воротах, неслась по крутой лестнице в объятия хлебосольной рясы.
Приходили дамы из консерватории, соблазненные перепиской Владыки с директором миланского театра «Ла Скала», давней дружбой епископа с опальным виолончелистом, приютившем на своей даче паскудного «Паука» из Рязани и готовым публично обматерить любой конгресс соотечественников, если тот станет ему мешать сменить во имя свободы смычок на автомат.
Великий музыкант, выдворенный из страны, триумфально гастролировал на Западе, а на Родине пили за его здоровье архиерей и архивариус, через руки которого (не преувеличивайте!) шла переписка Ореста и Пилада.
Келейник ежедневно относил на почтамт письма шефа и доставлял ему помимо обильной корреспонденции из разных мест и от разных лиц послания из Лондона от «Славы» и его оперной жены, примадонны «Вишни», коих Владыка когда-то обвенчал в своих покоях. Маэстро утверждал, что, архипастырь – единственный, кто пишет ему из России.
Иногда перлюстраторы развлекались, возвращая иерарху его письма на Запад с придиркой к двум-трём помаркам на конверте: «Грязь!». Владыка едва не посылал чистоплюев «Вниз по матушке по Волге…» и сбагривал испорченный конверт в архив письмоноши.
На праздничном вечере у Владыки одна голосовая щель, уже успевшая нахватать успеха, изображая на сцене Медею с сигаретой в зубах, исполнила вместе с балетмейстером Аскаридзе, наконец, подстригшим свою куафюру и украсившим нос деликатными очками, дуэт потаскушки Церлины и простофили Мазетто.
Другая гостья принимала себя за совдеповскую Сапфо. Накануне климакса дала сольный концерт в Музее политехнического института, набитого физиками и лириками. Читала самодельные стихи, вздёрнув подбородок, вытягивая шею вверх, как курица, когда пьёт воду. Поэтессу засыпали бумажками с вопросами, будто дьякона, оглашающего на молебне записки за здравие и за упокой.
Здесь чувствовали себя как у себя дома и неувядающие вокалисты из оперной труппы. Благодаря их стараниям у магистра имелась забронированная ложа. В театре епископ сидел в берете мышиного цвета, пряча под него суворовскую косичку (просим не путать, как бы вам ни хотелось, с подстриженным хвостом будённовской кобылы). Дул в антракте бутылочное пиво, доставляемое из буфета подхалимствующим (ну знаете ли!) келейником.
Владыка делился с гостями впечатлением от пребывания на конференции экуменистов за границей, что их, естественно, почти не интересовало, зато все развесили уши, когда хозяин рассказал о том, как посмотрел и послушал «Саломею» Рихарда Штрауса. Разумеется, в модернической интерпретации. Вот как это выглядело: из темничной ямы на сцене выполз пророк с чёрным от косметической сажи измождённым лицом, с тремя косицами волос, похожими на перья папуаса; из той же впадины вдруг ни к селу ни к городу появился поднятый наверх настоящий жеребец, готовый ржать на чужую жену в партере или на свернувшуюся в клубок на пьедестале дочь Иродиады в трусиках и лифчике. Так она символизировала эротический перепляс, соблазняя Ирода, который повелел отрубить голову Иоанну Крестителю. И подобно тому, как мафия в голливудском кинофильме подсовывает отсечённую башку любимого коня в постель спящему конкуренту, Саломея то лобзала окровавленный трофей – муляж черепа жеребца, то прикладывала его к сидящему нагишом на стуле смертельно бледному манекену – обезглавленному трупу самого великого из людей…
Пособив Филаретовне обслужить гостей, архивариус под благовидным предлогом (ответив баритону на вопрос «Почему Пасху празднуют в разное время?» тем, что у Христа скользящий график) исчезал из-за стола, уединяясь в кабинете епископа с томиком Шопенгауэра из букинистической библиотеки шефа.
От этого бегства веяло ситуацией двухгодичной давности… Когда южанин прилетел впервые в сей богоспасаемый град, Владыка благословил его облачиться в стихарь и участвовать в богослужении кафедрального собора.
Парень взлетел на седьмое небо!.. Так легко и просто взойти в неприступный алтарь? Совершить то, о чём столько мечтал?.. Не верилось!
В боковом приделе алтаря сновала взад-вперёд юркая троица согнутых старух в монашеских скафандрах, приглядывая за огнём в небольшой нише, где тлел древесный уголь для кадила. Тут же, на электроплитке, блестела сковородка с горячими сырниками. Алтарницы исподтишка умасляли этой стряпнёй протодиакона и его помощников.
– Редиска подешевела, слышал?
– Почём?
– А раньше была сочнее…
Новичку в стихаре хотелось отрезать себе уши!
Заметив на клиросе певчих без головных платков, он тихо-тихо спросил у отца Петра, недавно рукоположенного в духовный сан:
– Почему хористки нарушают правило? Апостол Павел запрещал женщинам…
– Запомни! – наклонился к нему батюшка, обдав запахом цветочного одеколона. – Видел, не видел, не твоё дело. Главное – молчком. Вот, как я. Год не прошёл, а уже – в рясе!
По стандартному рецепту всех романтиков или святых (Иосиф Волоцкий, юношей попав в монастырь, рванул в другую обитель, услышав в трапезной от мирян сквернословие) южанин, не выдержав того, что узрел в алтаре, на следующий же день дезертировал домой с таким привкусом горечи в душе, что даже мудрость бесовская, не удержавшись, шепнула ему на ухо, а хорошо было бы, если самолёт, на котором удирал, рухнул бы из поднебесья наземь.
Из Крыма настрочил епископу эпистолу, полную удивления перед тем, как архиерей столь невзыскателен к эстетической безвкусице подчинённых ему кафедралов. Но когда раскрыл свежий номер столичного церковного журнала, где под рубрикой «Богословский отдел» писали, что царица присылала Патриарху первую редиску, а сам Святейший любил благословлять свежие огурцы, понял истоки обнаруженной им в провинции теологии овощей… Через год блудный сын, испросив в письме покаяние на коленях, вернулся к Владыке, и тот ещё раз предупредил его не строить иллюзии.
Жизнь в архиерейском доме была погружена в атмосферу секретности.
Машину подавали к заднему крыльцу, точно коня Онегину. Куда отправлялся Преосвященный, шофёр узнавал только в центре города. Поборов дремоту, епископ командовал:
– Лево руля!.. В храм Петра и Павла.
Как опытный лазутчик, архиерей тормозил «Волгу» за тридцать-пятьдесят метров до цели. Вместе с келейником подкрадывался переулками. На цыпочках проскальзывал в церковь, прятался в полутёмном углу, наблюдая за всенощной. Его замечали, начинали шептаться. Тогда он проникал за иконостас; требовал от растерянного батюшки алтарный журнал, справлялся по записям о делах: сколько крестят, венчают, чему поучает настоятель народ.
– Крышу починили?
– Н-нет…
– Почему?
– Староста…
– Давайте сюда старосту.
Ктитор (пакля благочестия, санкционированная в горисполкоме) лобзал руку архиерея.
– Почему крыша не залатана?
– Уполномоченный…
– Я это давно от вас слышу. Или вы в течение двух недель отремонтируете, или будем вас переизбирать. Сколько платите в фонд мира?
– Тридцать тысяч.
– В год?
– Так точно.
– И данной суммы не хватает, чтобы уладить с уполномоченным вопрос о приобретении оцинкованного листа для кровли?
Однажды, сев в машину, архипастырь повелел:
– На блошиный рынок!
Советский народ собирался на барахолку, едва таяла утренняя роса фонарей. В пыльном пекле толчка галдели татары, евреи, осетины, казахи, русские. «Новая историческая общность людей» (рождённая очередной «Программой» правящей партии, чтобы все были одним народом, как повелел в своём царстве ветхозаветный царь Антиох) сварливой цыганкой сидела на куче продаваемого тряпья: выпрошенных или выкраденных по домам заношенных юбок, серых наволочек, парусиновых туфель. Смуглая девочка из табора, хохоча, сверкая белыми зубами, била ногой по луже, обдавая брызгами рассерженных покупателей и весёлую мать.
Епископ, натянув поглубже фетровую шляпу, в светозащитных очках и плаще лавировал в толпе. Его толкали. Он улыбался:
– «Пошёл поп по базару…»
Келейник давал шефу справки по вопросам приобретения товаров, обращая внимание то на колесо отполированной прялки, то на бахромчатый томик Библии, то на козла рядом с запчастями к дизелю. Для архивариуса в этих вещах, как в шифрограмме барахолки, была спрессована история древнего и нового мира: Парки, богини судьбы, пряли нить жизни; выплясывал козлоногий сатир, спутник Диониса; Тайная Вечеря вставала со страниц Священного Писания…
Епископ превратился на толкучке в ребёнка, который зачарованно вертит подаренный игрушечный мотоцикл. Ему всё хотелось потрогать, обо всём расспросить…; во время войны он выменял на таком же рынке серебряный брегет на буханку хлеба.
Владыка купил лупу для кабинетской работы. И когда, сняв очки, поднёс увеличительное стекло к глазу, одна старуха толкнула другую:
– Гляди! Архиерей!
После визита паломниц с медовой пышкой епископ и келейник отправились на «Волге» в храм Иоанна Златоуста. Отворяя ворота, Алёха напутствовал:
– Вы там поосторожнее…, а то… съедят!
Остался позади белокаменный кремль с чешуйчатыми крышами башен, высоченная аляповатая колокольня… Мелькнул оптимистический щит, обещающий в текушей пятилетке увеличить количество больничных коек на шесть тысяч… Попался по дороге храм старообрядцев. Его настоятель наведывался к Владыке, прося по бедности немного свечей, маслица. Штукатурка у входа в молельню кержаков осыпалась, обнажив бледно-красные дёсны кирпичей. Бастион кособоких лачуг держал круговую оборону, отбивая атаку железобетонных каркасов, танками ползущих на православный рубеж… Около вокзала на скамейке спали двое. Их растолкали к поезду. Один, в каракуле на голове, разостлав ковриком пиджак, закрывая в такт молитве уши руками, метал поклоны. Сидящий рядом шнуровал невозмутимо ботинок…
В переулке, задушенном жарой, сидела на корточках в тени большого деревянного дома горстка мужчин около пивной бочки с усатой продавщицей и мухами, прихлёбывая из стеклянных и жестяных банок прохладный брандохлыст. А по улицам гремели гитлеровскими «тиграми», ворвавшимися в населённый пункт, старые неуклюжие трамваи.
Город тлел в безразличии к тому, что тревожило архиерея и его помощника…
Машина въехала во двор церкви.
– Будьте начеку, – предупредил Владыка.
Скрывая напряжение, отслужили обедню. Епископ блестяще произнёс успокоительное слово, тепло поздравил с престольным праздником. Две тысячи платков смиренно выслушали архипастыря, но, едва он сделал шаг к выходу, толпа хлынула к амвону:
– Вла-ды-ка!
– Оставь батюшку, отец родной!
– Не смей!
– Отдай отца Виктора!
– Вла-ды-ка!
– Он больной!
– Смилуйся!
В передних рядах падали на колени; плача, простирали руки, хватали край архиерейской мантии.
Управляющий епархией чуть побледнел.
Отступил, впился ладонями в жезл, опёрся.
Но, сколько ни пытался успокоить народ, применив сначала обычный строгий тон, а затем ласковые угрозы, в гуле массовой истерики ничего нельзя было разобрать.
Келейник протиснулся к начальнику, увлекая за собой трёх иподьяконов. Быстро взяли архиерея в кольцо, сцепив руки в локтях. Архивариус, шагнув вперёд, повёл алтарную рать на прорыв, приподняв над головами прихожан посох архиерея, точно шест с медным змеем, который Моисей воздвиг в пустыне ради спасения малодушествующего народа от кусающих гадюк.
Ему саданули кулаком в рёбра.
Под ругань и вой, защищаясь от ударов, пробились на паперть.
Протодьякон, пропустив Владыку, упёрся ногами и спиной поперёк выхода, создав пробку в дверях и держал её до тех пор, пока не отъехала машина с епископом.
Эта сеча была сродни благочестивому дебошу после Крещенской обедни. Миряне, тарахтя банками, бутылками, флягами, всякой пустой тарой, кинулись к большому баку с освящённой водой. И так тараторили, так ликовали, попирая чинопоследование торжества, что вытолкнули архипастыря из алтаря, который, дабы унять гвалт, вострубил словами Горького: – Люди, человек это звучит гордо!
– Гордость, Владыка, грех! – отрезала грудастая разъедуха, туловом прокладывая путь к заветной жидкости, скачущей в жизнь вечную.
Через час после бучи в храме Иоанна Златоуста у запертых наружных ставень архиерейского дома зачервились первые пикеты. Взятие Бастилии, где засели 14 инвалидов, побоище на Невском озере, утопившим приблизительное такое же количество псов-рыцарей, право же, не менее великие события, чем штурм Зимнего, охраняемого болтливыми юнкерами и дамским батальоном. Что значит перед ними бунт в захолустном храме?
Так, возвышенно размышляя, келейник, прихрамывая (во время толкотни ему почти оторвали каблук), выходил объясняться, растолковывая, чем продиктован перевод отца Виктора ну на какой-то месяц в другое место.
Бабоньки ничего слышать не хотели, упорно требовали архиерея.
Понемногу остывали и по воле Божией рассеивались восвояси.
Архивариус пил кофе в кабинете Его Преосвященства.Патрон набивал гильзу папиросы ваткой вместо фильтра…
– Если епископ не может исполнять обязанности по злобе народа, приход подлежит отлучению: правило вселенских соборов, – молвил помощник.
Владыка молчал.
Затем потянулись будни. Архивариус корпел над диссертацией магистра, подготавливая справочно-библиографический аппарат; рассылал по храмам двухстраничный бюллетень о трудах и днях епархии; посещал по поручению Владыки немногочисленные парафии, делясь с ним впечатлением о чечевичном красноречием настоятелей.
Порой во время их бесед епископ стремглав, с некрасивой поспешностью кидался из залы в кабинет к надрывающемуся телефону. Звонил пастушок, стерегущий гусей – уполномоченный по делам религий Комиссаров. За неимением казённой машины он пользовался церковной «Волгой», как собственным лимузином.
– Такого уполномоченного я ещё не встречал, – говаривал Владыка. – Мне кажется, он… верующий.
– И бесы веруют…, – параллельно ему саркастически цитировал Библию келейник, зная, что от согласия Комиссарова зависит его рукоположение в духовный сан.
Ему хотелось пройти по городу в подряснике, как мальчишке не терпится постоять с настоящим автоматом в почётном карауле у могилы павших в бою героев.
Он подталкивал епископа ускорить хиротонию, но тот считал, что подниматься из окопов в штыковую ещё рано. Неприятель сделал ход конём, положение наших фигур на шахматной доске сейчас неблагоприятно. Архивариус взрывался, дерзил, смутно подозревая, что за осторожностью шефа прячется трусость.
– Уж не принимаешь ли ты меня за генерал-губернатора, к которому Пушкина сослали под надзор? – отбивался святитель, ковыряя дужкой очков в пушистом ухе.
Тогда «чающий почести вышняго звания» решил сам заглянуть в пасть некормленому зверю. Он знал, чем дольше заключённым удаётся вести себя по отношению к охране как к обычным людям, становясь ближе им, тем больше шансов выжить, уцелеть от преднамеренного истребления. Ежели возникает возможность переброситься словом с надзирателем, есть надежда очеловечить себя в его глазах, смягчить его жестокость, обратить слежку и преследование в диалог.
Дождавшись, когда Владыка улетел в Африку на встречу богословов в Найроби, келейник отправился к Комиссарову, как девушка в буржуазном государстве, что идёт в полицию за справкой, разрешающей работать проституткой.
Ставка кукловода духовных дел, явочная квартира, где варили и вправляли мозги всей епархии, обосновалась в элементарном жилом доме, вроде каморки Хлестакова, пятый этаж на Гороховой. Здесь каждому священнику давали понять, что не берут (!) взяток, да, не берут (а почему не берут? – это не мог осилить ни городской, ни сельский батюшка… Ведь прежний начальник… ну, не то чтобы… Но если, так, подсунуть два десятка яичишок, индюшку, оставить в прихожей сумку с конвертом между мясом и апельсинами… так ничего… дела идут!)
Кабинет уполномоченного имел обескуражено канцелярский стереотип: голые стены, голый пол, голый стеклянный шкаф с юридическим справочником и домовой книгой – копией Конституции, что находилась на борту космического тарантаса, не сумевшего состыковаться с орбитальной станцией.
В соседней комнатушке тарахтела тарантелла пишущей машинки.
На столе – клумба окурков в пепельнице.
Непрошенный визит в это заведение был нахальством.
Архивариус данное обстоятельство понимал и старался беседовать с бритым аскетом вкрадчиво-доверительными интонациями. Так, вероятно, ведёт себя за границей перед сотрудниками отечественного посольства новый глава партии (давеча управлял хлебородной областью в ныне руководимой им стране). Лидер улыбается, подбирает выражения, временами острит, нисколько не заискивает, готов предложить ценные рекомендации. Дипломатический персонал внимательно его слушает, не менее вежливо, даже преданно рассматривает, думая о своём…
– Это хорошо! Это очень хорошо, что вы сделали объективные выводы из своего прошлого… Это говорит ваше воспитание, опека деда, старого большевика… – цедил воинствующий материалист, посасывая «Беломор». – Но, простите, вы желаете стать дьяконом? Я не ошибаюсь? Пожалуйста! Я тут ни при чём. Всё в компетенции вашего архиерея. К нему и обращайтесь. Мы не вмешиваемся в церковную жизнь.
– Я понимаю, что вы тут «ни при чём»… Но… поскольку Владыка не идёт мне навстречу… не могли бы вы в силу своего авторитета, уважения, питаемого к вам Его Преосвященством… не могли бы вы… повлиять на архипастыря?.. Помочь мне избавиться от багажа предыдущих ошибок и вести в качестве служителя Церкви нормальную жизнь, полезную обществу? – старался архивариус не метнуть в сторону Комиссарова взгляд наподобие чернильницы, которую Лютер запустил в чёрта.
– Номер не прошёл, – почуял молодой человек, выходя на улицу, – чуть переиграл с покаянием…
Мимо него, чем-то сильно озабоченная, пронеслась Савельевна, казначейша из собора.
– Богоносица! – поймал её за руку. – Ты чего здесь?
– Батюшки! Отец келейник! Здравствуйте, как ваши дела? Владыка скоро вернётся?
– Нет, ты скажи сперва: как ваши дела?
– Да-а-а какие наши дела-то? Божьим попущением за бесчисленные грехи наши учинилась неудобосказуемая напасть… Вызывает Комиссаров!
– Зачем?
Бабка оглянулась по сторонам, у неё явно не хватало слов для характеристики фантасмагорических сил, и засипела шёпотом:
– Вызывает меня Комиссаров месяц назад и рече: «Давай!».
– Что «давай»?
– Что? Знамо что. Деньги!
– Какие?
– Какие? Ну ты, батюшка, совсем… Какие деньги? Церковные!
– …?!
– Ну, значит, говорит, в банке у вас сколько тыщ? Ладно, говорит, сами знаем. Ты, говорит, Екатерина Савельевна, человек с понятием, не то, что другие. Нам, значит, не хватает. Вы должны помочь, выкроить тыщ двадцать на момент старым большевикам… нет… на монумент, путаюсь…
– А ты?
– Что я? Говорю: родимый, да где ж? Нам самим капитальный ремонт в храме пора делать да в фонд мира… «Не хотите помочь – ремонта не будет!» – трах кулаком по столу, аж пепельница дыбом… Поплелась к нашим в собор… Что делать? Ума не приложим, Владыка в отъезде… Одни: «Дайте!», другие: «Нет! Не имеет права!»… Переругались, прости Господи!
– И что?
– Потужили и решили: дадим. Съел волк кобылу – подавись он хомутом! Но дадим, если только свет в сторожку протянут и новую печь для просфор разрешат сложить… Вы уж, отец келейник, извините, некогда, к Комиссарову опаздываю… «Иду на зверя, на льва – Пресвятая Владычица за меня»!
Владыка, узнав от келейника о рандеву с Комиссаровым (детали сей операции они вдвоём тщательно разработали до отлёта епископа в Африку) рассмеялся.
– Посмотрим, что он запоёт, когда ему станет известно о нашей поездке в Сероглазку!
– В Сероглазку? Когда?
– Завтра.
– Владыка! – накрывая на стол, всплеснула руками Филаретовна. – Да вы что?! Волга разлилась, дороги размыты! А нашим крейсером разве доберётесь? Утонете!
– Раба Божия, прекратите нас отпевать раньше срока… Приготовьте вещи… Никому ни слова!
Рано утром «криминогенная группа с антиобщественной ориентацией» – епископ, секретарь, келейник, шофёр – сели в зыбкую моторную лодку с грузным чемоданом (в нём лежала разобранная архиерейская арматура: жезл, рипиды, кадило и прочие принадлежности). В двух километрах от села Ноев ковчег с промокшим до костей пассажирами едва не захлебнулся.
– Кто посмел?! Я же запретил служить назначенному священнику! Он своевременно не прибыл к месту исполнения своих обязанностей! – кричал Комиссаров в телефонную трубку председателю сельсовета. – Кто открыл церковь? Какой «батюшка»?! Как фамилия? Почему совершают обедню? Я никому не давал регистрацию!
Через час Комиссаров, представитель обкома и ещё какой-то администратор, преодолев на бронированном катере сумасшедшее половодье, когда гром цитировал кряхтенье дьявола, а ветер вонзал в купола храмов шпоры крестов, вломились в пышущую жарким дыханием переполненную церквушку. Навстречу им – бляха муха! – кадя в дряблые ноздри уполномоченного заморским ладаном, по-царски помахивая кадилом, вышел из алтаря… правящий архиерей.
Лопаясь от злости, забрызганные непогодой угрюмбурчеевы потоптались с ноги на ногу и отчалили. Запретить служить епископу в храме, официально не закрытым столицей, они не имели права. Комиссаров воспылал жаждой задать жару Михаилу Николаевичу и накатал на Мудьюгина жалобу в центр!
А тому вскоре опять приспело время собираться за границу.
– Хочешь увидеть металлообрабатывающий станок с программным управлением? – предложил епископ сопровождающему его келейнику, когда прилетели в Москву. – Пойдём на Смоленский бульвар, глянем на Совет по делам религий.
Обычно перед отлётом за рубеж он делал остановку в Троице-Сергиевой лавре.
В монастыре оба преображались: архиерей – в Чичикова, архивариус – в Петрушку. Как и подобает главному герою, архипастырь хлопотал о мёртвых душах, дискутируя с богословами об участи умерших, о том, как будем жить и мы за гробом. Слуга же, как и полагается слуге, приложившись к мощам преп. Сергия в серебряной раке в грустной сумеречной церкви, добросовестно дрых в архиерейском номере лаврской гостиницы. Его не волновали ни выставленные напоказ в церковном музее ордена Трудового Красного Знамени, пожалованные Патриарху из Кремля, ни трапезная семинаристов, где, как в интернате для детей из малообеспеченных семей, кочевал со стола на стол алюминиевый чайник со взболтанным кофе. И не было ему никакого дела до того, что где-то неподалёку, в одной из московских квартир, сплюснулась на кухне столичная интеллигенция, верующая в Бога и своего пастыря. Пока батюшка не прибыл к месту встречи, люди давились на кухне свежим номером «Русской мысли», отпечатанным в Париже. Заходили, скинув башмаки в прихожей, в просторную горницу, рассаживались по лавкам; тут были беременные, кучерявые, плешивые, студенточки и школьники, евреи и даже симпатичная немка, член партии зелёных из ФРГ. На широком столе томились пастила, бублики, гора чайных чашек. Жительница Германии достала из портативной сумочки кипу визитных карточек и раздала их новым знакомым, точно иконки, которые якобы при царе на передовой вручали вместо патронов к винтовке русским солдатам.
Наконец, пожаловал благодетель.
Пыхтя, отдуваясь, в сопровождении высыпавших ему навстречу молодых поклонников стал преодолевать этажи, поднимаясь по лестнице, игнорируя лифт.
В прихожей, где была свалена, как в лавке сапожника, гора снятой с ног разной обуви, будто куча выписок из 148 книг, 232 статей, множества отдельных замечаний, исторических экскурсов, подсчётов, заметок в одном из произведений Ленина, лягнувшего новый этап капитализма, заохали, заахали:
– Батюшка! Батюшка!
Сняли с него ризы кожаные (широкое кожаное пальто), пушистую шапку, похожую на зайца, которого герои Рабле пускали на подтирку, и перед всеми очутился полный, лысый, мягкий в движениях колобок с дымчато-белой бородой – знаменитый отец Андрей Гудко. Он тут же засюсюкал с детьми. Радуясь многолюдью, пробрался на торец стола, уселся, принялся беседовать с новичками, спрашивая, курит кто или пьёт, назначая с ходу епитимию. Он был так благочестив, что, говорили, даже к жене в постель не ныряет без дымящего кадила. Как Сократ у Платона, оперировал в своей речи самыми обыденными примерами.
– Демоны, – наставлял прозорливец, перебирая по пальцам, точно «Справочник партработника», азы «Добротолюбия»,– ни целомудрия не ненавидят, ни постом не гнушаются, уважают священные книги, не чураются уединения, спят на голой земле, совершают всё, что и истинно верующие, ежели человек поддакивает им! Не тело, дорогие мои, надо наполнять, а душу плодами Духа Святаго… Потейте, чада мои, подражайте ангелам… Облобызаем, братия и сестры, друг друга, ибо чрез сие стираются угловатости души, чтобы удобнее катиться к цели нашей!.. Ну, задавайте вопросы…
И сразу выползло надоевшее слово «диалектика».
Здесь считали необходимым посудачить о ней, как и где-нибудь летним вечером на опутанной виноградом веранде в Коктебеле, в запущенном доме отставной актрисы, сдающей комнаты и чердачные углы отдыхающим… Та же столичная интеллигенция, загорелая, в открытых сарафанах, сидя под лампочкой Ильича, слушает стихи пока непризнанного поэта и потягивает из гранёных стаканов горячий грог. А рядом клюёт носом набегавшееся за день море.
Не наговорившись всласть с лютеранами на богословских собеседованиях, Владыка порой возвращался поздно вечером в отведённую ему в лавре «резиденцию» с каким-нибудь иностранцем. Высокий гость в рясе и с чёрной бородкой (фасон «Мамина пися») выражался по-русски, но с акцентом.
– С точки зрения психологии верующего, всякий эксцесс, которым он торпедирует окружающее его инерционно-безбожное общество, есть тревога, страх за самое себя со стороны веры, её размытость, инстинкт внутреннего самосохранения…
– Но контратака противника может также свидетельствовать о желании, во что бы то ни стало, выжить, отстаивая принципы атеизма, постоянно нуждающиеся в доказательстве верности самим себе…
( – Пусть меня черти унесут, – сказал тут про себя Санчо, то есть архивариус, – если мой господин не богослов, во всяком случае он похож на богослова, как две капли воды.)
Потом собеседники заводили речь об истоках ценности человеческой личности в творчестве экзистенциалиста Б., берущего начало в бездне…
– Заимствовано у Якова Бёме! – подавал голос архивариус, не вылезая из-под одеяла.
– О! – удивлялся чужеземец. – Знает!
Между тем, старухи из Сероглазки, что постучались к архиерею накануне половодья, догнали святителя в столице.
Отец Виктор повинился, прибыл в село, но ни ему, ни новому старосте ключи и печать сельсовет не вернул.
Владыка рассказал прихожанкам, как разыскать в Москве Смоленский бульвар…
Старух вежливо принял и терпеливо выслушал плешивый человек среднего роста, с волосками на носу. Он был в очках, жилетке, сером галстуке и называл себя «клерком», не подозревая, что превратился в ходячую цитату из сочинений Ключевского: «Отличительным характером русской бюрократии сделалось ироническое отношение к самой себе…». Клерк заявил:
– Совет по делам религий не в состоянии остановить естественный процесс закрытия храма.
И уставился на волжанок, как на Пищань-речку в пяти верстах от местечка Пропойска, текущую с севера на юг.
Бабки – в три ручья, и опять – в лавру.
Архиерей позвонил в Совет.
Ему стали утюгом отпаривать мозги:
– Храм в аварийном статусе.
– Позвольте, год назад отремонтировали, провели, наконец, свет…
– Разбирайтесь на месте. Там виднее!
В коридоре монастырской гостинице переливался радугой цветной телевизор: люди со здоровой печёнкой танцевали на льду кадриль.
– Всё!.. Ничего не поделаешь…
Круглое пятнышко светлой панагии на чёрном подряснике архиерея зазияло дыркой в днище просмоленного баркаса.
И побрели по Москве оглушённые его словами, многолюдьем, толкотнёй, машинами, рекламными облавами, усталостью («Ноги, ноги! Хоть на рельсы ложись!») две никому не известные бабки из прикаспийской глубинки, где собаки летом спят, лёжа в лужах.
А тут на их головы ещё беда свалилась, помешала пробиться к кому-нибудь из начальства: в стране по случаю смерти важного государственного лица объявили траур… Ни одно учреждение не работает… Приспущены флагами в знак печали штаны у членов ЦК…
То не мыши кота хоронили, то не колокола заливались протяжным плачем, то по широким улицам столицы под траурно-триумфальную музыку везли на артиллерийских дрогах узкий красный футляр с телом именитого политика, который перед смертью зачем-то спрятал в холодильник свои калоши.
В сороковых годах девятнадцатого века некий отставной вице-губернатор заказал для себя саркофаг с иллюминатором, дабы сквозь стекло можно было любоваться его трупом, не поднимая крышку. Подобный ящик наспех сварганили Сталину перед подселением в Мавзолей на двуспальную кровать рядом с рыжеватым блондином. На верхушку домовины водрузили картуз генералиссимуса, точно миску с похлёбкой для покойника на подоконнике колхозной избы.
Гроб соратника Иосифа Виссарионовича был открыт.
В нагрудном кармане чёрного пиджака угасшего номенклатурщика франтовато белел треугольник носового платка, хотя при жизни покойный всячески избегал каких-либо аксессуаров, намекающих на стандартный имидж интеллигента разлагающегося Запада. Его руки были вытянуты по швам, вдоль ужаренного туловища. Он и мёртвый стоял перед партией навытяжку.
Орудийный лафет полз вслед за сотней пышных венков по оголённым улицам города, чьи жители некогда зарядили в пушку прах самозванца и пальнули в ту сторону, откуда пожаловал непрошенный правитель.
По бокам катафалка старательно вышагивали вооружённые карабинами солдаты, высоко, по-балетному, поднимая ноги в начищенных сапогах.
Задумчивые генералы, отвыкнув в густых штабах от строевой подготовки, с развальцем несли алые пуховички с орденами и медалями усопшего идеолога: после войны он усмирял «лесных братьев» в Прибалтике… Нос его торчал из гроба плавником вынырнувшей акулы, внутри деревянной формы которой в древности хоронили знатных воинов.
Вот и Красная площадь. Гоголевский Манилов, вытряхивая из трубки на подоконник горки табачного пепла, сам того не подозревая, смоделировал способ похорон урн с прахом в кремлёвской стене, перемигивающейся с иерусалимской Стеной плача.
На гранитную галерку Мавзолея не спеша поднялись престарелые вожди, похожие на птиц клещеедов, что пасутся на спине носорога.
Взвизгнул ветер. Один из руководителей поднял меховой воротник.
– Будем начинать? – сипло спросил у помощника.
– Давай, – кивнул тот.
– Подержи шапку, – попросил генсек рядом стоящего. – Спи, дорогой! – буркнул в микрофон и опять нахлобучил головной убор.
Пока земляк дохляка, директор рыбоконсервного завода, речью по шпаргалке крутил уши мертвецу, глава партии отвернулся и стал глотать горячий кофе из стаканчика термоса, заботливо припасённого обслуживающим персоналом, чьи тени шныряли за спинами сутулой элиты.
Под мавзолеем теплел буфет с широким ассортиментом водок, вин, коньяков. Туда можно было спуститься и помянуть достойного соратника.
Чуть дальше в подземелье дежурила солидно оснащённая лаборатория: сто пятьдесят научных сотрудников в медицинских халатах регулярно подмывали мошонку мумии Погонщика рабочих и крестьян. Государство ежегодно грохало на эту процедуру из карманов налогоплательщиков целый миллион.
Полковники подняли деревянный пирог с мясом «серого кардинала» и на плечах понесли к яме неподалёку от могилы и в ус себе не дующего, спящего вполглаза тирана, на физиономии которого прыг-скок, прыг-скок, баба сеяла горох.
Родня быстро приложилась к ледяному челу.
Из-за ёлок выскочили расторопные солдаты. Ловко завинтили крышку и на помочах стали опускать багряную колоду в аккуратный зев.
Взмыла с башни тёмная птица.
Дирижёр военного оркестра ещё энергичнее метнул вверх руки в белых перчатках.
Овдовевшие мафусаилы подъюлили к семье того, кто расстался с солнечным светом. Правитель произнёс несколько слов, и адмирал, сын покойного, неожиданно, непротокольно, чмокнул соратника отца в отвисающую челюсть.
Снова грянула музыка. Но уже не триумфально-печальная, а бравурная. По брусчатке площади, лихо чеканя шаг, привычно двинулись, отдавая последние почести, воинские подразделения.
Вождь, подслеповато глядя на них, пробовал козырнуть немеющей рукой.
То была генеральная репетиция похорон Генерального секретаря…
Богу, тем не менее, было угодно, чтобы две паломницы из прикаспийской степи, проблукав после погребального бала в столице ещё сутки, наткнулись на объявление, что кто-то там-то и там-то печатает на машинке всякие бумаги.
Стенографистка оказалась на редкость грамотной женщиной. Подготовила жалобу в трёх экземплярах, направив одну из копий на заседающий в те дни в Москве международный религиозный конгресс.
Старухи опустили конверты в почтовый ящик.
Заночевали на вокзале, а перед тем, как вернуться домой, засеменили ещё раз в лавру к Владыке за благословлением.
Епископ усадил прихожанок в своём номере, принялся поить чаем и, наконец, сияя майским солнышком, сообщил:
– Храм в Сероглазке… не будет закрыт!
Жалобу перехватили. Позвонили со Смоленского бульвара в монастырь и успокоили архиерея.
Старухи кинулись искать свою защитницу. Взять бы у неё адресок, прислать бы рыбы, икры… Запамятовали улицу, сбились с ног – не нашли… И решили: то им Бог ангела послал!
В Быково, среди квёлой толпы, чемоданов, ревущих и взмывающих дюралюминиевых птиц, сидел на корточках у стены раздражённый, голодный архивариус. К концу командировки в карманах келейника (он околачивался в Москве до возвращения Владыки из-за границы) осталось три копейки. Чуть больше было в кошельке шефа.
В аэропорту епископ куда-то исчез…
Поблизости от келейника слонялся бездомный пёс. Пассажиры подкармливали бродягу остатками буфетных бутербродов, приятельски трепали по свалянной шерсти. Собаке не было никакого дела ни до самолётов, ни до разговоров людей о том, кто куда опаздывает, не укладываясь в лимит времени. Времени для барбоса не существовало. Он созерцал бесконечность, помахивая хвостом…
В толпе показалась знакомая борода.
Лукаво улыбаясь, епископ подошёл к келейнику, держа руку за спиной. И вдруг протянул ему купленную на последнюю медь порцию мороженного в вафельном стаканчике.
Спустя полчаса на высоте десяти тысяч метров Владыка извлёк из портфеля брошюру на французском языке, углубился в чтение; сдвинув очки на лоб, спросил у своего спутника:
– Это правда, что Ницше говорил: «Пусть прийдёт всё что угодно, Господи, только не Твое Царствие»?
Ранее он предложил Викентию составить список книг, которые тот штрудировал по собственной программе. Архипастырь был непрочь познакомиться с ними.
Не получив моментальный ответ от доморощенного ницшеведа, задумавшегося над человечески прекрасными страницами «Заратустры», Владыка принялся кунять под жужжание самолётных моторов, а келейник стал посматривать в иллюминатор на слегка пританцовывавшие крылья лайнера, вспоминая вереницу газетных заметок об авиакатастрофах да как изо рта мёртвого Шопенгауэра грянула со смертного одра на пол вставная челюсть.
Ещё через сутки они ехали в поезде ночью. Не раздевались: сели в половине десятого, а высаживаться должны были без четверти два, в степи, на задрипанном полустанке.
Вылезли из вагона с двумя неразлучными битюгами-чемоданами. Архивариус, протодьякон, отец Василий, архиерей…
Ветер, темь, деревянная будка, на оглобле столба Вифлеемской звездой – фонарь… Тряслись по просёлочному тракту в раздрызганном микроавтобусе… Владыка рассказывал:
– …И вот окружили меня волки. Батюшки мои! Что делать? Полез в карман… Спички! Так я всю ночь и чиркал, поджигал солому от скирды, отгонял… А утром они разбежались…
– Это, Владыко, они потому разбежались, что вы перед тем, как чиркнуть спичкой, ковыряли ею в ушах! – заметил под общий смех келейник, намекая на знакомую всем привычку шефа.
А вокруг по-прежнему были ночь да изредка «дрожащие огни печальных деревень»…
Но куда делись усталость, свинец в голове и теле, когда той же ночью ударили в надтреснутый колокол, весело забренчала ватага медных подголосков – озарили пламенем свечек и, стоя на задирающихся от ветра подстилках, привечали караваем хлеба с солью? Двигаясь по разостланным на земле косынкам в сопровождении нового старосты с окладистой бородой, взошёл в переполненный притихшим народом храм правящий епископ, и массивный протодьякон, раздувая меха лёгких, подал клиросу первый возглас. Поцеловав поднесённый ему на подносе отцом Виктором позолоченный напрестольный крест, Владыка начал читать входные молитвы…
Церковь, которую отстояли две малограмотные бабки, закутанная в зипуны, озябшая, радостно встречала старого, но бодрого архиерея, чьи лекции две недели назад слушала в своих аудиториях Германия.