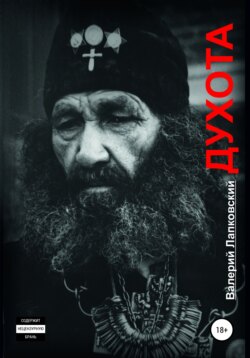Читать книгу Духота - Валерий Иванович Лапковский - Страница 4
Часть первая
Острог
ОглавлениеВ пять утра коротконогий надзиратель по кличке «Чекушка» с наслаждением бил огромным ключом в окованную железом дверь. Людей перегоняли из камеры, пропитанной запахами табака и пота, в холодный, мрачный, облицованный острой щебёнкой «под шубу» сортир. Вонь карболки была толще двухметровых стен екатерининской крепости, превращённой в тюрьму. Небритые, зевающие арестанты сидели на корточках, держа в руках по драгоценной осьмушке газетного листа, полученного от охранника у входа в клозет. Над ржавым желобом журчала узкая труба: через пробитые дырки из неё текла вода для умывания.
Завтрак, как обычно, состоял из остывшей баланды в оловянной миске, с изюминками лошадиного овса на дне.
В восемь часов партию заключённых отправили в крытых машинах на вокзал.
Поезд немного опаздывал. Мрачную толпу, окружённую овчарками и автоматчиками, разместили поодаль от народа на перроне. У большинства уголовников торчала за пазухой пайка чёрного хлеба, кое у кого болтались в руках узелки, хромец прижимал к себе пустой футляр для скрипки.
Почти все пялили глаза на приятную даму на платформе, которая в свою очередь поглядывала на одну из собачек, охраняющих фигурантов… Судя по лицу, у Анны Сергиевны сердце разрывалось от предстоящей разлуки с курортным романом… Она, конечно, будет помнить каждую деталь этого случайного счастья… ужасно не хочется возвращаться в С., в дом за серый длинный забор с гвоздями (такой же серый больничный забор, ограждающий и палату для сумасшедших №6), к мужу, который, попадая в загранкомандировку первым делом непрочь, наподобие известного писателя, попасть не в картинную галерею, а в приличный бордель… Но тут… к ней подкатывает клёвый незнакомец, красивый, точно лысеющий Вронский, и, сказав, что ему в это же купе, вот билет,.. поинтересовался, который час?
И тогда Анна Сергеевна, почти не поворачивая голову в его сторону, однако, несомненно, уже во власти внезапно нового зова коварной плоти, небрежно и в то же время очень вежливо пролепетала:
– Без двадцати десять…
Из-за поворота показался пыхтящий тепловоз, как первая буква нецензурного слова, которая тянет за собой многоточие вагонов.
Клетка на колёсах была прицеплена сразу за локомотивом. С виду – почтовый вагон с занавесками на окнах.
Бывшему студенту повезло. Он успел в числе первых не только ворваться по команде охраны в «Столыпин», но и вскарабкаться на верхнюю полку, где можно лежать одному. Внизу гудел, расплываясь огненной лавой мата и ругани, стриженный этап…
Вот так на свободе, пробираюсь плацкартом в Крым из города на Неве без копейки в кармане, Викентий почивал на верхней полке без матраца и постельного белья, сунув под голову согнутый локоть. Внизу любезничали две бабы; ели и пили вдосыть, витийствуя после чаёвничания:
– Бог напитал – никто не видал, кто видел – тот не обидел!
Перед очередной остановкой поезда одна из них собралась покинуть вагон, и зашёл меж сотрапезницами спор о трёх кусочках рафинада, что остались по окончанию завтрака в бумажных обёртках на столе. Та, что выходила, советовала той, что продолжала путь:
– Возьмите себе сладость!
Другая учтиво возражала:
– Да зачем? У меня дома этого добра полно.
И мило препирались, пока на станции рыжая не пошла провожать пегую до дверей.
Голодранец мигом слетел с полатей, содрал с осколка сахара-медовича обложку и тут же заглотил.
Тётка вернулась.
Пассажир невозмутимо пялил глаза в окно.
Посматривая на проносящийся за стеклом пейзаж, спутница, помолчав, сказала:
– А цукору-то было три штуки!
Весь день – жарынь, лязг, скрежет, жажда от выданной на дорогу пересоленной селёдки.
Душная-предушная ночь, а утром, чуть сырым, зеленью прополотых грядок, бегущих к железнодорожному полотну, потянулись на неизвестной станции к поезду сноровистые бабы. Несли полные кошолки с домашним вином, кастрюли с варёной картошкой, упругие огурцы, небольшие тазики с угристой клубникой, расфасованной в кулёчки, свёрнутые из листов агитационно-пропагандистских брошюр.
Гладышевский жадно хватал глазами через крохотную щель в окне «Столыпина» пространство, не закопчённое «махоркой Троцкого», свободное от иссиня-жёлтых стен следственного изолятора, где просидел девять месяцев. Видеть осколок бутылки, пустую коробку «Казбека», траву возле рельс, новых людей на вокзале было, как ни странно, праздником для измотанных нервами зениц.
Потные пассажиры высыпали на перрон… Подтяжки, лысины, мятые майки, шаровары, вежливые студенты, лениво игравшие в вагоне до остановки в пёстрые карты…
Ветеран труда, опираясь на палку, процеживал сквозь очки черепаху в картонной коробке на руках квелой торговки. На груди стахановца семафорила орденская планка над карманом, откуда, отталкивая макушку сберкнижки, высунула нос любопытная, теряющая зубы расчёска.
– Скоко стоит?
Продавщица сказала.
– Хреста на тебе нет!
– И-и, миленький, есть! – вытащила говорушка из-под платья маленькое распятие на чёрном шнурке.
Ахиллес, не догнавший черепаху, отмахнулся от неё и заковылял в своё купе. Костылёк его аукал клюку, которую как-то на вечерне в церкви доверил бывшему студенту незнакомый дед. Протискиваясь к праздничному образу на аналое, старик спешил помироваться, подставив чело под благоухающую кисточку; батюшка выводил ею крест на лбах прихожанок.
Рукоять посошка была согрета ладонями хозяина, и пока владелец палки не вернулся, Гладышевскому хотелось сохранить её тепло. Сжимая альпеншток пенсионера, он мысленно переместился на минуту в Ялту, в домик Чехова, где в красном углу висит старинная икона, веером рассыпанная на столе колода визитных карточек, вероятно, ещё помнит в каком из дюжины узких цветных галстуков Антон Павлович встречал гостей, что для прогулки выбирал из буклета тростей, связанного розовой тесьмой… Набалдашник одной из них был вырезан в форме забавной собачьей башки с такими грустными аквамариновыми стекляшками глаз, что Гладышевский не удержался и украдкой, чтоб никто не увидел, осторожно погладил пса…
– Внимание, внимание! – куролесил в вагоне, потешая братву Стёпка-весельчак. – Говорит Москва! Работают все тюрьмы Советского Союза и центральный сумасшедший дом. Начинаем передачу «Бережёного Бог бережёт, а небережёного – конвой»!
– Шёне цене!.. Прекрасные зубы! – хвалили эсэсовцы Стёпку в Освенциме. Челюсть русского солдата служила испытательным полигоном для кулаков немцев. У Стёпки были даже не зубы, а твёрдый кукурузный початок.
Не раскрошил, не выбил, не сломал ему челюсти плен. А зачем? Чего ради?
Ради того, чтобы после войны отсидеть от звонка до звонка в лагерях родины за всякие дела три срока и угодить на нары в четвёртый раз?
– Войска пяти дружественных стран, – обозревал Стёпка голосом популярного радиодиктора последние события, – воспользовавшись моим арестом, вступили на территорию Чехословакии, поскольку она вздумала ни с того ни с сего жить по какой-то собственной модели!
Вагон гоготал.
Сначала он боялся новой обстановки.
Когда в небольшую камеру, обнесённую на окне и двери стальными решётками, впихивали, как в спичечный коробок, двух убийц, вора и его заячью душу, ему было не по себе… Температура в камере высокая… Ну что стоит кому-нибудь из «мокроступов» пристукнуть экс-студента? Всё равно – под расстрел! Чиркни – и вспыхнет. А за что? Да ни за что… Не так глянул, не так подвинулся, огрызнулся и – баста! Ножи в камере водились. Никакой шмон не обнаружит: прятали искусно. Едва приметная щель в полу – вот тебе и несгораемый сейф! При желании в схватке можно использовать алюминиевый черенок ложки, заточенный о бетон с прицельной наводкой до микрона: не смажешь в печёнку!
Нутром, инстинктом бывший студент догадался, что не вылезать ему из драк, что позвоночник его хрустнет перебитой сосулькой, если к этим людям, быстро превращающимся в сборище шантрапы, не относиться, как к братьям.
Он покорно подметал полы. Первым хватал парашу – длинный железный стакан с мочой, чтобы опорожнить его в отхожем месте. По ночам, подтачиваемый бессонницей, хаживал, заложив руки за спину, – выкристаллизовывались изысканность и шик тюремных манер! – между двухъярусными койками: на «тюфяках, тоскующих по тифу», теплился в нелёгком сне отпетый, «ломом подпоясанный» мир.
И он стал молиться за них. Особенно, когда попадал в переполненную камеру, где изнывали в тесноте тридцать-сорок человек. Прятался под одеяло с головой, шептал псалмы, а в этот миг над ним ловко подвешивали на нитку кружку с водой и окурками. При первом неосторожном движении помои охлаждали его вдохновение под аплодисменты блатарей.
Он примечал обидчика и швырял в него ботинок. Завязывалась потасовка. Кто-нибудь, весь в наколках, земля светлее, загораживал спиной глазок в двери от надзирателя.
Ему доставалось…
Спасало голубое небо… Он видел его, когда орава прёт с прогулки в камеру, заискивая с караульным, подначивая «попкаря», не лезущего за цензурой в карман…
Гладышевского арестовали в разгар подготовки к пышному празднованию столетия со дня рождения основателя государства, чья любовница, похороненная на Красной площади, дала дуба на заре советской власти именно от той болезни, что теперь свалилась на уезд. Смутьян был неудобен градоначальству, как холера в юбилейном котле.
Эпидемия разразилась в таврическом закутке вопреки всем торжественным заверениям о высоком качестве медицинского обслуживания местных граждан. Уезд спешно окопали почти противотанковым рвом, выставили заградотряды. Из Москвы по воздуху прилетел профессор и принялся по радио умолять крымчан мыть руки с хозяйственным мылом. У входа в каждый магазин присобачили бачок с разведённой хлоркой, будто для омовения кончиков перстов святой водой в чаше у портала в костел. Махонькую церковь св. Афанасия Александрийского на горе, куда и так мало кто добирался, на время закрыли. Длинные взвинченные очереди гостей и отпускников вызмеивались вдоль кривых улиц, чая места в карантинном бараке. В перепуганных глазах – бельмо санитарных листовок. Зато в ресторанах оркестровый бум, лязг выплясывающих ляжек!
Отцы города сочли момент подходящим для расправы с независимым шалопаем и дали указание прокуратуре. Оттуда нагрянули с обыском.
– Что ищете?
– Запрещённую литературу!
– …?!
– Предлагаем добровольно указать, где хранятся нелегальные издания!
Перевернули квартиру вверх дном, выгребли из чемодана под кроватью четыре тысячи рукописных листов: конспекты, записные книжки, ворох отрывочных заметок по разным поводам, как-то: ««Философские тетради» Ленина – это счёт за парики, найденный среди бумаг покойного Канта», «Когда Гуров говорит в клубе о любви, а ему отвечают, что осетрина нынче с душком – истинный идеализм проявляет не Гуров, а тот, кто репликой о тухлой рыбе скрывает стыдливость подлинных чувств…».
От переизбытка эрудиции проморгали купленный у букиниста цветничок статей почти забытого реакционера, мечтавшего, во-первых, «подморозить» Россию, чтоб не гнила от демократии и атеизма, во-вторых, упорно считавшего, что во времена безбожия эстет обязан быть верующим. И как на Руси по красному флагу на каланче знали: не высовывай нос – сильный мороз, так большевики назло позднему славянофилу сами подморозили Россию кровавым кумачом.
Его портрет насмешливо глядел с книжной полки на суетящихся сыщиков: в 1856 году он, военврач, с чашкой чая в руке столь же пренебрежительно взирал с балкона на ощетинившийся пальбой из пушек в Керченском проливе вражеский флот.
Потянули на допросы знакомых.
Доказать, однако, что тунеядец занимался религиозной агитацией, не смогли. Все его друзья отпирались, долдонили, будто заглядывали в церковь изредка. Как интуристы.
– Всё равно, – хорохорился следователь, – хоть на полгода, а посажу!
– Иными словами, – прокомментировал его слова бывший студент, – собаки и кошки, независимо от их породы и назначения, даже с ошейниками, жетонами и в намордниках, без владельцев в общественных местах считаются бродячими и подлежат отстрелу или отлову?
Стремясь заарканить возмутителя общественного спокойствия, уездный Шерлок Холмс разогнал запросы по всем уголкам страны. Начальник погранвойск Севера сообщил: в числе нарушителей границы упомянутый гражданин не числится. Попутал бес свидетеля, которому подследственный сболтнул, как по льду Финского залива уносили ноги в эмиграцию пролетарские вожди!
Лакей Фемиды накопил два пухлых тома компрометирующих материалов, целый роман. Вызывая подследственного на допросы, он мог при нём вытереть платком нос шестилетнему сыну, застенчиво ныряющему к папе с улицы в кабинет, и столь же хладнокровно советник юстиции в перерыве между допросами расстёгивал ширинку в туалете бок о бок с тем, вокруг кого, выуживая сведения, плёл из паучьей слизи прочную сеть.
В обвинительном заключении не хватало крупицы соли. Криминалист её отыскал: из рабочего общежития, где бывший студент короткое время жил после изгнания из университета (а жизнь эта складывалась из того, что молодой человек при свете болтающегося фонаря залезал на стройке в бетонный ров, черпал помятым ведром ледяную жижу, думая о предстоящем свидании со знакомой балериной или о том, чтобы после работы в первую смену отправиться опять в библиотеку, куда он ходил так, как ходят в поле вечером собирать светляков для лампады), уведомили: жилец вырезал свастику, прогулялся ножом по портрету, который вместо иконы спокойно висит, никому не мешая, в каждом казённом здании…
С очередного допроса Викентий, втащившись в камеру, съехал по стене на пол.
В низкой сводчатой келье, некогда тюремной церкви, сорок человек в скорченных позах, стоя, лёжа, полураздетые, дымили цигарками, давили сочных мокриц, шлёпая босиком по липким полугнилым доскам. Латали прорехи в штанах, играли в углу в самодельные карты. Справа травили историю об ограблении инкассатора, слева – о том, как подводники якобы из рогаток отстреливают крыс, когда лодка долго застревает на дне… Стёпка-весельчак затачивал о дратву кирзового сапога осколок бритвенного лезвия; кусочек стали, пронесённый через тщательные шмоны, вставил в щепку, обмотал ниткой, выдернутой из одежды, и превратил лезвие в лучшую в мире бритву: завтра на суде все девки будут наши!
Гладышевский промямлил:
– Дайте пить…
Камера заржала, затряслась от смеха.
– Ах ты, падла! И года не торчишь, а уже командуешь?!
– На парашу его!
– Чего орёте? – отрезал Стёпка. – Ты лучше объясни: что?
– Семь статей… паяет, – огорошил бывший студент.
Притихли. Кто-то удивлённо свистнул.
– За что?!
– За… попытку незаконного выезда за границу через посольство…, наклейку на чужом студенческом билете своей фотокарточки…, порчу портрета, хулиганство…
Стёпка и тут нашёлся:
– Семь бед – один ответ!
И опять потянулись ночи с вечно горящей лампочкой. Баиньки располагались головой к центру камеры – по-другому запрещено. Защищались от электрического света, прикрывая глаза скрученным в жгут вафельным полотенцем.
– Неужели, – размышлял недоучившийся студент, – древние жрецы, слушая в шелесте священного дуба голос Геи, дрыхли вот так же, как мы, вповалку, в грязи? Ног не мыли и почивали на обнажённой земле… Но гомеровские греки ежедневно принимали ванну и чтили её наряду с прочими блаженствами!
Во сне он видел огромное распятие. И, обнимая его, как дерево, припадая к нему всем телом, хватая ветки, кричал! О чём?
Утром его стриженная наголо голова заметалась, запрыгала в прогулочном дворе. «Поиграв на пианино» (сняли отпечатки пальцев), узнал от тюремного фотографа, что за подделку документов полагается наказание сроком до десяти лет!
Вертелся на бетонном пятаке: туда-сюда, туда-сюда… Сколько же мне будет тогда? Тридцать?.. «В самый аккурат»… Десять лет?.. Червонец… А может, фотограф ошибся, приврал?.. Ничего… Достоевский отмотал, а ты?!
Купил в тюремном ларьке пачку болгарских сигарет и любовался упаковкой. Потихоньку, не торопясь, курил, чувствуя в цветной обёртке связь с жизнью, что зыбилась за стеной острога, и был похож на дикаря, играющего с ниткой бус: выменял у заморских купцов за кусок золота.
Отоваривали в тюремном ларьке только на десять рублей. На такую же сумму каждый участник войны с Гитлером мог в спецмагазине на воле получить синюю курицу, полкило сыра, мешочек гречки и ещё что-нибудь. Один раз в три месяца…
Диагноз, поставленный врачами после «побега в Америку», мешал судить бывшего студента. Поэтому следствие решило: гнать этапом в Херсон на экспертизу, чтобы психиатры вынесли вердикт – казнить или миловать?
Когда Стёпку и его приятеля доставили в областную клинику – дачный домик за оградой из колючей проволоки, – весельчак заметил, что молодой зэк опять угрюм. Он хлопнул парня по плечу:
– Не горюй… Прорвёмся!
И тут же, смеясь, уточнил:
– И вот на суд меня ведут,
А судьи яйцами трясут!
В дачном домике пребывал под наблюдением врачей Юра Тырышкин, семинарист. В чём крылся состав его преступления, никто из зэков не знал. Тырышкин забаррикадировался внутри себя, ни с кем не разговаривал. Часами бессмысленно пялился в окно, рассматривал в простенке между рамами клок жухлой ваты, дохлую муху, обгорелую спичку. Он оживал только после инсулинового шока, когда в проткнутую иглой вену вливали глюкозу, били по щекам, усаживали и совали в руки кружку сиропа. Глядя в расплавленный сахар, семинарист изрекал:
– Житейское море!
Рядом с Юрой катался по сдвинутым кроватям, кричал выходящий из шока интеллигентный юноша со светлыми усами:
– Я не хочу больше жить! Я не хочу больше жить!
Всех поступающих на экспертизу сперва сажали в ванну, отмывая тюремный загар. Две смазливые санитарки, как ни в чём не бывало, возились в душевой, когда краснеющего бывшего студента заставили раздеться донага, точно язычника, который предварительно должен очиститься, снять одежды и войти обнажённым в святая святых.
Впервые с ним так поступили перед тем, как законопатить в камеру предварительного заключения. Приказали несколько раз нагишом сесть-встать, дабы выяснить, не сыплется ли из дыр и пор его тела всякое добро: сконцентрированная в каплю десятирублёвка или крохотный карандашный грифель.
– Запиши, а то ещё скажет: «Золотой, украли!», – посоветовал один охранник другому, отбирая у арестованного нательный крест из меди. И тут же, словно с привязи сорвался:
– В партию нада, а не по церквям шататься!
Родственников вызвали в прокуратуру за вещами.
Пошла сестра.
Никогда она не посещала церковь и больше всего на свете интересовалась цветом губной помады. Но в прокуратуре демонстративно надела на себя крестик брата.
Оттопыренные уши следователя превратились в распущенный капюшон разозлённой кобры, готовой к прыжку:
– Мы ещё и до вас доберёмся!
Спустя четыре месяца молодой арестант обтёрся в тюрьме: мог добыть лишнюю миску полбы, сочинив «гоп-стопу» или «взломщику лохматого сейфа» речь для последнего слова на суде. Ему удалось совершить «мах на мах» с инженером, которому жена довольно часто, насколько позволял режим изолятора, носила передачи. Сменял пиджак на булку, шматок сала и двести граммов сливочного масла. Сало и булку уписал мгновенно (хотя и в остроге постился, по средам и пятницам не ел две-три костлявые рыбёшки к завтраку), а масло приберёг к утру. На другой день ни с того ни с сего стал кромсать масло на кусочки и раздавать братве. Кто хмыкал, кто молчал, кто благодарил, кто сразу проглатывал и, отворачиваясь, косился, нет ли ещё. Нет, больше не было: владельцу продукта достался тот же пай, и оттого, что в каменном мешке, где дышать нечем, среди сырости, капающей со стен преодолел себя, своё тело, иссыхающее без подлинной еды, залез опять под фуфайку на нары и от радости заплакал.
Набожная уборщица, узнав, за что сидит бывший узник вуза, приносила ему тайком книги. Заворачивала их в газету, присоединяя луковицу, обрезки сыра, колбасы. То были «Жития святых», закапанные воском, обожжённые с края, похожие на псалтырь в доме старика, вручившего ему в церкви свою палку. По той псалтыри он выучился читать на церковно-славянском языке. В «Четьях-Минеях» уборщицы арестант наткнулся на ветхий листок с молитвой. Зашил в одежду под слой ваты. И путешествовал с ним по всем дорогам глагол, что продрался за решётку ещё с той, незапамятной Руси, свободной от обойм новостроек и ураганных чисток в партии: «Господи Боже мой!.. да не яростию Твоею обличиши мене… Враги обдержаша мя… Скоро услыши мя, Господи!».
Обедали зэки в дачном домике за длинным столом на клетчатой клеёнке. Умяв ломоть хлеба с порцией борща и каши, подэкспертные существа завязывали жирок на койках.
Тлел тихий час.
Клевали носом на стульях утрамбованные санитары.
И так каждый день. Но однажды, когда время нахождения на экспертизе клонилось для многих к концу, сонный измор вдруг вспорол вопль:
– Кровь!
– Где?! – заорали медбратья.
Кровь алела на стене, где лежал Стёпка.
Смахнули одеяло: весельчак тонул в красной луже.
Молча, без единого стона, разрезал себя обмылком бритвенной стали – вскрыл вены, расцарапал низ живота, подбирался к шее.
Трое санитаров навалились на него, согнули ему руки, перетянули резиновыми жгутами. Прибежала молоденькая врачиха из другого отделения, белоснежка на каблуках, засаленная в морге. Мужчины отворачивались, не перенося вида окровавленного месива, а она не суетилась, чётко распоряжалась, меняя тампоны, кидая их в заплёванный таз.
Носилки со Стёпкой погрузили в машину.
– Куда?
– К хирургам.
Думали, смилуются. Напишут лекари в суд что-нибудь в защиту Стёпки. Ведь не ради симуляции хотел убить себя… Это же не Гришка… Тот залез на крышу и «покатил бочку» – разобрал трубу… Кирпичи, правда, грызть не стал. А кабы ему, дураку, отведать глины до приезда пожарной команды с лестницей, может, и профессор почесал бы в затылке, скостил ему полсрока, вместо того, чтобы закатать из шприца в вену растормозку, отчего Гришка сразу стал пьяный. И потащили его под руки, волоком, к главврачу на допрос…
Гладышевский ещё не знал, что в Херсоне его признают персоной, пребывающей в здравом уме, что будет он триумфальной замухрышкой шествовать в здание суда среди хнычущих шпалер старух и стариков из Афанасьевской церкви. В зале заседаний к нему кинется женщина с антоновками.
– Кто разрешил передавать подсудимому яблоки?! – взвизгнет прокурор. И набросится на караульного: – Я вас не впервые замечаю!
Прихожане готовые либо пуще разреветься либо в щепки разнести помещение вломятся в кабинет судьи, надевшей на процесс новое нарядное платье. Василиса Микулишна выглянет в зал и малиновыми устами (ля бемоль мажор) пропоёт:
– Верните подсудимому яблоки!
Опоросится прокурор. Осрамится под раскат хохота в камере, едва зэки узнают о решении судьи.
А галоп по тюрьмам будет продолжаться. Судить сорванца за то, что оскорбил личность коронованной особы, проверив остроту ножа на холсте с изображением основателя первого в мире государства рабочих и крестьян, крайне хлопотливо в условиях высокой сознательности масс. Не дав развернуться прениям прокурора и адвоката, хулигана отправят на повторную психиатрическую экспертизу, но не в Херсон, а в Москву.
В тюрьмах везде одно и то же: ржавая селёдка, разъедающая обветренный рот, привинченный к полу табурет, заткнутая тряпьём дыра в окне, колотун, пойло, вши (спасаясь от которых, срываешь с себя одежду на прожарку), вповалку спящие люди, молодцеватый, отлитый в пепельную шинель офицер, рысью наблюдающий за расфасовкой этапа по блокам-отстойникам…
В Бутырке, где когда-то стыли Пугачёв, Герцен, повесили – здесь или в другом месте? – Власова со товарищи (Сталин не мог наглядеться на фото их казни), почище. Открытку можно родне послать, мол, с праздником весны, Первомаем! Пусть разобьётся о ваше сердце любой житейский ураган!
В Бутырке параши нет… Кафельный закоулок с унитазом. Сиди хоть целый день (пока братва не ест), не беспокоясь о том, чтобы подрулить кишечник к опорожнению в предусмотренные часы…
Получив в институте судебной психиатрии «диплом», удостоверяющий его невменяемость, он зароется в книги, которые с огнём не сыщешь на воле. Душевнобольным в Бутырке выдавали списанную с библиотечного учёта макулатуру дореволюционных лет: религиозные статьи Жуковского, мемуары Сен-Симона, «Путешествие по Италии» Ипполита Тэна!
…Поздно вечером Стёпка, ярче лимона, появился в палате. Заштопанный, заклеенный, с вялой улыбкой.
Утром его бросили в тюрьму.