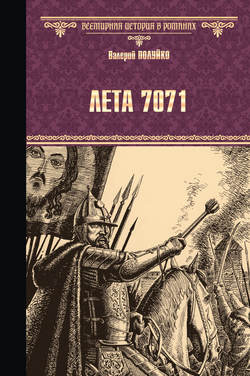Читать книгу Лета 7071 - Валерий Полуйко - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Книга первая. Взятие Полоцка
Глава третья
Оглавление1
Шереметев спокойно воспринял заточение Бельского. Знал он и хитрость думного главы, и его изворотливость, знал, что все обойдется, – выйдет сухим из воды царский племянничек. Сам митрополит не преминет вступиться за него, и уж, конечно, ни пытать, ни гнать в ссылку его не станут. Все сойдет ему с рук, на то он и Бельский! Но опала Воротынского, которого царь повелел сослать на Белоозеро, растревожила Шереметева. Хоть и знал он загодя, что скопились над воеводой тучи, но не допускал мысли, что царь уступит царице и изгонит своего первого воеводу. Больно уж бездумна должна быть уступка, особенно теперь, когда со дня на день ждали набега крымцев. Не верил старый боярин, что царь в угоду строптивой царице и ее завистливым братьям убрал из войска самого искусного воеводу. Не верил, оттого и тревожился! Чуяло его сердце – не в царице тут дело… В самом Иване!
С какой тайной мыслью выезжал он тогда в объезд и брал с собой вместе с Воротынским и его, Шереметева? Уж не хотел ли проведать о мнящейся ему тайной связи между ними? Не подозревает ли он их в каком-нибудь сговоре?
Мучился этой мыслью Шереметев и, не в силах предугадать ничего наперед, готовился к самому худшему. Затворившись на своем подворье, что находилось в Кулишках, на Серпуховской улице, целую неделю не отпирал ворот, не выпускал слуг и челядь, не выезжал даже в думу. Присланному из думы от Мстиславского стряпчему было сказано, что боярин захворал сонной болезнью и спит без просыпу день и ночь.
По ночам Шереметев тайно прятал свое добро. Без огня, воровски, закапывал в землю золотые кубки, блюда, чаши, мешки с серебром и жемчугом, обернув в рогожи, зарывал дорогие иконы, кресты, лампады и все думал с замиранием сердца и гордым злорадством, как ответит он Ивану, когда тот станет допытываться о его богатстве, что оно руками праведных перенесено в небесное сокровище, ко Христу.
Шереметев не боялся смерти, даже самой мучительной… Подступившая старость отяготила его жизнь, забрала у него силу, напористость, притупила в нем страсти, и даже гордыня его стала смиренней, уемней… К своей судьбе он был равнодушен и не хотел прятаться и бежать от злобных царевых посягательств. Тревожила его только судьба своего рода. Знал он, скольких бы ни свел на плаху Иван, род устоит, ежели сохранит свое богатство. Богатство возвеличит его, поднимет из любой пропасти!
2
Опала Воротынского встревожила не одного Шереметева. Когда Висковатый огласил в думе опальную грамоту на Воротынского, все переполошились… Один лишь Мстиславский остался спокойным. Во всяком случае, внешне. Но иначе и быть не могло: взяв после опалы Бельского все дела презираемой Иваном думы на себя, он стал отныне не только руководителем, но и охранителем этой боярской твердыни, а охранителю, как никому другому, нужны были спокойствие и ясный ум.
Мстиславский понимал, что царь давно уже ищет повод для окончательного разрыва с думой. Пока что он лишь вознегодовал, отстранился от нее, стал решать многие дела самостоятельно, но для того чтобы окончательно лишить думу власти, одних разногласий было недостаточно, нужны были более веские причины…
Мстиславский подозревал даже, что опалой Бельского, а особенно Воротынского, Иван рассчитывал вынудить думу к открытому протесту, который он мог расценить как бунт против него, и получить таким образом самый лучший повод для решительной расправы с думой. Потому-то и сам Мстиславский остался спокойным, и в других не дал разгуляться страстям. Серебряный, Немой, Кашин потрясали руками и призывали всех идти к митрополиту, чтобы вместе с ним урезонить разнуздавшегося царя. Особенно негодовал Серебряный. Он вопил на всю палату, взывал к Богу и проклинал тот день, когда в злосчастной Московии зачался его род.
Мстиславский знал, что и в самой думе много бояр и окольничих, которые тайно держат сторону царя и для собственной выгоды не преминут воспользоваться раздорами в думе, – донесут на недовольных и строптивых. Этого нельзя было допустить. Мстиславский решительно и твердо осадил Серебряного:
– Уймись, князь! Пошто волю дал словам, а ум под зад спрятал! Кто невинный в опале ходит? Ты иль я? Пошто в чужой вине правоту ищешь, а в царской правоте усомняешься?
Уняв Серебряного, Мстиславский начал говорить увещевательное слово ко всем боярам. Говорил спокойно, но как-то уж больно странно, явно с заведомой заумностью:
– Бояре! На том наша воля и воля царская, чтоб быть на земле нашей согласию во всем! И противлению никоторому не потакать! Пусть каждый помнит над собой Бога и поступает, как велит ему его совесть!
Немой в недоумении вытаращил глаза, силясь понять что-либо в словах Мстиславского, но суть ускользала от него, и он не знал, как повести себя: то ли оскорбиться и покинуть думу, то ли смолчать и остаться?
– …Бояре, сплотимся, оставим все наши раздоры, дабы беды не захватили нас и не нанесли урон нашему делу…
Только теперь Немой смутно уловил что-то, но сомнение не покинуло его. Он поглядел на Серебряного. Тот тоже хмурился и тоже, видать, не понимал Мстиславского.
– …Коль не приемлет государь наших встреч[6], мы повинимся пред ним и согласимся, дабы не терпеть лиха ни ему от нас, ни нам от него.
Серебряный усмехнулся при этих словах Мстиславского и глухо сказал:
– Согласимся, но правоты своей назад не заберем.
– Неужто без истинного согласия мы честно дело свое сделаем? – подал голос князь Горенский.
Он произнес это мягко, даже робко, и с искренним удивлением, но все повернулись к нему с таким видом, будто каждый получил удар в спину. Даже Мстиславский растерялся и не нашелся, что ответить.
Горенский, оглядев натянутые, встревоженные лица, прежним тоном сказал:
– Государю от такого нашего согласия хуже, нежели от противления. Коли души наши захвачены другим и мысли наши обращены к противному – не будет ладу ни в чем!
– Верно речет князь Горенский! – громко, с вызовом сказал окольничий Зайцев.
В палате наступила тяжелая, враждебная тишина. Каждый чувствовал себя обвиненным, и каждый боялся даже возразить на это, дабы не дать повода подумать остальным, что принимает сказанное Горенским на свой счет.
Мстиславский все же сказал:
– Знатно, то про себя речет князь Горенский? Так нам до него дела нет! Он своим умом живет и по своей мысли ходит.
– То он про вас, про всех, изрек, – сказал угрозливо Зайцев и зловеще удалился из палаты. За ним последовали несколько бояр и окольничих.
Во время этого переполоха Висковатый сообщил Мстиславскому о том, что уже незачем было скрывать:
– Поход в Литву будет. Басманов и Щенятев с Шуйским к войску посланы.
Мстиславский вынес и это, только про себя подумал: «В Литву – без Воротынского и Курбского?!»
Бояре стали разбегаться из думы, как мыши из горящего амбара. Мстиславский их уже и не удерживал.
Серебряный с Немым задержались… Но если Серебряный снова закипел негодованием, то Немой остался в думе только затем, чтоб своим поспешным уходом не навлечь на себя подозрения в трусости.
Серебряный был вне себя от царского произвола и думал только об одном: как принудить Ивана вернуть из ссылки Воротынского? Мстиславский думал о другом: о том, что сообщил ему Висковатый. Для него это было полной неожиданностью и озаботило сильней всего прочего, ибо он очень хорошо понимал, как ополчатся бояре против этого неожиданного похода. Открыто воспротивиться, конечно, никто не решится, и не об этом тревожился Мстиславский, но он знал, как хитро и ловко умеют они строить свои козни, особенно в войске, где у них у каждого свои люди… Родовые связи и круговая порука дают им возможность почти без риска противостоять царю в любых его делах и задумах, не угодных им. Предыдущий, Ливонский, поход, предпринятый Иваном весной прошлого года, закончился неудачно, и все из-за того, что бояре и воеводы тайно мешали ему: то где-то сбился с пути обоз, то неожиданно начался падеж лошадей, не поспел вовремя наряд… Виновных, как правило, сыскать почти невозможно: концы упрятывались умело и надежно, да и не до этого в походе.
Догадывался об этом тайном противлении бояр и Иван, недаром же чаще всего слал в походы их самих. Сами себе уж, конечно, они не вредили. Наоборот, тогда каждый старался все делать наилучшим образом, чтоб отличиться, чтоб заслужить царскую милость: до милостей охочи были все, даже самые строптивые и непокорные.
Как теперь поступит Иван? Пойдет с войском сам или снова пошлет одних воевод? Мстиславский без особого труда мог ответить на этот вопрос. Но сейчас не это было главным. Размышляя над всем этим, он, как казалось ему, начал понимать нечто более важное – он начал понимать, что Иван, несомненно, давно уже задумал этот поход, и если как раз накануне этого похода он шлет годовать в Дерпт Курбского, изгоняет в ссылку Воротынского, заточает в тюрьму Бельского – трех самых лучших воевод, которыми законно гордилось боярство, – то поступает так, конечно, не от одного лишь желания воздать им за их провины. Он мог бы и повременить с расправой – ради пользы дела, однако не стал этого делать. Стало быть, он преследовал какую-то цель и не гнев руководил им, а расчет, и расчет этот, вероятней всего, состоит в том, чтобы не делиться с боярством успехом в случае удачи, а при неудаче – свалить всю вину на него, на боярство, на думу и таким образом разделаться с ней.
Нужно было пресечь бояр, не дать им навредить царю в этом походе – и во имя их собственного благополучия, и во имя польз государских. Мстиславский понимал, как это важно: неизвестно, какой ценой пришлось бы расплачиваться за поражение в Литве.
Мстиславский сказал Серебряному:
– Щенятев с Шуйским к войску посланы. Пристанет и тебе, князь, быть при деле – следи, чтоб по чести все творилось. Нерадения и вреда никоторого не допускай!
Серебряный удивленно посмотрел на Мстиславского.
– Говорю – тебе, понеже другим не смогу сказать, – прежним тоном добавил Мстиславский. – Другим – ты скажешь.
– Ужли поход будет? – спросил Немой.
– Может статься… – неопределенно ответил Мстиславский, но на Серебряного глянул твердо: тот понял – будет!
3
Перед самым походом, еще не извещая думу о своем намерении, Иван поехал к митрополиту за благословением.
Митрополит из-за своей старческой хвори жил на загородном дворе, что стоял на Поганой луже. Двор был невелик, но крепок и опрятен: островерхая часовенка с железным крестом, от часовенки переход к главной митрополичьей палате, прируб[7] – для челяди и иноков, живущих при митрополите. Вдоль высокого тесового забора – конюшни, хозяйственные постройки… Посреди подворья – колодец с журавлем. Крыльцо резное, крашенное жженой охрой с подзолотой; на коньке крыши и по углам, на причелинах, – жестяные кочеты на копьецах; оконца заставлены с подсолнечной стороны…
Митрополита ввели под руки два инока, бережно усадили на лавку, замощенную шубой, под ноги поставили столец, молча, будто не видя царя, удалились.
Иван подошел под благословение. Макарий трясущимися руками перекрестил его обнаженную голову. Иван опустился на колено, почтительно поцеловал бессильную руку старца, некогда возложившую на его голову царский венец.
Хотя Макарий и был новгородцем (а к ним Иван питал бессознательную ненависть), Иван любил его. Макарий в его малолетство приглядывал за ним, учил его грамоте, как мог защищал от бояр – был он единственным, кто привечал тогда Ивана и отклонял от дурных забав, от дурных поступков… Мало ли, много ли заронил он доброго в душу Ивана своими наставлениями, но Иван помнил заботу о себе и благоволил к Макарию.
– Дело зело великое призвало тя под мое благословение? – тихо спросил Макарий и слабо повел глазами на Ивана.
Иван поднялся с колен, навис над согбенным Макарием – высокий, сильный, уверенный в себе, – громко сказал:
– В поход иду супротив литовской земли.
– Бояре приговорили иль себе по воле?
– С боярами суду-ряду у меня нет!
– Не Богом ли нашим речено: «Кый царь, идя на брань ко иному царю, не сядет ли преже советоватися, силен ли он с десятью тысячами противустать идущему на него с двадцатью тысячами?»
– Бог наш рече нам притчу: «Добро есть соль, но коли соль утеряет силу, чем осолить ее? Ни в землю, ни в гной не годна. Вон изсыпят ее!»
– Неже бояре умом скудны и в советах пусты, что с осолившейся солью равняешь их?
– Противу меня мыслят. Себе на потребу – Руси во вред!
– Добро в твоей душе да восстанет надо злом… Снизойди до милости! И не приемлешь ли привереду за зло?
– Я ведаю накрепко, владыка, что – зло, что – привереда. Бояре опор мне чинят! Еще тебя супротив меня наущать станут. Ты им в том потакаешь – печалуешься по их вине.
– Коли вина их малая…
– Господь рече нам: «Верный в мале и во мнозе верный, а неправедный в мале и во мнозе неправедный».
– Бельского за сторожи посадил – княгиня плакалась у моих ног, молила о печали пред тобой.
– Бельский винил мне вельми… О нем не проси! По таковой вине голову сечь надобно! Он же – лише за сторожами… Дознание учиню, проведаю – с кем вкупе супротив меня злоумышлял?
– Воротынский же в чем повинен?
– Тут счет иной! Руки опустил воевода. Не радеет о ратном деле… Летом из Серпухова на крымца медлил… Дал Гирею уйти без урона в степь. Да и иное, о чем покуда смолчу.
– Сведомый[8] стратиг князь Михайло… Отчего бы он так? Не обиды ль на тя захирели его?
– Нерадив иль неверен! Обиды ж его я постиг: вотчинишку ему убавил – вот его обиды. Отсидится на Белоозере – отобидится. Обойдусь без него – утишится. Не то вовсе возмнил: его руками царство себе пристяжаю.
– Печалуюсь к тебе глаголом господним: «Еже согрешит противу тя брат твой, выговори ему… И еже покается, оставь вину ему».
Иван не ответил, нахмурился… В палате не было больше лавок, кроме той, на которой сидел митрополит. Это раздражало Ивана. Сесть на лавку рядом с Макарием не хотел: больно велика честь даже и для митрополита. Стоял, хмурился…
– Також и об ином… в кой уж раз с неотступством прошу, – потверже сказал Макарий. – Митрополита Иоасафа, что пришел к нам от константинопольского патриарха… с добром и миром отпусти восвояси. Кой уж год держишь втуне его на Москве… како татя, за ключами. Патриарх грамоты досылает укорительные… Сам Иоасаф ежеденно листы ко мне пишет – просит снять с него вины напрасные и отпустить домой.
– Всем ведомо, пошто я держу преподобного гречина за ключами, – недовольно ответил Иван.
– Ведомо, истинно, да отступись уж от того… Не винен Иоасаф… Не целовал он креста в Литве супротив тебя. Оговорил его подлый камянчанин… Сам ведаешь, что оговорил, дабы доверие твое добыть да и творить свои подлые дела, на кои его в Литве снарядили. Раз уж ты вызнал те скровные поползновения камянчанина да и в застенок его вкинул, стало быть, и Иоасафа тем оправдал. И вели отпустить его с Пиром домой. С патриархом негоже нам враждовать.
– Я б и его самого за ключи посадил… патриарха!.. Ежели б привел он к нам в землю нашу шиша[9], как привел его Иоасаф. Нешто не в свите Иоасафа пришел к нам сей подлый монах, чтоб посеять измену в дому нашем? Станешь говорить, что не ведал преподобный, кого ему дьявол посылает в попутчики? А как ведал?
– Не ведал, – твердо сказал Макарий.
– Так пусть ведает отныне… Пусть везде ведают, и в Литве, и в Константинополе, что мы в нашу землю шишей не дозволим водить. – Иван помолчал, сурово всхмуривая брови, покосился на Макария, пересиливая себя, сказал: – Ладно уж… ради твоих великих просьб, владыка, оставлю я вины преподобному гречину. А вот домой ему покуда дорога закрыта. Война!
– Немощен я… Бог призывает меня к себе, – тихо и скорбно проговорил Макарий, изнеможенно опуская голову. – И не простит он мне, ежели не отвращу тя от пролития крови христианской. Бусурманская нечисть разоряет наши церкви, ругается над верой нашей… Замирись с Литвой, обратись супротив бусурман – славой имя твое покроется вовеки.
– Уж не бояре ли тебя на такую мысль навели, владыка? – насупясь, спросил Иван и царственно скрестил на груди руки.
– Сия мысль от Бога и во имя Бога, – твердо сказал Макарий, но глаз на Ивана не поднял. Руки его упирались в лавку: сидеть ему было так же томительно, как Ивану стоять. Клобук его сполз на ухо, лоб взмок…
Макарий тяжко вздохнул:
– Во имя Бога отвращая тя…
– Твоими мольбами простится мне, владыка.
– О душе твоей я молюсь денно и нощно…
– Бог услышит тебя, владыка, и споможет мне. Нет в том греха – отчизне силы придать! Море добуду – замирюсь с литвинами на веки веков и детям своим таков завет оставлю.
– Во все века и у всех народов государи мало внимали гласу Божьему. Несть во мне сил отвратить тя от войны… Призываю милостивым быть к побежденным.
Макарий снял с себя крест, Иван преклонил колено…
– Во имя Отца и Сына и Святаго Духа благословляю тя на дело ратное. – Макарий трижды осенил Ивана крестом. – Да будут с тобой успех и удача!
Иван поцеловал крест, повернулся к иконам, перекрестился и торопливо вышел.
4
Спустя неделю после Рождества Иван выехал в Можайск к войску, велев быть с собой брату своему Владимиру Старицкому с дружиной его, с боярами и воеводами старицкими.
В Москве на главенстве остался Мстиславский вместе с дворецким боярином Захарьиным-Юрьевым, царским родственником по первой жене. Осталась в Москве и царица Марья – беременная первенцем. Иван уверился окончательно, что Девлет-Гирей не придет к Москве, и не велел ей отъезжать в Вологду, куда по обычаю отправлял свою семью на время походов, дабы обезопасить ее на случай неожиданного нападения крымцев.
Остались в Москве и оба царевича – сыновья Ивана от первой жены Анастасии Захарьиной – Иван и Федор. Иван был уже смышленышем – на девятом году… Учился грамоте у дьякона церкви Николы Гоступского – Ивана Федорова, скакал на лошади, рубил саблей – под стать отцу выдавался упрямым и дерзким. Федор был совсем мал, хил, тщедушен, пуглив; то и дело прятался от своих дядек и нянек по разным закуткам, отчего всегда по дворцу носилась переполошившаяся челядь, разыскивая пропавшего царевича.
Иван прибыл в Можайск по первопутку. Приближалось Крещение, и зима наконец набрала силу. Упали снега, заморозились реки, по окрепшим дорогам потянулись посошные[10] обозы, доставлявшие войску корм, пушечное зелье, ядра, холсты, канаты, сбрую… Посошных людишек в нынешний поход было собрано множество: одних конных пять тысяч да пеших тысяч тридцать…
В Можайске Ивана ждал с главными полками Алексей Басманов. Щенятев и Шуйский ушли с нарядом в Великие Луки; с ними ушел казанский царь Симеон Касаевич да царевичи Бек Булат, Кайбула и Ибак – с татарскими и черкесскими полками.
По приезде Иван устроил смотр главным полкам. На можайском степище, в трех верстах от города, громадным кольцом стало войско: конные и пешие, стрельцы и пищальники, лучники и копейщики… Впереди – воеводы, стрелецкие головы, в доспехах, со знаменами.
Войско стояло торжественно и сурово. В морозном воздухе клубился пар от дыхания многих тысяч людей, всхрапывали кони, громко покрикивали стрелецкие сотники – сухими, резкими голосами, как бичами щелкали в воздух:
– Ободрись!
На востоке, в полверсте от того места, где стояло войско, громадился бор. Вдоль его опушки протянулись шатры, шалаши, наметы… Пылали бесчисленные костры, застилая небо густым дымом от сырых, прямо с корня, плохо горящих дров; в громадных котлах варились бараньи туши, еще больше их лежало рядом с котлами на постеленной на снег соломе – уже застывших и только освежеванных, парующих и отдающих приторью свежей крови. Вокруг вились своры голодных собак. Их отгоняли горящими головешками, обливали кипятком…
В бору тарабанили топоры – валили лес; бревна распиливали на чурбаки, чурбаки секли на поленья и на возах везли в город – к царскому дому, к боярским и воеводским домам, подвозили к кострам, к баням – неподалеку, на косогоре, стояла их целая дюжина, больших, черных изб, в которых зараз могло мыться по сотне человек.
В Можайске ударил набат, колыхнув над степищем смерзшийся воздух. Люди поснимали с голов шапки и замерли – немо и напряженно, только пошло из одного конца в другой легко, как вздох, оторопело-радостное:
– Царь!
Умолкли в лесу топоры, утихли пилы, замерли на месте возы и сани, а те, что были на дороге, съехали на обочину, в рыхлый, глубокий снег: лошади по брюхо, возницы по пояс – как истуканы, вбитые до половины в землю.
Торжественная тишина нависла над всем этим громадным, оцепеневшим скопищем людей.
С того места, где стояло войско, ударила пушка – оттуда раньше заметили царя, – и тут же впереди на дороге заклубилась снежная замять. Два десятка всадников на рысях промчались по опустевшей дороге, разворотив копытами укатанный наст.
Донеслось протяжное «ура» – войско встречало царя.
Иван въехал через раствор – и тут же взвились знамена: в самом центре тяжело заколыхалось большое царское знамя с Нерукотворным Спасом, рядом с ним – удельное знамя князя Владимира Старицкого с Иисусом Навином, останавливающим солнце… Затрепетали казацкие бунчуки, поднятые на длинных пиках, воеводы обнажили мечи и сабли, громко заиграли трубы и сурны.
Иван медленно поехал вдоль строя. Позади него, придерживая разгоряченных коней, ехали воеводы. На первом месте – князь Владимир, в тяжелом шлеме с золоченым тульем и длинными, торчащими в стороны наушами, из-под которых свисала на плечи густая мелкоколетчатая бармица – подшеломная кольчужка, защищающая шею, – тяжелое зерцало[11] тоже отблескивало золотом… На князе был парчовый кафтан, подбитый куньим мехом, высокие сапоги красной кожи, обшитые по голенищу золотой вителью, в руке легкий золоченый шестопер с витой рукоятью. Тяжелый кованый щит, копье, меч и саадак везли оруженосцы, держа своих коней за крупом его вороного жеребца; за оруженосцами – вся княжеская свита, все на вороных, в богатых доспехах… После них – большие воеводы: Басманов, Серебряный, Горенский. Большие ехали конь в конь, стремя в стремя: никто из них не имел над другим прав, у всех в руках одинаковые серебряные шестоперы, но Басманов ехал на старшем месте – справа. Серебряный и Горенский, не сговариваясь, уступили ему это место по доброй воле, зная царское благоволение к нему. Горенский был рад и этому: ему еще не доводилось ходить в больших воеводах. При Воротынском, Курбском, Бельском ему бы не знать такой чести – в дворовых воеводах стоял бы… Нынче же – с серебряным шестопером, перед всем войском! Такой чести он ждал много лет, и радовался, и гордился втайне, хотя и знал, что в Великих Луках царь переберет места: в Великих Луках дожидались Шуйский со Щенятевым, а те и по роду, и по заслугам не могли быть ниже его.
Серебряный чуял радость Горенского и думал с неприязнью: «Радуется княжич чужому месту… Бросили собаке кость!»
Басманов ехал угрюмый, погруженный в какие-то мысли. Серебряный изредка бросал на него быстрый взгляд, стараясь не выдать своего любопытства и беспокойства. А беспокойство у князя было… И не потому, что хмурился Басманов. Басманов и в добрые времена редко бывал благодушным: таков уж был этот человек – хитрый, затаенный, всегда себе на уме… Родовитостью он не значился – Басмановы и в думе редко сидели, – оттого и льнул он к царю, приспешничал, царской милостью стремясь возвыситься над другими. Серебряный всегда недолюбливал его, хотя открытой вражды между ними не было. Серебряный не нисходил до задирки с ним, Басманов же знал версту и держался всегда подобно месту. Слишком уж высок был Серебряный, чтоб Басманов, даже с помощью царя, стал искать места над ним. Воспротивься Серебряный, Басманов и нынче не шел бы на первом месте. Но Серебряный унял в себе родовую спесь и по доброй воле уступил Басманову это место. Знал он: не любил царь местничества в походах, особенно среди воевод. Стоило заместничаться воеводам, как и в полках начинался перебор мест: десятники не хотели стоять под пятидесятниками, пятидесятники – под сотскими, сотские метили в стрелецких голов, а головы утягивали места у тысяцких. Был потому царский указ: в походе быть без мест. Кто бы под кем ни стоял, чести это ничьей не умаляло и в разрядную книгу не вносилось. Потому так легко и уступал Серебряный первое место Басманову: чести его это не вредило, зато забот убавляло. Быть воеводой Большого полка, когда с войском шел сам царь, – скверное дело!
Серебряный прибыл к войску только вчера – вместе с царем – и еще ни о чем не проведал, не разузнал, но по угрюмому виду Басманова догадывался, что в войске неурядицы. Басманов был при войске давно и непременно уже во все вник, все разглядел… Ума на это ему не занимать, и глаз у него острый.
Понимал Серебряный, что Басманов непременно обо всем расскажет царю. Тогда уж несдобровать никому. Помнил он тревожное предупреждение Мстиславского, и хоть не все понял из того, что спрятал за своими словами Мстиславский, но духом чуял: лучше не противиться царю, не растравлять его… Перемена в нем сталась такая, что ждать от него можно было всего – и головы сечь начал бы… Кому сечь – Басманов укажет!
Нельзя было допустить всего этого. Серебряный улучил момент и негромко сказал Басманову:
– Ладно стоит войско. Государь доволен.
Басманов не ответил, только сильней насупился.
Иван проехал конницу, проехал московские стрелецкие полки, проехал наряд – конь шел под ним легко, спокойно… Доспехов Иван не любил, был без шлема, без лат, в простой ферязи, стеганной на вате, в горлатном треухе, на руках боевые рукавицы, на поясе болталась короткая татарская сабля.
Подъехав к копейщикам, он взял у ближнего ратника копье и с силой метнул его в землю. Копье выбило в смерзшемся снегу глубокую лунку, но не вонзилось, упало…
– Худо точено, – сурово, но беззлобно сказал Иван.
– Немца продырит! – ловко ввернул хозяин копья и блаженно улыбнулся царю.
Иван привстал на стременах, громко спросил:
– Какие будете?
– А мы всейные, осударь! – ответил за всех копейщик. – Тверские, рязанские, володимерские!..
– Воеводы не кривдят вас? – склонившись с седла, потише спросил Иван и прищурился: смел был этот ратник, и Иван подумал, что выведает у него правду.
– Твоими заботами, осударь, ограждены от всех кривд!
Серебряный видел: довольным отъехал Иван от копейщиков, и снова сказал Басманову:
– Государь доволен!
– Доволен, покуда я молчу! – вдруг резко и угрожающе сказал Басманов.
– Пустое, воевода, – сказал как можно беспечней Серебряный. – Пожалуешься на новогородцев – псковичи обидятся… На псковичей – новогородцы… Что город – то норов! Тверские тоже молчать не станут… Крик учинится!
Басманов молчал, хмуро кривил брови.
– Крику быть непременно… – Серебряный осторожно поглядывал на Басманова: только на ум его рассчитывал он, на то, что во всех его доводах Басманов сыщет хоть маленькую долю опасности для общего дела – для похода и откажется от своего намерения. – Пошто перед таковым делом людей будоражить и государя гневить?
– Покрывать лиходеев? – глухо, неуступчиво сказал Басманов.
– Пошто покрывать? Самым вредным – правеж учинить, с нерадивых сыскать.
– Како ж сыщешь со старицких воевод? – Басманов с недоброй усмешкой посмотрел на Серебряного и добавил: – Иль правеж учинишь?
Серебряный тоже усмехнулся, но только для того, чтобы скрыть свою растерянность. Глубоко, выходило, копнул Басманов, раз столкнулся и с воеводами Владимира Старицкого. Серебряный посмотрел на пышную княжескую свиту, на самого князя – по-царски торжественного и напыщенного, открыто бросающего вызов царю своим богатством и независимостью, посмотрел на царя – простолюдного и невзрачного в своей нецарской одежде, и подумал: «Не сносить головы и Старицкому, коли вырвется из его души все, что накопил он в ней!» Вслух же Басманову сказал другое:
– Князь сам учинит, коли их вину ему указать.
Басманов отмолчался.
Иван заканчивал объезд. Приспустились казачьи бунчуки, поутихли трубы и сурны, даже князь Старицкий приустал держать гордую осанку и как-то сник, огрузнул…
Басманов вдруг сказал Серебряному:
– Старицкие воеводы больше всех вреда чинят.
– Князь уймет их, – быстро проговорил Серебряный.
– Мне пусть выдаст, – жестко и твердо сказал Басманов.
– Сие не в обычаях князя, – холодно обронил Серебряный, но тут же добавил: – Ежели большую вину сыскать, буде, и выдаст.
– Вина большая, – по-прежнему жестко и твердо сказал Басманов.
– Кого? – спросил Серебряный и повернулся к Басманову.
– Пронского.
Серебряный от неожиданности чуть не выронил из рук шестопер. Все что угодно ждал он от Басманова, только не такого. Требовать выдачи Пронского – большого старицкого воеводы! Да если бы князь Владимир и выдал его, Пронский сам не отдался бы Басманову – уж больно велика верста была между ними. Пронский скорее на плаху пошел бы, чем на повину к Басманову.
– Воевода, верно, шутит? – зло спросил Серебряный, подумав, что Басманов просто издевается над ним.
– Князь, – спокойно сказал Басманов, – ежели мы не уймем Пронского и иных с ним, никакой крепости нам не взять, куда бы мы ни пошли – в Ливонию иль в Литву. Государь нам сего не оставит.
– Пронский – не стрелецкий голова!
– О стрелецком голове, князь, мы с тобой и не говорили бы! Шестерых голов стрелецких я уже ставил под плети, нынче поставлю еще…
– Пронского – тоже под плети? – еле сдерживая себя, спросил Серебряный.
– Опомнись, князь! Не имею таковой власти…
Серебряный поискал Пронского в свите князя Владимира – тот ехал подле оруженосцев, могучий, гордый, в тройчатой кольчуге, с копьем и щитом в руках, вороной конь под тяжелым чалдаром[12]… Серебряный с восхищением смотрел на Пронского и думал: «Эвон как зубы на тебя изощрили, князь, царские приспешники! В псарях у тебя не ходили бы, а чести твоей ищут! Ну да ненадолго лягушке хвост!»
– Пусть приедет ко мне, – сказал Басманов, но как-то не очень твердо, с волнением, словно напугался своей дерзости. Серебряный почувствовал его волнение и понял, что он и сам мало верит в возможность затеваемого, но Серебряный знал решительность Басманова, знал, что он не остановится ни перед чем.
– Я уговорю Пронского приехать к тебе, – сказал он ему. – Только обещай не бесчестить его!
– Я не трону его чести, ежели она есть у него.
5
Из темного проема церковных врат валит пар, как из бани; карнизы и навесы над вратами покрыты белой индевью, отчего церковь кажется похожей на громадную берлогу.
Гул колоколов то стихает, то вновь зачинается – поначалу нечастым, глохлым брязкотом, потом быстрей и звонче, переполошенно и буйно накатывается, накатывается хлесткий перезвон, скапливается в воздухе, тяжелеет и вдруг бьет тяжелым, гулким ударом – в землю, в небо…
С куполов осыпается снег – летит комьями и густой белой пылью, нищие ловят его в ладони, припадают к нему лицом…
– Божий дар! Манна! – шепчут они изумленно и жадно и яростно отгоняют всякого, кто пытается тоже поймать хоть горсть. Слизывают с ладоней снежную пыль, блаженно закатывают глаза и суетятся, суетятся…
– И нагой не без праздника! – шепчут они с заумью. – Царько наш милосердный нынче пожалует убогих!
Еще задолго до окончания службы стали они собираться небольшими, враждующими меж собой кучками возле церкви Святого Георгия Победоносца, где стоял обедню царь. Потянулся к церкви и народ – с крестами, хоругвями, иконами… Притащились юродивые. Они сразу стеснили нищих с паперти: стали ползать по обледенелым ступеням, сдирать ногтями комки, счищать мусор, грязь… Один из них, с двумя тяжелыми железными крестами на груди, уселся в сугроб и спокойно плакал, не обращая внимания на своих орущих, хохочущих, ползающих по паперти собратьев.
– Юродивый не заплачет – не жди удачи, – говорили в толпе и кланялись ему.
На площади возле церкви скапливалось все больше и больше народу. Самые проворные забрались на крышу стоящей неподалеку ямской избы, обсели длинный покатый настил конюшни, пристроенной рядом с избой, – кто-то подал туда хоругви, кресты… Один крест пристроили на трубе ямской избы. Его обдавало дымом, и люди заволновались, нищие замахали клюками…
– Кощунство! Кощунство! – зашумела толпа.
Но крест не сняли: дым стал идти слабей, а вскоре и совсем прекратился – в избе потушили печь.
Вдруг крыша над конюшней с глухим треском проломилась, и все, кто сидел на ней, провалились вниз. Дико заржали напуганные лошади, завопили искалеченные, барахтающиеся под обломками и копытами обезумевших лошадей люди.
Толпа на площади с ужасом охнула и откачнулась от конюшни. Кто-то кинулся – отворил ворота… Несколько лошадей вырвалось на волю, и они понеслись прямо в толпу. Полетели на землю хоругви, иконы… Толпа в ужасе качнулась в сторону, смяла нерасторопных и упавших, хлестнулась о стены домов, заглушив паническим вздохом глухой зойк[13] раздавленных, и вдруг замерла, остановленная чьим-то ликующим воплем:
– Царь!
Иван стоял на паперти в окружении воевод и угрюмо смотрел на оторопевших, словно бы захваченных врасплох на какой-то шкоде людей.
Беззвучно, понуро стояли люди, еще не освободившиеся от наполнявшего их ужаса, но уже охваченные другим, не менее гнетущим чувством – чувством вины перед тем, ради которого они пришли сюда.
Валялись на снегу затоптанные хоругви, разбитые иконы, билась в сугробе с поломанными ногами лошадь, из конюшни доносился негромкий, но хорошо слышимый в наступившей тишине зов: «Спасите! Спасите!»
Ни один человек не кинулся на помощь к взывающим, никто не пошевелился даже: люди или не слышали, или боялись теперь уже хотя бы малейшим движением отягчить свою вину. Они словно пристыли к земле, беспомощные и кроткие, всем своим видом, своей жалкостью, кротостью показывавшие свою покорность, свое смирение и этой покорностью, этим смирением старавшиеся заменить все те почести, которые они собирались оказать ему – так угрюмо и недружелюбно взирающему на них с высоты паперти.
Даже юродивые угомонились и сникло сидели на ступенях с раскрытыми ртами и выпученными глазами.
Иван вдруг спустился по ступеням к одному из них, присел на корточки, строго спросил:
– Скажи: будет мне удача?
Юродивый сжался, заскулил, как от щекотки, по синюшным губам потекли слюни.
– Скажи, – настойчиво потребовал Иван. – Будет мне удача?
– Дай гривну, – сказал плаксиво юродивый.
– Богатым станешь…
– Дай! – громко и грубо потребовал юродивый и толкнул Ивана в плечо.
Иван не рассердился, только отсел чуть подальше. Снял с пальца перстень, протянул его юродивому.
– Вот – вместо гривны…
Юродивый схватил перстень, зажал его в ладони, даже не взглянув на него, и долго сидел без движения, прижав к животу руку с перстнем.
Иван терпеливо ждал. Юродивый снова заскулил, затряс головой, разжал ладонь и выбросил перстень в снег.
– Дай гривну!
Нищие кинулись к перстню, учинили драку. Васька Грязной проворно сбежал с паперти, плетью, как собак, разогнал их. Нищие беззвучно расползлись в разные стороны – кто-то из них уполз вместе с перстнем.
– Васька! – нетерпеливо приказал Иван. – Сыщи гривну.
Васька Грязной крикнул в толпу:
– Эй, люди, кто одолжит царю гривну?
Из толпы вышел человек, расстегнул шубу, вынул из-под широкого пояса серебряную гривну, протянул Ваське.
– Кто будешь? – спросил Васька.
– Евлогий, купец.
– Год будешь беспошлинно торговать в сем городе, – сказал ему Васька и отнес гривну царю.
– Вот тебе гривна, – подал Иван юродивому серебро. – Скажи теперь: будет мне удача?
– Гы-гы!.. – засмеялся юродивый беззубым ртом, погладил гривну ладонью и спрятал ее куда-то в свои лохмотья.
– Скажи, – настойчиво допытывался Иван, – будет мне удача?
– Носи крест и вериги, – сказал юродивый.
Иван резко выпрямился, долгим, тяжелым взглядом посмотрел на юродивого, словно испытывал его, но юродивый уже отвернулся от Ивана, забыл о нем. Иван поднялся на паперть, подоспел к священнику, скромно стоявшему позади всех, решительно снял с него крест и повесил на себя.
– Коня, – сказал он глухо.
6
Иван жил в простой деревянной избе, выстроенной на окраине Можайска еще прошлой весной, перед Ливонским походом. Жил скупо, строго… При нем были только Федька Басманов с Васькой Грязным да несколько слуг.
Изба была разделена на три части: в одной, самой маленькой, была царская спальня и молельня – Иван не любил по утрам ходить в церковь и молился в своей молельне; в другой жили Федька и Васька; третья, большая и просторная палата, служила трапезной, здесь же Иван выслушивал челобитчиков, сюда созывал на совет воевод.
Нынешний день утомил Ивана: долгий смотр войска, долгая обедня, которую он почти всю отстоял на коленях, да еще то странное, почти бессмысленное прорицание юродивого, в котором Ивану почудилось какое-то жуткое зловестие… До него словно донесся далекий и суровый глас судьбы. Вспомнил он свой разговор с митрополитом, вспомнил его слова: «Добро в твоей душе да восстанет надо злом…» Добро! Не к нему ли тянется его душа – вперекор разуму, вперекор воле, вперекор всему тому, мрачному и злому, чем наполнена его жизнь?
Сник Иван, призадумался… Приказал Федьке сказать воеводам, что говорить сегодня с ними не будет, а наутро чтоб готовились выступать. Всегда вгонявший коня в пену, теперь до самой своей избы ехал шагом. Обедал один, даже не позвал Федьку, обычно рассказывавшего ему за обедом сказки, притчи да разные небылицы.
Сумрачный, отяжелевший сидел Иван за столом… Мысли его ушли к тому времени, когда совсем еще юным, семнадцати лет от роду, венчался он на царство в Успенском соборе. Навсегда остался в его памяти этот день. До сих пор помнит он, как величественно – до жути! – пели певчие венчальную херувимскую песню, как надрывно стонали от их голосов гулкие своды собора, как пугающе дрожало тяжелое, слепящее марево свечей, как бесновались кадильницы вкруг него, как задыхался от их дыма… Помнит лица бояр, непроницаемые, холодные лица, помнит пронзительные, неотвязчивые глаза тетки своей Ефросиньи Старицкой, помнит боярынь ее – пустоглазых, как совы, в золоченых кокошниках, подносивших ему царскую цепь…
Тогда он еще был им по зубам, и знай они, что он не только обвенчается, но и станет царствовать, непременно извели бы его. Извели бы! В этом он уверился окончательно и накрепко в пору своей тяжкой хворобы, когда, ожидая смерти, призвал их присягать своему сыну и наследнику – царевичу Димитрию[14]. Вот когда он увидел их истинные лица и узнал истинную цену их преданности ему. Князь Владимир Старицкий не замедлил объявить свои права на престол – мимо Димитрия, и бояре встали за него. Крест целовать Димитрию воспротивились, засварились, выгоды себе выговаривая перед новым царем, которого уже видели на престоле, а ему, Ивану, еще живому, говорили прямо в глаза: «Нельзя нам крест целовать не перед государем. Перед кем нам целовать, коли государя тут нет?» Лишь увидев, что смерть отступила от него, и подошли к кресту. Князь Владимир в отчаянье поцеловал крест, а мать его, Ефросинья Старицкая, только с третьего присыла привесила к крестоцеловальной грамоте свои печати.
«Добро в твоей душе да восстанет надо злом…» – снова вспомнились ему слова Макария. – А пощадят ли меня, доброго, мои недобрые враги? Не пощадят! Пошто же мне уповать на Божий суд? Мне мало на них лише Божьего суда! Я сам хочу судить их! Сам! И я буду судить… Буду!»
Злоба, вскипевшая в нем, постепенно отступила – он мысленно выместил ее, – но легче не стало. Давило одиночество.
– Федька! Васька! – позвал он.
Федька и Васька мигом, будто стояли под дверью, появились в трапезной.
– Вина! – приказал Иван. Федьку задержал: – Садись, Басман, сказку будешь сказывать мне.
Васька Грязной принес кувшин вина, поставил его на стол перед Иваном, подал ему чашу из носорожьего рога, которую когда-то прислал в подарок его отцу крымский хан. Иван чаще всего пил из этой чаши, даже на пирах: рог носорога, по древнему поверью, охранял от яда. Отравленное питье должно было сразу почернеть в этой чаше.
Васька наполнил чашу, протянул ее Ивану.
– Ну, Басман, пошто молчишь? Сказывай сказку.
– Какую велишь – грустную иль веселую?
– Какую выдумал!
Иван отпил из чаши, ожидающе посмотрел на Федьку. Тот вымученно осклабился, сделал вид, что собирается с духом, но глаза его помимо воли тянулись к кувшину.
– Буде, хочешь пображничать?
– Ежели милость окажешь, пригублю за твое здравие.
– Ох, шельма! – усмехнулся Иван. Душа его стала отходить. – Тащи, Васька, ковши!
Грязной проворно притащил ковши, наполнил их. Федька подобострастно сказал, поднимая ковш:
– Здравие твое, цесарь!
– Здравие твое! – повторил Васька.
– За смерть врагов моих выпейте, – спокойно сказал Иван. – И за свою, ежели тоже врагами станете!
Васька беспечно улыбнулся, единым духом заглотил весь ковш. Федька побледнел, руки его дрогнули – вино пролилось на пол.
– Невесел ты что-то, Басман, – с издевкой, полной недоброй двусмысленности, сказал Иван.
– Невесел я оттого, что ты печален, цесарь.
Иван долгим, испытывающим взглядом посмотрел на него. Федька снова побледнел, но выдержал взгляд Ивана и твердо сказал:
– Пусть сгинут твои враги, цесарь!
– А теперь сказывай свою сказку, – приказал Иван.
– Жил-был на земле один мудрый и добрый царь, – начал Федька.
– Не стой, сядь, – сказал ему Иван. – И не подслащай… Добрых царей нет.
– А сей был добрый, – сдерзил Федька, ушел в угол и сел там на лавку.
– Сядь ближе, – раздосадовался Иван.
– Глупый место ищет, а разумного и в углу видно, – скороговоркой проговорил Федька, но пересел поближе. – Великое государство было у сего царя и премного всяческого богатства. Было у него також много разных слуг, и прислужников, и вельмож… Как у тебя! Все они пред ним пресмыкались и верность свою показывали, а за глаза думали про него недоброе и всяческое зло умышляли… Завидовали его мудрости и богатству. Был среди них один, который не пресмыкался пред ним, подобно остальным, не падал ниц, а токмо опускал глаза и учтиво кланялся. Царь был мудр и разумел – кто верен ему, а кто лише показывает верность. Приблизил он к себе того человека, сделал его самым первым своим слугой, ибо уверился, что тот николиже не изменит ему. Но завистники и царские недруги, которым тот человек поперек стал, учали всячески чернить его пред царем, измышлять на него пущие изменные дела… Хотели, чтоб царь прогнал его и снова остался без верного человека. Царь наветам не верил, ибо был мудр, как и ты, цесарь, но и в его душу закралось сомнение. Намерился он испытать своего слугу и измыслил для сего некую хитрость… Призвал он однажды его к себе и речет ему наедине: «Проведал я, что враги мои хотят меня убить!» Слуга спрашивает: «Коли они задумали сие сделать, и которым обычаем?» – «Про то я не ведаю, – речет ему царь, – ведаю токмо, что нападут они на меня средь ночи, в опочивальне. Потому я не буду отныне спать в своей опочивальне, но в одной тайной комнате. Опричь нас с тобой об той комнате никто ведать не должен. Вот тебе ключ, дабы ты при нужде мог зайти ко мне». Отдал ему царь ключ, а мысль у него была такая: ежели слуга не верен ему, ежели он враг его, то, соединившись с другими, непременно захочет помочь им убить его. Для того царь устроил ловушку. Спал он совсем не в той комнате, в которой сказал, а в той, в которой сказал, было сделано его подобие из воска и тряпок и положено на ложе, а в потаенных местах стража поставлена. Царь думал, что ежели тот слуга придет с иными недругами убивать его, то впотьмах не разберет – царь на ложе или токмо подобие, и поразит его ножом или мечом, а тут их всех стража и схватит.
Три ночи ждал так царь. Ждал и четвертую… И вот в четвертую-то ночь вдруг учинился во дворце великий сполошный шум. Царь посылает одного стражника проведать… Тот воротился и доносит царю, что по всему дворцу радостные вопли: «Царя убили! Царя убили!» Царь взял с собой стражу и поспешил в свою спальню. Тут и застал всех своих врагов, которые радостно потрясали мечами, а узревши живого царя, так и обмерли. Царь увидел на своем ложе окровавленный труп, облаченный в его царскую одежду, и заглянул ему в лицо и узнал своего слугу. Тут царь все понял и казнил всех своих врагов.
– К чему ты сие рассказал? – допытливо и хмуро спросил Иван после долгого молчания.
– К тому, что другое уж все высказал.
– А се пошто таил?
– Не таил…
– Пошто же ранее не рассказал?
– Ты ранее меня врагом своим не обзывал, – язвительно ответил Федька.
– Зело обидчив ты, Басман. Кто обидчив, тот изменчив! – тяжело проговорил Иван и перевел взгляд на Грязного. Тот стоял перед ним восторженный и уже хмельной, в блудливых цыганских глазах его светилась детская, глуповатая радость, и весь он был как ребенок, которому только что дали пряник или посулили забаву.
Ивана потешил глупый Васькин вид.
– Гляди ж ты!.. А говорят, в пустую башку и хмель не лезет!
– В пустую он токмо и лезет, – умильно пробормотал Васька.
– Ну а скажи мне, Васюшка, понравилась тебе сказка?
– Мудрена больно! Мало я уразумел в ней чего…
– Слышишь, Федька?! – засмеялся Иван. – Се тебе награда за твою сказку. А чтоб больше глупых сказок не говорил, я тебя другой обучу. Будешь ее моим боярам сказывать, коли они в добром веселье будут.
Иван вынес из спальни свиток и подал его Федьке:
– Чти!
Федька взял свиток, осторожно, даже со страхом развернул его, так же осторожно, запинаясь, стал читать неряшливую скоропись:
– Турецкий царь Махмет-салтан сам был философ мудрый по своим книгам, по турецким, а когда греческие книги прочел и слово в слово по-турецки переписал, то великой мудрости прибыло у царя. И рек он сеитам своим, и пашам, и муллам, и обызам: «Пишется великая мудрость о благоверном царе Константине в философских книгах…»
Федька облизал высохшие от волнения губы, стрельнул глазами в Ивана:
– Он от отца своего на царстве своем остался млад, трех лет от роду своего, – торопливо продолжил он, – и греки злоимством своим богатели от слез и от крови рода человеческого, и праведный суд порушали, да неповинно осуждали за мзду. Вельможи царевы до возраста царева богатели от нечистого своего собрания. Стал царь в возрасте и почал трезвитися от юности своей, почал приходить к великой мудрости воинской и к прирождению своему царскому…
Федька перевел дух, снова стрельнул в Ивана глазами, но уже посмелей и даже как бы понимающе.
– Подай ему вина, – приказал Иван Грязному.
Федька не осилил полного ковша, махнул остатки на пол, еще старательней забубнил:
– И вельможи его, видя, что царь приходит к великой мудрости, рекли так: «Будет нам от него суетное житье, а богатство наше будет с иными веселитися».
– Ишь, перепужались, окаянные! – сказал блаженно Грязной.
Федька запнулся, хмуро посмотрел на него.
– Видать, почуяли под задом жаровню, – добавил со смехом Грязной.
– Нравится тебе моя сказка, Василий?
– Как про тебя писано, государь, – сказал простодушно Грязной и доверчиво улыбнулся Ивану.
– Тыщу раз перечти, Басман, сказку сию, – сказал Иван. – Знай ее, как молитву! Коли б я тебе ни наказал, по памяти повторить должен слово в слово!
7
Серебряный дождался сумерек и поехал на подворье князя Владимира Старицкого.
На подъезде к княжеской избе Серебряного встретили верховые казаки, учтиво попросили остановиться.
– К князю Володимеру – воевода князь Серебряный! – с достоинством сказал Серебряный и подал одному из казаков свой шестопер. Казак принял шестопер и, держа его в вытянутой руке, как факел, поскакал вперед, чтоб известить князя.
У крыльца тот же казак с поклоном возвратил Серебряному шестопер и почтительно сказал:
– Князь милости просит!
Такой прием понравился Серебряному, а то, что князь Владимир не заставил ждать и сразу позвал его, даже польстило ему: не всякий удостаивался такой чести у удельного князя.
В сенях Серебряного встретили княжеские воеводы, а сам князь встречал у дверей. Поприветствовал, справился о здоровье, просил садиться где удобно.
Серебряный сел, оглядел палату. Палата была богатая. Серебряный даже подивился, что князь и в походе живет в роскоши. Кругом – ковры: на полу, по стенам; на лавках – парчовые полавочники… В святом углу – широкий резной киот, отделанный серебром, жемчугом и костью, в нем – иконы, блестевшие золотыми окладами; на стенах – дорогое оружие; вдоль стен – большие сундуки из черного дуба, окованные чеканным серебром, на сундуках – массивные серебряные шандалы с ярко горящими свечами; на столе – золоченые кубки и кувшины с вином.
В палате народу было немного: несколько воевод из свиты князя, его оружничий, два боярина, парившиеся в рысьих шубах возле печи, княжеский духовник Патрикий и князь Пронский. Присутствие в палате Пронского больше всего смутило Серебряного. Он даже растерялся поначалу, не зная, как и приступить к делу, когда сам Пронский, причастный ко всему, будет сидеть и слушать, что о нем будет говориться.
– По царскому приказу иль по своей воле явился ты к нам, воевода? – спросил князь Владимир, видя замешательство Серебряного, хотя и не должен был начинать разговор первым.
Серебряный в душе перекрестился на князя – за то, что тот пришел к нему на помощь, пренебрегши обычаем, и, разом успокоившись, ответил:
– Царь не приказывал мне, да коли мы станем ждать его приказов – худо нам будет!
Князь Владимир, да и все, кто был в палате, почуяли тонкое двусмыслие в ответе Серебряного: замерли четки в руках Патрикия, сопнул недружелюбно Пронский…
– За самовольство також не милуют, – сказал князь Владимир.
– Самовольство самовольству рознь! – возразил Серебряный. – Ежели один самовольно порядку и ладу в деле добивается, а другой сие дело самовольно расстраивает – кому добром, кому худом воздать?
– За правое дело како не воздается – все лише добро будет, – тихо, мягко и словно бы самому себе сказал Патрикий.
Все с согласием посмотрели на него, будто он и вправду высказал за каждого их мысль. Да только знал Серебряный, что никто ничего подобного не думал. Каждый из них побежал бы от худого воздаяния, за какое бы дело оно ни воздавалось – за правое иль неправое… Он хотел было возразить Патрикию, да раздумал: не мудрствовать пришел он сюда.
– Во всяком деле ум нужен, – сказал он решительно. – Даже в правом!.. И мера. А что затеяли бояре и воеводы – неумно и неумеренно. Князь Пронский давно при полках и знает, какие невзгоды терпит войско через ту неумность и неумеренность.
Пронский опять сопнул, нахмурился, но не сказал ни слова.
– Нынче большой воевода говорил мне, что покрывает пред государем воеводские козни, дабы раздором пущего вреда не причинить, – продолжал Серебряный, прямо и смело глядя на князя Владимира, чтобы видеть, какие из его слов сильней всего затронут князя. – Первому воеводе твоей дружины, князь, надлежит сейчас ехать со мной к Басманову и говорить с ним по сему делу.
– Пошто моему воеводе? – капризно воскликнул Владимир.
«Знаешь – пошто! – подумал Серебряный, глядя в метушливые глаза князя, и порадовался, что верно поставил себя в разговоре с ним и оттого ведет дело в свою пользу. – Кабы не знал – выпер бы меня вон и слова бы не разменял со мной!»
– Оттого, князь, что твои люди больше всего козней творят!
– За такие слова, воевода, – в плети тебя! – вскинулся Владимир и крикнул слугам: – Взять его!
Слуги кинулись к Серебряному, скрутили по рукам.
– Опомнись, князь, – спокойно сказал Серебряный. – Твои плети подымут меня над тобой, коли Басманов пойдет к царю с доносом.
Владимир, по-бычьи наклонив голову, с ненавистью смотрел на Серебряного.
– Пристало ли нам, князь, меж собой свариться, коли надо всеми нами занесен топор?! – с укором и уже совсем иным тоном, мягким и дружеским, сказал Серебряный. – Согласного стада и волк не берет. А еще речется и так: собором и черта поборем.
– Отпустите его, – сказал Владимир и пристально вгляделся в Серебряного. – Дивный ты человек, воевода… А буде, просто лукав?
– Лукавство делу не помеха.
Владимир подступил к Серебряному:
– Речешь: собором и черта поборем? – Он осторожно, даже трусливо приблизил свое лицо к лицу Серебряного и ехидно спросил: – А буде, сам черт и наусткивает тебя, а?
– Полно, князь, – невозмутимо сказал Серебряный. – Мы не торговцы из Китай-города! Пошто нам торговать один у одного доверие? Скажи мне: едет со мной Пронский иль нет? И делу – конец!
– Обычая не знаешь, воевода? Своих людей я сам сужу!
– Обычай я знаю, князь, да уж давно у нас на Руси не по обычаю все ведется. Не на суд едет Пронский! Судить его можешь токмо ты или царь. Басманов с ним говорить будет.
– Басманов мне в осьмое колено… Кабы не в десятое! – глухо и зло бросил молчавший досель Пронский. – Отопком щи хлебал, да в воеводы попал твой Басманов!
– Слышал, воевода?! Невместно Пронскому ехать к Басманову. Пусть сам Басманов едет к нему.
– В походе мы все без мест, князь. Да и не поедет сюда Басманов. Он поедет к царю.
* * *
Серебряный и Пронский ехали молча, отчужденно… Серебряный, ехавший на полконя впереди, не видел Пронского, но знал и так, какую великую тяжесть везет в душе воевода.
Пронский поехал сам, по своей воле, без княжеского принуждения. Да Владимир и не мог его принудить. Не было у князя такой власти над ним. Это Серебряный понял еще в разговоре, когда окончательно стал требовать ответа – едет с ним Пронский или нет? Владимир тогда совсем потерялся. Всю спесь с него как рукой сняло. Только что угрожавший Серебряному плетьми, он вдруг стал просить его отговорить Басманова, рассудился подарками…
«Нетверд князь, нетверд», – думал разочарованно Серебряный. Он впервые так серьезно столкнулся с Владимиром и неожиданно для себя самого разглядел под его напускной могущественностью и капризной гордыней слабую и нестойкую душу. Невеселые думы прихлынули к Серебряному. Человек, с которым он связывал свои самые тайные и самые дерзкие надежды, оказался совсем не таким, каким он его представлял, и уж совсем не годящимся для той роли, которую отводили ему бояре в своей борьбе против царя.
Велико было разочарование Серебряного. Многое, ранее прочно утвержденное в его сознании, вдруг поколебалось, и он почувствовал себя так, будто его жестоко и коварно предали. Сам не зная для чего и почему, он придержал коня и с досадой сказал Пронскому:
– Нетверд князь наш…
– Зато имя его твердо! – вызывающе ответил Пронский.
– Имя? – равнодушно переспросил Серебряный.
– Да, воевода! – еще с большим вызовом сказал Пронский. – Не забывай, он внук покойного великого князя Иоанна Васильевича, а отец его – Андрей Старицкий… Андрей Иоаннович! – имел такое же право на московский престол, как и отец нашего нынешнего государя. Ежели не большее!
Серебряный почувствовал, как все-таки ненавидит его сейчас Пронский, так ненавидит, что даже не скрывает от него своих самых крамольных мыслей. Он чувствовал, что Пронский торжествует в душе, показывая ему свое бесстрашие, и этим бесстрашием унижает его, Серебряного, лицемерно, по его мысли, служащего царю. В другое время это взбесило бы Серебряного, но теперь он отнесся к этому спокойно.
Весь оставшийся путь они снова молчали и не смотрели друг на друга, хотя и ехали теперь конь в конь.
8
Басманов встретил Пронского более чем холодно. Серебряный сразу почувствовал, что разговор будет тяжелым. Почувствовал это и Пронский. Он важно сел на лавку, жестко, в упор стал смотреть на Басманова.
Долго, затаенно и выжидательно длилось молчание. Пронский и Басманов, как два стравленных пса, обнюхивались и присматривались – один, чтоб покрепче ухватить, другой, чтоб половче увернуться… Наконец Басманов, поняв, что Пронский хоть и покорился, и приехал, но первым все равно не заговорит, прервал молчание.
– Обещался я князю Петру не трогать твоей чести, воевода, – сказал он Пронскому, но это прозвучало не как уступка, а как угроза.
– Моей чести сам Господь Бог не затронет, – глухо обронил Пронский.
– Богу и ни к чему твоя честь, воевода. Пред Богом мы все лише душами закланы. В судный час призовет он всех нас не на пир, а к ответу за все дела наши земные.
– Рясу бы тебе носить, Басманов! – съязвил Пронский.
– О деле паче говорили бы, воеводы, – вмешался Серебряный.
– Коли есть оно, дело?! – опять съязвил Пронский. – Гляжу я, воеводе вельми нравится местом своим тешиться! Токмо к месту еще и честь потребна. А честь не утяжкой обретают. Не утянуть тебе нашей чести, Басманов: не под тобой мы, мы – под царем!
– Под царем – верно! – Басманов остался невозмутим. Он, должно быть, готов был и к худшему. – А хотели бы быть над ним! Посему и пакостите, и сычите, как змеи, яд свой изрыгая. Токмо своим же ядом и захлебнетесь. Кончилось ваше время! Отныне служба и раденье на первых местах, а не богатые кафтаны.
– Пошто же сам в богатый кафтан вырядился? Сермяжную худь прикрываешь?!
Басманов пропустил мимо ушей и эту издевку Пронского. Он снял с крюка железное кольцо, подошел к Пронскому, показал ему кольцо:
– Вот твоя честь! Сие кружало[15] ты послал ржевским кузнецам, чтобы они по нем ядра ковали. Они наковали триста дюжин, а ядра-то в пушки не лезут! Буде, ты новых пушек наделал? Так яви их! А буде, сие кружало не ты слал? Так вот клеймо старицкое!
– В нарядных делах у нас немчин голова. Он слал кружало.
– Допытывал я вашего немчина. Ты велел выковать кружало мера в меру устью пушечному, а исстари куют с убавкою. Ужли не знал ты сего, воевода?
– Не тебе допытывать меня! – надменно проговорил Пронский. – Ежели винен – пред царем отвечу!
– Царь не станет уж допытываться! Все ваши изворотки ему ведомы доподлинно. Оплели все своими паучьими кроснами… Порвет он их, порвет! А мы ему споможем!
– Кто ж такие – мы?
– Которые не о чести своей пекутся, а об отечестве… Много бед испытало оно через вас.
– Красно баешь, Басманов! Будто перед царем место выговариваешь! А того не разумеешь, что тем, кому не дорога честь, не дорого и отечество.
– Воеводы! – опять вмешался Серебряный. – Стыдно глядеть на вас!
– А ты не глядел бы!.. – огрызнулся Пронский. – Уйди!
– Ушел бы, – сказал примирительно Серебряный, – да погрызетесь… А дела не сговорите. Вот ты винишь Пронского в злых умыслах, на всех бояр царской опалой нахваляешься, – обратился он к Басманову, – а разве бояре царю враги? Ну, разошелся царь с боярами, так замирится! Как ты тогда в глаза всем нам смотреть станешь?
Дрогнуло что-то в Басманове, опустил он глаза… Серебряный понял, что попал в самое уязвимое место.
– Ежели не по злому умыслу отослал он сие кружало, так пусть докажет! – более обращаясь к Серебряному, чем к Пронскому, сказал Басманов.
– То ж как я докажу? – растерянно и удивленно воскликнул неожиданно присмиревший Пронский и зачем-то поозирался по сторонам.
– Кони старицкие кованы худыми гвоздями: от пяти верст подковы отваливаются.
– Не я их кую, гвозди те! – опять удивился Пронский. – Да и под каждое копыто не заглянешь!
– Гвозди кованы из крушного железа[16], – сурово бросил Басманов. – Старицких воевод допытать хотел – они мне не повинились! Твое на то слово было: не виниться большим воеводам без княжеского указу.
– Так исстари у нас ведется, – засмеялся Пронский. – Мы – удельные!
– В порохе ямчуги[17] недостает – тоже исстари ведется?
– Пороху надобно много, а с Белоозера ямчугу неспешно везут… Оружничий и сообразил на меру по горсти убавить.
– Пошто же тверские и новогородские добрый порох доставили?
– Так на Старицу более всего по росписи идет: и ядер, и пороху…
– А кружало сие ты, однако, намеренно послал, – вдруг осек Пронского Басманов.
– Буде, ты меня еще на правеж поставишь? – снова вскипел Пронский.
– Вот и докажи!.. По совести сделай, чтоб себя обелить. – Басманов помедлил, словно бы испытывая Пронского: возмутится тот на обвинение или смолчит, примет его… Пронский смолчал. Ободренный этим, Басманов твердо договорил: – Своей казной перекуй все ядра.
– Своей казной?! – ужаснулся Пронский. – Ты в своем ли уме? Где я возьму таковую казну? Не сам же я рублю рубли?
– Коли вас не пресекать, так и царю их не из чего станет рубить!
– Ядра непременно надобно перековать! – сказал Серебряный. – Триста дюжин – великий счет!
– Нет у меня таковой казны, – упорствовал Пронский.
– Не хочешь по совести и по добру – будет по злу. Я не властен над тобой, воевода, ты можешь ехать прочь… Токмо ведай: быть тебе в ответе. За всех!
Пронский решительно встал с лавки, в глазах у него заметались свирепые огоньки. Басманов тоже поднялся…
Серебряный почувствовал, что сейчас может произойти самое страшное: они вконец рассорятся, и Басманов, несмотря на все свои сомнения и колебания, все же пойдет к царю с доносом. Покрывать Пронского он просто не мог: царь все равно доведался бы про негодные ядра, и уж тогда за покрывательство Басманова самого ждала Бог весть какая участь.
– Перекуй, воевода, ядра, – стал наступать на Пронского уже и он. – Перекуй! Своей головы не щадишь – чужие пожалей!
Пронский помолчал, пораздумывал, а может, просто подразнил своим молчанием и Серебряного, и Басманова, которые были ему сейчас одинаково ненавистны, и бросил презрительно:
– Перекую!
9
У Махони Козыря, заплечных дел мастера, днем работы не было. Работа его начиналась вечером, когда изо всех полков шли к нему под розги и плети провинившиеся за день воинники и посошники.
За неимением потребного места Махоня справлял свое дело в бане. Тут же он коротал и дневное время, сидя в предбаннике и ожидая, когда кто-нибудь позовет похлестать веником спину. Платы за это он не брал, но просьбу исполнял старательно. Так же старательно он исполнял и свою основную работу.
По всей Руси знали Махоню: он сек и новгородских, и тверских, и рязанских, сек в Казанском походе, сек в Астраханском, сек в Ливонском, теперь сечет в Литовском.
Махоня был добр, покладист, но на руку тяжел. Больше двух дюжин пястей от него никто не выдерживал. Сек Махоня простонародье: носошников, ратников, десятских, случалось, и сотских, но до дворянской или боярской породы его не допускали. Тех больше брали мытарством… Мытарить же Махоня не умел. Махоня сек, да так, что даже дубленые мужичьи спины лопались под его плетью, а попадись ему на лавку боярский сын или дворянчик – не ужить бы ему и до дюжины…
Саженистый в плечах, увалистый, как боров, Махоня был невысок ростом, но с длинными, почти до колен, руками, безбородый, с маленьким лицом и маленькими глазками… Татарская примесь выдавалась в нем явно… Подсмеивались над ним насмешники:
– Ты, Махонь, ни в козла, ни в барана, ни в черного врана!
– Дык… сам я себя вытворял, что ль?! – беззлобно говорил Махоня и всегда одинаково. – Бог меня вытворял!
По целым дням сидит он в предбаннике, размачивая в кадке розги и гутаря с банящимися. Всех он привечает, ко всем с лаской, будто все ему приятели или родичи, и квасу подаст, и кафтан подсобит надеть, а только никого он в лицо даже не знает. Зато все знают его. А которые не знают, впервой видят – все равно с ним как приятели.
– Махонь! – позовет кто-нибудь из парной.
– Эге! – отзовется Махоня и насторожит ухо.
– Похлещи-кось, Махонь!..
– Похлещу, – спокойно отмолвит Махоня, не спеша встанет с лавки, выберет по руке веник, пойдет распаривать в котле. Отхлестав, вернется в предбанник – взмокший, рдяной от пара, с тяжелой одышкой, выпьет жбан квасу, снова усядется на лавку и непременно начнет поучать: – Поперек хребта не ходь веником: жги не будя! Погуляй перво промеж лопат да по хребту – жга и проймет, ажио до самых ребер!
– От твоих плеток жга небось до самых кишок пронимает?
– Се кому как! Кой по-зряшному страждет, тому лихо! Кой по заслуге – тому как с женкой на палатях!
Так и сечет Махоня спины: днем – веником, вечером – плетьми и розгами.
Вечером, лишь отслужат молебен в полках, бегут к нему наперегонки провинившиеся. Каждый старается прибежать первым: первого Махоня не сечет. Таков у него обычай. Не сечет он и последнего… Но последним быть непросто – тут уж как Бог даст.
Идут к нему и пехотные людишки, идут посошные, случается, и конный заработает розог, но совсем редко: конным в войске вольготье, не то что пехоте. Пехотные всегда терпят самые большие лишения, и дерут их почем зря из-за каждого пустяка: то по нужде сходят не там, где надо, то кусок хлеба припрячут на черный день, а десятский вытрусит, то тот же десятский застанет за игрой в кости – и за все розги! Храпишь ночью – розги, прозевал огонь под котлом – розги, отлучился не вовремя – розги. Не послушался с первого слова десятского или сотского – плети. За драку и брань меж собой – плети, а если мародерствуешь – и под палки поставят. Украл петуха или курицу – пять палок; украл поросенка или овцу – дюжину; а за барана и все две, да еще в уплату алтына три, которые положит казна, а за них, ежели не ляжешь животом на поле брани, отрабатывать надобно после похода.
Посошных секут реже – они вне войска: строгостей у них поменьше, и надзор за ними послабей. У посошного одно дело – подай или подвези. Не поспел вовремя – старшина съездит в зубы, и дело с концом. Каждый старшина бережет спины своих людишек: на посеченный горб много не взвалишь. А ежели еще Махоня погуляет – неделю к спине тряпье прикладывать нужно. Оттого и остерегаются посошные старшины слать под розги своих посошников, за великую провинность только отсылают к Махоне. Чаще попадают к нему ездовые: то коня перепоят, то овес утащат и на брагу сменяют или на колеса вовремя дегтю не положат… Заскрипит колесо – а остановиться боже упаси! – и старшина тут как тут и крутым матом да батагом через спину… А ежели не в духах, без мата и без батагов, смиренно, как праведник, скажет:
– Вечером-ка явись!..
Вечером, еще более не в духах, позабыв, кто в чем виноват, начинает допытывать явившихся:
– Чем винил?
– Колесо затер: дегтю не положил…
– Врешь, братец… А ежели и не врешь – все едино, чтоб поприглядистей был. Давай-ка лоб!
Поставит старшина мелком на лбу метку-чертку, всыпет Махоня за эту чертку дюжину розог. Две чертки – две дюжины. За три – три! Ежели поставят на лоб крест – получать плети. За один крест – полдюжины, за два – полную. Иного счета нет: исстари так уложено, и исстари неизменно все так и ведется. Десятские, и сотские, и тысяцкие, и головы стрелецкие, и даже воеводы – все метят провинившихся чертками и крестами.
Так и идут виновные к Махоне с мечеными лбами. А ему большого ума не надо: поглядит на лоб и отстегает ровно по метке. Шельмовать не шельмуют. Всякий метчик, старшина то, иль десятский, иль сам воевода, поставит метку и непременно скажет:
– Гляди, Бог шельму метит!
И каждый вспоминает сто раз слышанную, рассказанную и пересказанную притчу о шельмеце, которого Бог на всю жизнь отметил, и страшится стереть метку, и несет их к Махоне все, сколько бы ему их ни поставили.
Первого Махоня не сечет. Первый сидит при нем и подает ему розги, окатывает водой отсеченных, привязывает и отвязывает их от лавки. У Махони такой обычай… Не сдуру, не с блажи держится его Махоня. Ему всегда требуется помощник, вот и милует он первого, чтобы тот с охотой и старанием помогал ему.
10
Копейщик, у которого царь на смотре копье пробовал, поспел к Махоне первым. Бешено, как впервые взнузданный конь, мчался он. Три креста поставил ему тысяцкий. Только ноги могли спасти его от полутора дюжин Махониных плетей. Не встал бы он после них: не той он был силы, чтоб выдюжить такой бой, оттого и мчался как скаженный, обгоняя по дороге таких же, как и сам, надеющихся спастись от тяжелой Махониной руки.
Вскочил он в предбанник, где Махоня уже приготовился к своей немудреной работе, и повалился как мертвый, без единого звука, только брязнулся об пол своим изжелта-бледным лицом.
Махоня плеснул на него водой, посмыкал за бороду, попинал легонько в зад. Копейщик очнулся, показал Махоне лоб.
– Ох, мама кровная! – ужаснулся Махоня и присел перед ним на корточки. – Ну, подымась, подымась, – стал он ласково приговаривать и помогать копейщику подняться на ноги.
Копейщик поднялся, шатаясь, подошел к кадке с водой, бултыхнулся в нее головой.
– За что ж тебя так, родимай?
– За царя… – просипел копейщик.
– За которого-то быть царя?
– За нашего… батюшку Иван Васильча!
– Господи! – прошептал Махоня и перекрестился. – Что ты?..
– А ништо… Мы с ним – как с тобой… Погутарили про воинское дело… Копье он у меня… взял!.. Этак половчил в руке… и – в землю!
– Ты ж чаво?..
– А я ничего…
– Ишь ты! А плетки – пошто?
– Копье-то… не встрянуло!
– Ух, матерь кровная! – снова ужаснулся Махоня.
– Дык, теперь што? – радостно сказал копейщик. – Теперь ништо!
– Верноть, – согласился Махоня. – Бог тебя послал нонче первым, а первого я не секу.
Копейщик сел на лавку, откинулся головой к стене.
– Посидь, посидь, – сказал ему Махоня, – а я по нужде отойду. Како зайдут яшо, так и почнем.
Махоня вернулся с улицы, а в предбаннике уже сидело пятеро. Подпоясался Махоня красным кушаком, хлебнул квасу, потер ладонью меж жирных ягодиц и ласково поманил ближнего:
– Не бось, родимай! Розга, она что мать родная, сечет и ум дает!
Мужичок от страха не мог и кафтан с себя снять.
– Подсоби, – сказал Махоня копейщику.
Копейщик споро раздел мужика, уложил на лавку, пристегнул руки-ноги ремешками. Махоня неторопливо вынул из кадки розгу, протащил ее сквозь сжатую ладонь, покачал в воздухе, словно примеряясь, и без замаха, будто вполсилы, стеганул по напряженной, потной спине. Мужик даже дернуться не успел, но заорал так, что Махоня отступил в удивлении и заглянул ему в лицо.
– Больноть? – спросил он ласково.
– Дюжа… – простонал сквозь зубы мужик.
– Далей полегчей будя, – так же ласково сказал Махоня и снова полосонул через спину розгой.
…Пока он высек первых пятерых, явилось еще человек тридцать. Расселись по лавкам, угрюмо, безмолвно, как перед покойником. Изредка кто-нибудь вышепчет: «О, Господи Исусе Христе…» – торопливо перекрестится и опять уткнет бороду в кафтан.
Махоня лоснится от пота, хекает в каждый удар – надрывно, как стонет, с руки срываются при каждом ударе брызги пота и падают на иссеченную спину, въедаясь солью в багровые извивы.
Подошел к Махоне один с крестом на лбу – пот с бороды ручейком…
– Хочь перемена, – обрадовался Махоня, увидев крест. – Дай-кось мне плеть, – сказал он копейщику.
Тот подал ему плеть. Махоня стал разминать ее, подбадривая вконец потерявшегося мужика:
– Не бось, родимай! Плетка, она мягчей розги! Плетка рвет, а рваное быстрей гуится. Что ж ты укоил, что плети схлопотал?
– Коня загнал.
– Легко отделаешься, родимай, за грех такой великий! В раю будешь, помянешь Махоню добрым словом.
После трех ударов мужик запросился:
– Погодь, Махоня… Мочи нет.
– Чего ж годеть? – сказал ему ласково Махоня. – Эвон у меня яшо сколь страдальцев! До полуночи не управлюсь. И со счету ты меня сбил, родимай, – сокрушился Махоня. – Чтоб ни Богу в обиду, ни тебе, почну сызнова.
11
Басманов после вечернего осмотра войска, на который он ездил с Горенским и третьим воеводой молодым княжичем Оболенским, решил заглянуть к Махоне, посмотреть на его работу. Горенский подумал было отказаться и поехать выспаться перед завтрашним походом, но почему-то не посмел. Он чувствовал себя перед Басмановым как-то неуверенно – то ли оттого, что впервые шел вместе с ним в больших воеводах, то ли от страха перед ним. Исходила от Басманова какая-то сила, которой Горенский не понимал, но которую чувствовал на себе, чувствовал ее жестокость и властность, и потому не решился.
Махоня уже почти со всеми управился, когда приехали воеводы. Он сел отдохнуть, а чтоб не было перерыву, поставил вместо себя одного из оставшихся. Этот, поставленный Махоней к розгам, был сотским – на груди у него висела похожая на рыбий хвост медная бляха с вычеканенным на ней двуглавым орлом с коронами на головах и растопыренными крыльями. Махоня хоть и был простоват, а хитер – с умыслом выбрал себе замену: увидел на лбу у сотского два креста и решил оставить его напоследок, чтоб избавить по своему обычаю от плетей.
Сотский угрюмо взял розги и принялся сечь.
Был он космат, волосы росли у него даже на ушах, а со лба прорастали клином чуть ли не до самых бровей. У него и кресты были поставлены по разные стороны от этого клина. Широкое, скуластое лицо напряжено, будто он что-то закусил в зубах; из-под тяжелых бровей, вросших густой рыжиной в самые виски, светился большой, налитый кровью глаз и такое же большое, белое, как кресты на лбу, бельмо.
– Ох, аспид! – закричал после нескольких его ударов лежащий на лавке здоровенный, жилистый мужик. – Как ножом режет!
– Ну уж?.. – не поверил Махоня.
– Ей-бо!.. – прорычал мужик. – От тебя терпел… О-о! От сего вся мочь вышла!
– Щекотки не любишь? – осклабился Махоня. – Расхолен, как болярин.
– О-о! – еще вымученней рыкнул мужик и разразился отчаянным матом. Сотский невозмутимо полосовал его спину.
– Возьми ты, Махонь, – взмолился мужик.
– Пущай дощекочет! – весело и довольно ответил Махоня, уверенный, что мужик притворяется, и наставительно добавил: – Лозою в могилу не вгонишь…
Тут как раз и зашли в предбанник Басманов, Горенский и Оболенский. Махоня важно поднялся им навстречу, с достоинством поклонился. Остальные тоже поклонились. Сотский злобно глянул на воевод, отбросил сломавшуюся розгу, с неохотой опустил в поклоне голову.
Мужик на лавке продолжал яростно материться.
– Угомонься ты, – сказал ему Махоня и проворно отстегнул ремешки, державшие мужика на лавке.
Мужик тяжело поднялся, глухо сказал сотскому:
– Зверюга!
На воевод не обратил никакого внимания. Со стонами и охами принялся надевать на себя одежду, ненавистно поглядывая на своего мучителя и осыпая его проклятиями.
– Чем винил? – спросил мужика Басманов.
– Не винил, воевода…
– Пошто ж сечен?
– А чтоб знал наших!
– Врешь, поди?
– Да пошто мне врать? На лавке-то уже отлежал! Кабы винил, три дюжины схлопотал бы… А так – единую!
Говоря с мужиком, Басманов пристально наблюдал за сотским. Видел, как тот в сердцах отбросил розгу и злобно сверкнул своим страшным глазом. И страх, и отвращение шевельнулись в душе Басманова… Никогда еще не доводилось ему видеть в человеке такой мрачности и яростной, тупой злобы. Сойдись с ним Басманов один на один где-нибудь в укромном месте, не стал бы он зацеплять его, обошел бы, но сейчас ему даже дыхание перехватило от желания затронуть его…
– Чей сотский? – спросил он сурово.
– Нарядного головы Еремея Пойлова.
– За что плети?
– Голове в зубы съездил.
– Небось не вкушал еще плеток?! – сказал угрозливо Басманов. – А ну-ка, Махоня, попотчуй его! Да от меня добавь полдюжины, дабы знал длину рукам своим.
Сотский спокойно, неторопливо скинул кафтан, рубаху, поудобней улегся на лавке… Страха не выдавалось в нем, будто не под плети ложился, а в парной на полок, потомиться, понежиться…
Махоня старался угодить воеводам. Плеть свистела и с протяжным щелком прилипала к спине сотского. Тот молчал, ни звуком не выдавая своей ужасной муки. Последние удары Махоня делал с оттяжкой, резко забирая впивавшуюся в спину плеть на себя, и рвал кожу. Сотский вытерпел и это. Когда изморенный Махоня отступил от него, а копейщик дрожащими руками отпустил ремешки, он тотчас и поднялся. Бельмо его ненавистно уставилось на Басманова. Басманов отвернулся, отступил в темный угол.
– Хорош у царя воинник! – сказал ободряюще Горенский. – Терпелив! Како ж имя твое?
– Малюта… Скуратов.
6
Встреча – здесь: противоречие, возражение.
7
Прируб – придел, пристройка к основному строению.
8
Сведомый – опытный, знающий.
9
Шиш – лазутчик, шпион.
10
Посоха – подсобные при войске.
11
Зерцало – нагрудный доспех, обычно выполненный очень искусно и служивший также украшением.
12
Чалдар – доспех, защищающий грудь коня.
13
Зойк – стон, вскрик.
14
Димитрий – первый сын Ивана IV, умерший во младенчестве.
15
Кружало – кольцо, соответствующее размеру пушечного жерла. Этим кольцом промеряли ядра.
16
Крушное железо – перегар, хрупкое, не годное в дело.
17
Ямчуга – селитра.