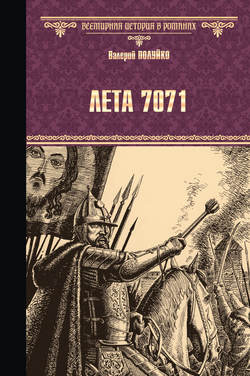Читать книгу Лета 7071 - Валерий Полуйко - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Книга первая. Взятие Полоцка
Глава шестая
Оглавление1
Смененный Курбским на воеводстве в Дерпте, боярин Челяднин по пути из Ливонии в Москву завернул в Великие Луки, куда прибыл из Можайска с войском царь.
Великие Луки были опорным городом – отсюда начинались походы на Ливонию, отсюда же решил выступить Иван и на Литву.
В Великих Луках войско делало последнюю большую остановку. Сюда свозились припасы, здесь воеводы окончательно приставлялись к полкам, здесь заканчивались и последние приготовления: дальше, за извилистой Ловатью, уже не было русских городов. Лишь на самом рубеже, в сорока верстах от Лук, стоял еще один небольшой крепостной городок – Невель. Но после нападения на него нынешним летом литовского гетмана Радзивилла, которого не смог ни одолеть, ни отогнать от его стен князь Курбский, городок этот был сильно разрушен, малолюден и годился только для короткого привала.
Ко дню приезда Челяднина войско уже переправилось через Ловать, ушли из города и воеводы. В отлогой прибрежной низине виднелись их разноцветные, нахохлившиеся, как куры на насесте, высокие шатры. В городе оставались лишь пушкари со своим нарядом, ожидавшие, когда для них наведут мост поверх непрочного речного льда, который мог подломиться под тяжестью пушек, да вся конная посоха. Город был забит санями, телегами, лошадьми… Лошадей было так много, что даже церкви в городе пропахли конюшней.
Давно не видел Челяднин такого – со времен казанских походов. Большую силу собрал царь… Догадывался Челяднин, что не одному Сигизмунду решил он доказать свою силу и умение воевать, но и своим боярам тоже, и, быть может, боярам больше, чем Сигизмунду.
В Луках царь поселился в небольшой церквушке Иоанна Крестителя. Жил в тесной келейке пономаря и никого, кроме Федьки с Васькой да архимандрита Чудовского монастыря Левкия, приехавшего к войску благословить ратников, к себе не допускал. С воеводами встречался в Разрядной избе, куда иногда заезжал после обедни, но чаще не заезжал. Зато к войску ездил по два раза на дню и, случалось, отстаивал и вечерню у походного алтаря вместе с каким-нибудь полком.
Челяднин встретился с царем в Разрядной избе. Сразу по приезде в Луки, еще не прознав всей сути, лишь выпытав у стрельцов на заставе, что царь живет в Иоанновской церкви, он направился было прямо к нему, но, пока переезжал из одного конца города на другой, воеводы узнали о его приезде и выслали ему навстречу молодого княжича Оболенского.
Оболенский встретил боярина, предупредил о царском затворничестве и не очень сдержанно, по молодости не умея скрыть своих чувств, посоветовал дожидаться царя в Разрядной избе.
Челяднин поначалу хотел было пренебречь советом молодого князя, но, видя его волнение и понимая, что он просит не только от себя, но также и от остальных воевод, повернул вместе с ним в Разрядную избу.
«В черном теле держит, – думал он об Иване, едучи в Разрядную избу. – Ужли так крут, что приблизиться страшатся? А келья? Пошто бы ему в ней хорониться? Грозу напустить и из хором можно».
Хотелось Челяднину разобраться кое в чем, осмыслить, понять поступки царя… Воеводы непременно жаловаться станут, совета спросят. Между собой уж, поди, все переговорили, обо всем обсоветовались, теперь на свежую голову накинутся. Накинутся, чувствовал Челяднин, по Оболенскому видел. Верно, много страху и растерянности нагнал на них этот тайно подготовленный царем поход. Думали небось в запале и на радостях, расстроив ему дело весной, что не скоро ему собраться с духом – не на соколиную же охоту выезд… Теперь, видать, ахнули, да уж поздно! Перехитрил их царь.
«Не занимать ему у вас ума, не занимать!» – думал Челяднин с невольным злорадством, сам не зная и не понимая, откуда в нем это злорадство. Много обиды на царя таилось в его душе, но всегда, как бы жестоко и несправедливо ни обходился с ним Иван, всегда он чувствовал, как сквозь все его злобствования и обиды пробивается невольная, смущающая его гордость за царя. Не хотел он ее, стыдился и никогда никому не признался бы в этом своем чувстве к царю, но задавить его в себе не мог. Оно жило в нем, мучило, как какой-то тайный грех или наваждение, подтачивало в нем его собственную гордость и волю. И сейчас опять выползло из какого-то укромного уголка…
Чем больше думал Челяднин об Иване, тем сильней раздражался против бояр. Хотя и мало он знал, живя в отдалении, про всякие их хитрости и претыкания, но и то, что знал, что доходило до него, убеждало его в их неумности, наивности, а главное, в бесполезности всего того, что затеяли они в надежде осмирить царя. «С мальчонкой не совладали, чего уж теперь пыжиться? Теперь его не обручить! Теперь и у него сила есть… И хитрости – куда вам всем! Поди, уж пошло по Руси, что царь, как старец, в келейке живет… И христолюбив, и праведен! Народ такого царя любит! А вы, бояре?! Вы толстосумы, праздни и обжоры! Лишь укажи он на вас сему народу – что от вас останется?»
Вспомнился ему Курбский. Прибыв в Дерпт, князь Андрей рассказывал ему:
– Вся Русь на царя молится! Весь черный люд на него как на радельца своего глядит. На заступника! От нас, бояр! Говорил он с ними однажды в Москве, на торгу, с Лобного места… Двенадцать уж лет прошло, а помнят! Мальцам вместо сказок рассказывают, как выходил к ним царь-батюшка на говурю! По всем весям шепчутся… Часа ждут, когда он силы наберет и их от бояр оборонит!
Дивно было Курбскому. Впервые он ехал по Руси через ямы[46] и впервые услышал это… Он же, Челяднин, за десять лет беспрестанных переездов понаслышался такого, что завязывай глаза и беги на край света! Рассказал бы он боярам, что каждый мужик на Руси на них нож наточил, – так не поверят, смеяться учнут. Неколебима в них вера в смиренность русского мужика. Видят они его преклоненного, с покорной головой и не ведают, что он злобу свою от них прячет, а не почтение блюдет.
«Э-хе-хе, боярушки, – уныло думает Челяднин. – Вам бы бороды остричь – полегче б головами стало вертеть… Повертелись бы вы, поозирались, буде, и узрели бы, какое на вас надвигается?! Держали вы Русь под собой, как лед реку, а половодье-то всякий лед крушит! Мужик, буде, и не напустит на вас ножа, ежели царь не натравит, а уж поместные[47] праздник свой справят за вашим столом. Ибо где им взять свою долю, как не у вас вырвать? И он отдаст им вашу долю! И они станут ему служить за нее так, как никогда не служили вам ваши холопы!»
Выболелся он уже весь от этих мыслей: не в первый раз приходят они к нему. И ничего на душе, кроме уныния. Посмеется лишь над собой, что и сам ведь – боярин, такой же, как все, и, не выдвори его царь из Москвы, не потаскайся он по Руси, не посмотри, не послушай, ничего бы он этого не знал, и не было бы в нем этих мыслей… Может, и лучше было бы?!
…Улочка, по которой с трудом протискивались сани Челяднина, наконец выбилась к площади. Площадь была грязная, изнавоженная, истыканная коновязями, возле коновязей кучи соломы, черные вытаины от костров… Поодаль, на взгорке, – купольная часовенка, возле нее черными рядами, как гробы, – пушки. Пушек много: впереди, в двух рядах, – большие стенобитные да шесть рядов малых. Среди больших стенобитных знаменитые еще по Казанскому походу – «Медведь», «Единорог» и «Орел». При осаде Казани эти три пушки за один день боя снесли до основания сто саженей городской стены. Тут же и огромная «Кашпирова пушка», способная стрелять ядрами в двадцать пудов весом. Отлил ее лет десять назад на московском Пушечном дворе взятый на службу Иваном немецкий мастер Кашпир Ганусов. Рядом с «Кашпировой пушкой» другая, немного поменьше – «Павлин». Ее отлил вслед за Кашпиром Ганусовым русский мастер Степан Петров. У «Павлина» ядра – в пятнадцать пудов.
После отливки оба эти орудия были установлены на торговой площади, на двух главных городских раскатах: «Павлин» – на Покровском, близ собора, «Кашпирова пушка» – на Никольском. С тех пор их ни разу не снимали с раскатов, но теперь пришел и их черед.
Челяднин не смог пересчитать пушки – на глаз только прикинул, подумал: «Велик наряд! До сотни, поди… Не иначе как на Полоцк нацелился. Умен, умен… Возьмет Полоцк – до самой Вильны путь открыт. Всполошатся паны-рада! Мира запросят! Даст он им мир, а своим на хвост наступит… Да так, что и не шевельнутся».
Да площади вертелось с десяток всадников. Лошади под ними были горячи, всадники с трудом сдерживали их.
– Татаровя, – склонившись с седла, сказал Челяднину Оболенский. – Тот, в лисьем башлыке, – царь Касаевич, казанин… А на соловых – царевичи… Бек Булат, Кайбула и Ибак. Царя стерегут. Тенью при нем…
– Пошто ж так? – удивился Челяднин.
– Поди пойми – пошто? – еще ниже склонившись, тихо сказал Оболенский. – От нас щитится!
– От страху?..
– От презренья! А более всего… – Оболенский совсем сполз с седла, приткнулся чуть ли не к самому лицу Челяднина: – Я ин гадаю – злохитрствует. Чтоб повинить нас, будто и жил с нами с опаской. Да и воинникам, и черному люду посошному показать: вот, деи, каки у меня бояре – страшусь перед ними за живот свой.
– Пустое, князь, – усмехнулся Челяднин. – Честью одаривает татар царь. Они честь любят не меньше нашего.
– Велика ли честь?.. Сворней по каждому следу! В Разрядную же избу один Касаевич вхож. А царевичам – не велено.
– По их же обычаям и не велено. У них при царе даже мурзы и бей в пороге сидят.
– Ужли и нам при нашем царе в пороге сидеть? Не то ли тщишься сказать, боярин?
– Тебе бы, княжич, вовсе не думать о таковом, – сказал спокойно Челяднин и дружелюбно посмотрел на Оболенского. – Службы ищи, дела высокого!
– Я службы не гнушаюсь, боярин. На мне бехтерцы[48], а не праздный кафтан! Но ни деды мои, ни отцы у московских государей под порогом не сиживали, и мне не пристало иметь сие за честь.
– Ни у дедов твоих, ни у отцов добрых холопов в услужении не было, – сказал ему Челяднин с грубоватой строгостью, – а у него цари и царевичи, сам речешь, тенью при нем!
– Эк цари! – не то удивился, не то растерялся от такой неожиданной и обидной прямоты Челяднина Оболенский. – Татаровя!
– Татаровя?! – насмешливо повторил Челяднин. – Твои деды, да и его, к сей татарове на поклон три века ездили сапоги у них лобызали… А они у него на своре, как борзые!
– Дивно от тебя такое слышать, боярин, – сказал с укоризной Оболенский. – В нашем роду вельми чтят твой род, а тебя почитают особым почтением – да все лиха твои… Не от Бога они!
– Горе мне, коли токмо за лиха почитают меня, – обронил Челяднин.
– Не от Бога они! – настойчиво повторил Оболенский.
– Все от Бога, – сказал спокойно Челяднин.
Его спокойствие, видать, сильней всего и обидело Оболенского. Он насупился и до самой Разрядной избы больше не заговаривал.
2
Разрядная изба стояла в дальнем конце площади, у начала широкой и длинной улицы, за избами которой виднелся высокий остроконечный восьмерик деревянной церкви, где отстаивали обедни, заутрени и вечерни воеводы. В прошлый поход бывал в этой церкви на службах вместе с воеводами и царь, теперь для него служили в Иоанновской церкви. Служил Левкий, к которому с недавних пор почему-то стал благоволеть Иван. Чем-то подкупил его ожесточившуюся душу этот хитрющий и ловкий в любых делах чернец: то ли своей прошлой враждой к Сильвестру, то ли своей преданностью иосифлянам, потому что Иван больше всего любил в людях преданность, а может, плутовством и разгульностью, которыми тоже славился чудовский архимандрит. Даже духовника своего – протопопа Андрея – не взял Иван с собой в поход, а Левкия, приехавшего в Великие Луки нежданно-негаданно, допустил к себе, и так близко, как когда-то допускал только Сильвестра.
У Разрядной избы двое рынд кинулись встречать Челяднина. Раскутали его из шуб, помогли выбраться из саней.
На крыльце, закинув за упертые в бока руки длинные полы шубы, стоял князь Серебряный. Лицо его сияло, как и алый, с золотыми шнурками, кафтан, выставленный из-под шубы… Он медленно сошел по ступеням вниз, распахнул руки, громко сказал:
– Здравствуй-ста, мил боярин! Снова Бог шлет тебя в мои объятья!
– Жалуй, жалуй, Петр-князь, – сдержанно проговорил Челяднин, но глаза его заискрились. – От добрых встреч я поотвык, а от худых старался быть подале.
– Облобызаемся, мил боярин!
Серебряный обнял Челяднина, троекратно поцеловал и, отступив на шаг, вдруг истово перекрестил его.
– Пошто ин крестишь меня, как нечистого? – подивился Челяднин.
– Чтоб напасти все сошли и отступились от тебя лиха!
– Эвон! Я, грешным делом, подумал – от меня открещиваешься. Племянник твой полдороги роптал на меня, – глянув на Оболенского, шутливо пожаловался Челяднин и рассмеялся.
Серебряный резанул племянника быстрым взглядом, сказал с пренебрежением:
– Под носом взошло, а в голове и не засеяно!
Оболенский побледнел, остановившиеся глаза заволоклись слезами. Челяднину стало жалко молодого княжича, которого родовые обычаи заставляли стерпеть даже такую обиду.
– Терпи, княжич, – сказал он ему ободряюще. – Настанет и твое время! Будут еще дядья пред тобой заискивать… Вот и помянешь тогда им… красный кафтан и черную обиду.
Оболенский вымученно улыбнулся – одними губами, а глаза напряг еще сильней, боясь сморгнуть с них навернувшиеся слезы.
– А неужто никак не к лицу мне кафтан? – сощурился Серебряный.
– В кольчуге иль в куяке, поди, поприглядней было бы! – ответил Челяднин.
– Кольчуга – на брань, кафтан – на пир! Нынче вечером в твою честь, боярин, князь Володимер пир устраивает. Попристанет и тебе кафтан с аламою[49] надеть.
– Великой честью дарит меня князь, – нахмурился Челяднин. – Да токмо не пировать заехал я сюда. Царю поклониться – и на Москву. Путь долог.
– Сие пред его ушами ты изречешь, боярин, коли станет тебе охота, а мне да князю Пронскому, который в избе дожидается, велено звать тебя на пир добром и милостью.
– Экая суета, Петр-князь, – вздохнул Челяднин. – Тебя, что ль, уважить? Кафтан твой пожалеть?
Серебряный с недоумевающей растерянностью посмотрел на Челяднина, к чему-то огладил ладонью бороду и враз посуровел, будто собрал в горсть всю веселость со своего лица.
– Ну, веди в избу, – заметив недоумение на лице Серебряного и желая прервать этот разговор, озабоченно и поспешно сказал Челяднин.
– Пожалуй, боярин! – повел рукой Серебряный и невольно встретился взглядом с Оболенским. Тот злорадно усмехнулся. Теперь приспело ему торжествовать. Но Серебряный не заметил злорадства своего племянника – не до этого ему стало. Мысли его завертелись, завертелись… Вспомнилась последняя встреча с Челядниным – в Смоленске, лет пять назад… Не таким был тогда боярин! И речи не такие говорил! «Неужто укатали царские горки?» – думал с тоской Серебряный, поднимаясь вслед за Челядниным на крыльцо.
Сзади торжествующе топал Оболенский. Серебряный приостановился, обернулся к нему, глухо сказал:
– Останься, княжич… Царь подъезжать станет – известишь.
В темных сенях Челяднин споткнулся о порожец, чуть не упал, досадливо сказал Серебряному:
– Как тут царь ходит?!
– Ему мы светим, – ответил Серебряный и, отстранив Челяднина, стал искать на двери скобу.
Тяжелая, разбухшая дверь, обитая рогожей, натужно чвакнула, отворяясь. Густая, пахнущая потом, воском, дубленой кожей и березовыми дровами теплота дохнула на Челяднина из широкого дверного проема.
Челяднин переступил высокий порог, поклонился:
– Мир вам и лад, бояре и воеводы! Коли ждали меня – благодарствую!.. Коли нет – милуйте за незванность!
Наперед выступил Пронский.
– Поклон тебе от всех нас, боярин! – сказал он важно и так же важно поклонился. – Князь Володимер також кланяется тебе и зовет нынче к столу своему – на первое место.
– От чести и цари не отказываются, – сказал спокойно Челяднин, в полупоклоне приложа к груди руку. – Петр-князь оповестил меня про сие и кафтан повелел переодеть. Негоже, поди, в стеганине на первом месте сидеть?!
– Честь не по одежке идет! – с надменным ехидством выговорил Пронский и выпятил от самодовольства губы.
Челяднин сообразил, в кого он метил… Все воеводы были принаряжены, и сам Пронский был в дорогом кафтане, но нарочитой, бросающейся в глаза пышностью никто не выделялся. Лишь на Алексее Басманове поверх светлого суконного кафтана, который очень молодил его и красил, был надет богатый бархатный охабень с высоким стоячим воротом, сшитым голубым шелком и тонкой серебряной вителью[50]. Этот-то охабень Басманова, видать, сильней всего и раздразнивал Пронского, да и не одного его… Челяднин увидел, как довольно осклабились от слов Пронского и Щенятев, и Шуйский…
«Э, воевода, да ты тут воробчиком на сорочьей свадьбе!» – подумал про Басманова Челяднин и сам поначалу не заметил, что подумал без неприязни, а, скорее, с сочувствием.
Басманов, казалось, не замечал ни насмешек, ни косых взглядов – сидел невозмутимый и даже менее обычного насупленный; глаза его вцепились в Челяднина, но в них не было ни настороженности, ни пристальности – только любопытство.
Челяднин оглядел избу. Слева, меж двух пристенков, стояла большая печь, украшенная изразцами с изображением всадников и пушкарей, палящих из пушек, под печью куча дров, лохань с талым снегом, подставленная под поддувало. Оттуда то и дело выкатывались раскаленные угли и падали в лохань, выжигая в густой снежной жиже черные лунки. У печи рынды ладили масляный фонарь, готовясь встречать в темных сенях царя.
За печью все место – саженей пять вдоль да столько же поперек – занимала горница с двумя окошками по одной стене и тремя – по другой. Окошки были маленькие, затянутые провощенным бычьим пузырем, света пропускали мало – по стенам, в светцах[51], горели лучины.
В горнице было тепло, но все тупились к печке, только Басманов сидел отдельно, да Горенский за самым столом рассматривал трехаршинный Большой чертеж[52], составленный в Разрядном приказе по повелению царя еще к первому походу в Ливонию.
Челяднин мало знал Горенского: в его время тот не был даже окольничим и ни к каким думным делам не был причастен. Да и помимо Горенского в избе сидело несколько воевод, которых Челяднин вовсе не знал либо знал только понаслышке. Все они выдвинулись и посели на боярских и воеводских местах уже после того, как он был отставлен царем от управления думой и выпровожен из Москвы. Всем им немного было дела до него – ни радость, ни огорчения его приезд им не принес, – лишь любопытство светилось в их глазах. Хотелось поглядеть на знаменитого опальника, про которого всяк, знавший его, неизменно говорил что-нибудь необыкновенное, и всегда шепотком, с оглядкой, с утайкой и таким видом, будто больше оберегал его, чем себя.
Пронский, заметив, что Челяднин перестал слушать его, с обидой отступил от него и нарочно громко, чтоб показать ему свою обиду, сказал:
– Тут все други твои и приятели, боярин! А кто честью не дарен знать тебя, тех я тебе назову. Воевода Морозов!..
– Не трудись про меня говорить, князь Пронский, – смущенно вымолвил Морозов и поднялся с лавки. – Ведом я боярину… Год целый под ним в Смоленске был… Вторым воеводой. Здравия тебе, Иван Петрович! – поклонился Морозов. – С доброй дорогой и с честью тебя!
– Здравствуй, воевода, – ответил Челяднин. – Спасибо за доброе слово… Токмо дорога не добра, а честь не велика!
Серебряный, все это время стоявший позади Челяднина, негодующе хмыкнул. Откинув за спину полы шубы, он прошелся по горнице, приковав к себе взгляды, и стал у окна, принявшись внимательно смотреть в него, будто и вправду мог что-то увидеть сквозь его мутную, слегка прозрачную паволочень.
– Смоленские полки привел на подмогу, воевода? – спросил у Морозова Челяднин. – А на кого же Смоленск оставил?
– В Смоленске Шеремет-меньшой…
– А большого почто нет с вами?
– Стар воевода, – неохотно ответил Пронский. – Хворобы одолели. А про Воротынского, поди, ведаешь? – тяжело добавил он.
– И про Бельского, и про Воротынского… Князь Курбский мне в Дерпте поведал.
На минуту установилось тяжелое молчание.
– Воеводу Бутурлина уж не ведаешь точно. Вот он – воевода Бутурлин! – указал Пронский на жидкобородого толстяка. – Стратиг сведомый и хитрый, как хорь! На Успенье[53] боярином стал.
Бутурлин поднялся с лавки, поклонился Челяднину.
– Токмаков, князь звенигородский! – указал на другого воеводу Пронский.
– Слыхал о тебе много славного, князь, – сказал Челяднин Токмакову. – Не по старческой докучливости, по удивлению хочу спросить: ужли сам, своими руками, старого магистра ливонского Фюрстенберга полонил?
– Кабы князь Курбский Феллина приступом не взял, како бы мне до магистра достать?
– Однако ж и ланд-маршал Филипп Белль был тобою взят! Рекут отменно храбр был маршал?
– Филипп Белль был первейший в Ливонии рыцарь, – спокойно сказал Токмаков. – И храбрости сатанинской! С пятью сотнями латников кинулся он на меня да на князя Барбашина, а у нас с князем двенадцать тысяч ратников. Хоть и врасплох напал на нас, да одолели мы его легко.
– Во всякой земле не без героя, – проговорил раздумчиво Челяднин. – Помнишь, Петр-князь, – обратился он к Серебряному, – казанского царевича Япанчу? Как дерзко он бился с нами! Из Казани ушел, чтоб покоя нам не давать! Сидит в засеке в лесу и ждет: явится на самой высокой градской веже знамя, и вот он уже скачет на наши полки, а из города – також… Отворят ворота, вывалят тысячей – и пошла резня. Япанча с одной стороны, казанцы с другой. Не погроми ты тогда, Петр-князь, Япанчу, гляди, и не добыли б мы Казани.
– Ужли удача Серебряного, а не воля и мудрость царя скорили нам царство татар? – неожиданно спросил молчавший досель Басманов.
Серебряный не очень внимательно слушал Челяднина, и только после вопроса Басманова до него дошло все сказанное Челядниным, особенно последнее. Ничего более страшного и опасного и сказать было нельзя! Челяднин, видимо, и сам сообразил, что сказал лишнее, но вопрос Басманова не застал его врасплох.
– Ежели ты, воевода, в чем-то усомняешься, спроси про сие самого царя, – невозмутимо ответил Челяднин и опять почувствовал, что вместо злости на Басманова в него невольно закрадывается сочувствие и жалость к нему. «Лихо тебе небось, воевода, – подумал он о нем. – От бояр оттакнулся и к царю пути не сыскал. А веди умен же ты… И в ратном деле искусен. Искал бы себе славу на поле брани, а не в царских покоях».
Пронский закусил губу и тупо смотрел куда-то в сторону: от презрения к Басманову он не мог даже обозлиться на него или позлорадствовать, как другие. После стычки с ним в Можайске, где Басманов принудил его перековать триста дюжин ядер, Пронский отказывал ему даже в ненависти. Он не замечал его и вел себя так, будто того вовсе не было – никогда: ни сейчас, ни в прошлом, ни живого, ни мертвого.
– Продолжи, князь, – мягко сказал Челяднин Пронскому. – Зрю, не всех ты назвал мне. И прости, что перебил тебя, неуместным отвлекшись. Воевода Токмаков винен в том: уж больно много славных дел сотворил он, чтоб не подивиться ему!
– Окольничий Хлызнев, из рода Колычевых! – кивнул Пронский на молодого, статного, красивого воеводу, во все глаза глядевшего на Челяднина. – В нынешнем разряде идет тысяцким государева полка.
Хлызнев встал – напрягшийся, бледный от волнения, – истово, как праведнику, поклонился Челяднину.
Челяднин давно заметил его волнение и его благоговейный взгляд, которым он смотрел на него. Знал Челяднин, как строптив был и непокорен великокняжеской власти род Колычевых. Немногие убереглись в нем от опал и казней. «И сей, поди ж ты, тоже напитан противой, как криничный песок водой, – подумал он про Хлызнева. – Поклон мне отдал, как великомученику. И ликует, поди, что душу свою причастил злом на царя. Ну, ликуйте, ликуйте, боярчата, щерьте зубы!.. Достоин он и вашей злобы, и вашей ненависти, да вы не достойны его. Крещены вы в разных купелях, и подле вашей стоял лише Бог, а подле его – и дьявол. Все в нем свято и все грешно. Захватил он Русь за хребет, клыками захватил, – иль сломит, иль кровью захлебнется! Мне бы лишь не дожить до часа того! Не зреть вавилонской жути, не зреть и его отчаянья, коли и Бог, и дьявол отступятся от него».
Хлызнев, поклонившись Челяднину, торопливо опустился на лавку и больше не поднимал на него век, зато тяжелые глаза Пронского, будто пригвожденные к лицу блестящими остриями зрачков, нет-нет и окатывали Челяднина холодом, или вдруг вскидывались от удивления, или жухли от горечи и разочарования. Понимал ли Челяднин, что творилось в душе Пронского, чувствовал ли в себе неожиданные перемены, когда видел его удивление, и сознавал ли свое отступничество от прежнего, встречая разочарованный и осуждающий взгляд Пронского? Нет, не до этого было сейчас Челяднину. Все время, с той самой поры, когда за ним затворились ворота Дерпта и ямщик хлестанул лошадей, он жил лишь одним – ожиданием Москвы. Все другое – заботы, дела, обиды, горести, все былое и все настоящее – заслонило от него, как стеной, это ожидание. Мысли его смешались, как будто кто-то запустил в его голову руку и орудовал там, как в горшке с квашней. Но ведь и мысли его были совсем не такими, как прежде. И настроение тоже было иным: не только радость вез он в Москву в своей истосковавшейся душе, но и свою надломленность, усталость, разочарование… И Пронский, и Серебряный сразу разглядели в нем это и не замедлили показать ему свое неудовольствие. Да он и сам понимал, что огорчает своих старых приятелей. Не таким они привыкли видеть и знать его и не такого ожидали от него. Надеялись небось, что он, лишь выйдя из саней, станет принародно обличать и проклинать царя за свои и чужие лиха, станет противиться и дерзить ему еще пуще, чем прежде, а они за его спиной будут довольно оглаживать бороды и тайно ставить свечки святым угодникам, чтобы уберегли они их от царских опал. Пусть даже и не ждали они от него ничего такого, все равно его приезд был для них торжеством: не только оттого, что царь сдался и без просьб о милости снял с него опалу, но больше оттого, что в их стане опять появился человек, которому они единодушно отдавали первенство во всем и вокруг которого так же единодушно сплотились бы на борьбу против самовластного и строптивого царя. И разочарование в нем было для них не только разочарованием в своих надеждах – его отступничество или смирение было для них тягостным и жутким предзнаменованием безуспешности этой борьбы.
Может быть, Пронский с Серебряным так, с маху, и не сочли Челяднина отступником, но что он им не понравился – они от него не скрывали. Правда, Пронский был не так откровенен, как Серебряный, – сдерживал себя боярин, не торопился судить Челяднина: скорый суд – неправый суд, а Серебряный был горяч, возмутилась его душа, и вот он уже перед всеми выставил свое возмущение, и как ни старался Челяднин не обращать внимания на Серебряного, на это его показное стояние у окна, все-таки не смог этого сделать. Всей своей жизнью, каждым годом и часом, проведенным в изгнании, он мог бы оправдаться перед своей совестью, но он захотел оправдаться и перед Серебряным, даже не оправдаться – защититься, потому что чувствовать к себе презрение всегда мучительно – заслужено оно или нет.
– Петр-князь! – окликнул он Серебряного. – Уж не тщишься ли ты высмотреть в окне дьявола, которому я запродал свою душу?
Серебряный не успел ответить. В избу вбежал Оболенский и даже не прошептал, а лишь прошевелил губами:
– Царь!
Рынды бросились с фонарем в сени – и не успели. Иван вынырнул из темноты сеней, как из мутной воды. За ним царь Касаевич, Федька Басманов, Васька Грязной…
Воеводы подхватились с лавок, замерли в поклоне. Иван был весел, глазаст… В простой стеганой ферязи, в длинноухой беличьей шапке, в грубых сыромятных сапогах, с плеткой в руке – он был похож на ямщика, молодого, разорного, прогнавшего с маху верст десять по студеному ветру и зашедшего в избу хватить тепла.
Стал, качнулся на упругих, раскоряченных ногах, брезгливо потянул носом.
– Ай загнили, воеводы? – сказал он весело, с издевкой. – Затохоль в нос шибает. Басман, отвори дверь!
Федька ударил в дверь ногой, вышиб ее в темноту сеней. Из-за порога вывалились белые лохмы пара, упали к ногам Ивана, истаяли на черном полу.
Иван поиграл плеткой, обкосил горницу – в глазах смех, на впалых щеках остывающий румянец.
– Не стой сзади! – вдруг свирепо вскрикнул он и, резко обернувшись, хлестанул Федьку плеткой.
Федька без звука убрался в угол. За спиной Ивана осталась холодная пустота сеней. Он кинул плеть Грязному, расстегнул на груди ферязь. Из-под нее, на черном сукне душегреи, блестящими каплями сверкнула серебряная цепь креста.
– Живы, воеводы, здравы? – Он опять обкосил горницу. – Пошто в теми сидите, как мыши? Дать свечей!
Писцы засуетились, затрещали лучинами; рынды откуда-то добыли шандал с полуисплавившимися свечами, понесли его на стол. Поставили прямо на чертеж, выхватили из светца лучину, подожгли свечи. Стало светлей.
Иван увидел Челяднина, удивился:
– Тебя ли зрю, боярин? Уж не чудится ль мне?..
– Так и есть, се я, государь… Слуга и опальник твой, Иванец Челяднин-Федоров. Из Дерпта на поклон к тебе завернул… И в Москву – по твоему ведению.
Иван шагнул к Челяднину, притянул его голову к себе, долгим поцелуем прижался к его лбу.
– Прости! – откинувшись, прошептал он и поклонился Челяднину: из-под расстегнутой ферязи выскользнул крест, болтнулся, ударил его по коленкам. – И молодостью оправдываюсь, и неразумием.
– Государь!.. – напуганный и пораженный, отступил от Ивана Челяднин. – Разве не Бог над нами – горний судия?! Суд царев, а воля Божья! Пошто смущаешь такой смутой и мою, и свою душу?
– Истинно речешь, боярин. Один Бог над нами судия! И кто Богу не винен – царю не виноват!
Как-то сразу посуровев, Иван отошел от Челяднина к столу, задумался… Рука его легла на чертеж, медленно поползла по нему. Стоявшие у стола Алексей Басманов и Горенский напряженно следили за его рукой, ожидая, когда она остановится. Где остановилась бы рука Ивана, туда и двинулись бы полки из Великих Лук. Но Иван вдруг отдернул руку, словно обжегшись. Горенский от неожиданности вспрянул плечами. Иван свирепо глянул на него, не разжимая зубов, процедил:
– Место царю Симеону Касаевичу!
Горенский попятился назад… Иван проводил его взглядом до самой стены и будто пригвоздил к ней своими глазами.
– Не так уж мы велики, чтоб у нас цари под печкой стаивали! Сядь, Симеон-царь… Тут твое место. Будем с тобой думать и воевод моих просужих[54] расслушивати.
Симеон Касаевич отошел от печки, откинул на спину свой башлык, поклонился Ивану, молча, спокойно сел, положив маленькие красноватые руки на край стола.
– Ну а что князь Андрей? – будто забыв, о чем только что говорил, спросил у Челяднина Иван. – Пошто не поведаешь мне про любимого моего?
– Здрав и бодр князь Андрей.
– Вступил на наместничество с тоской иль с радостью?
– Служба тебе всегда была в радость князю. Сие ты, должно, и без меня ведаешь.
Иван сел на лавку, мельком глянул на воевод, посъежившихся от холода, с усмешкой сказал:
– Затвори, Васька, дверь. Перемерзнут воеводы – не с кем станет в поход идти.
Он снял свою длинноухую шапку, положил ее на лавку. Плечи его устало опустились.
– Чел я ныне в ночь, – заговорил он глухо, затягивая слова, отчего речь его казалась даже скорбной, – и перечел трижды сказание о князьях наших великих володимерских. И преисполнилась душа моя гордостью, воеводы, пред величием предков наших… Помните, воеводы, как писано там: егда сед в Киеве на великое княжение князь Володимер Мономах и начал совет творити со князи своими, и с бояры, и с вельможи, слово тако рече: «Князь великий Олег ходил и взял со Царяграда велию дань на вся воя своя[55], и потом великий князь Всеслав Игоревич ходил и взял на Константине граде тяжчайшую дань…»
Иван вдруг смолк. Воеводы вытянули шеи… Симеон Касаевич, ничего не понявший из сказанного Иваном, еще пристальней вперил в него свои поблескивающие щелки и от усердия открыл рот.
Иван обметнул воевод испытывающим взглядом, лукаво спросил:
– Кто продолжит, воеводы?
Воеводы враз втянули шеи, завертели глазами, поглядывая друг на друга так, словно каждый уступал другому честь говорить первым.
– Не почитаете вы, бояре и воеводы, книг, – с издевкой протянул Иван. – А веди еще в Изборнике великого нашего князя Святослава речено: «Добро есть, братие, почитанье книжное, паче всякому христианину. Красота воину – оружие, а кораблю – ветрила, тако и человеку почитанье книжное!»
– Хе!.. – ощерился из угла Федька Басманов. – Пронскому крест на грамоте в тягость, а ты ему про книги!
Пронский ожесточенно сопнул, словно старался втянуть в себя весь воздух, который был в горнице.
– Такое лише от тебя могу терпеть, государь, – надрывно выдавил он.
– Вот и внемли сему так, будто я тебя укорил, – хохотнул Иван. – Симеон Касаевич – татарин, а русской грамоте выучен.
Симеон Касаевич закрыл рот, а щелки его глаз стали еще у́же – он смеялся. Иван тяжело посмотрел на его веселый прищур, жестко сказал:
– Татарин смеется над тобой, Пронский! Эх! – выстонал он истомно и крикнул: – Сгинь с моих глаз!
Пронский метушливо хапнул с лавки свою шубу, уронил, снова хапнул и, не надевая, потащил за дверь.
– Так что ж, бояре и воеводы, – враз успокоившись, спросил Иван, – никто не продолжит?
– Велишь, так я продолжу, – сказал Челяднин.
– Велю!
– Великий князь Володимер Мономах споведал своим князьям, и боярам, и воеводам, что дело прародителей своих и отца своего Всеволода Ярославича продолжить тщится, и вопросил у них: «Каков мне совет воздаете?»
– Истинно, боярин! Радуюсь тебе! Продолжай далее, ежели помнишь.
Челяднин продолжил:
– И ответили великому князю Володимеру Всеволодовичу князья, и бояре его, и воеводы, изрекши так: «Сердце царево в руце божий, яко есть писано, а мы есмя вси рабы твои под твоею властию!»
– Сердце царево в руце божий! – вскочив с лавки, громко повторил Иван и метнулся вдоль стола, чуть не загасив свечи в шандале. – А мы есмя вси рабы твои под твоею властию! Вот, бояре и воеводы, чем сильны и могутни были наши предки… Купностью и согласием! Вы же речете мне: «Веруем в веру, юже предаша нам отцы наши», – и противитесь мне! В думе вопите юродных пуще, воззывая укротить меня святым крестом!
Иван встал за спиной Касаевича, положил ему руки на плечи, губы его злобно подергивались…
– Укорительные и гневные послания шлют обо мне, царь, чернцам убогим по монастырям и скитам… О кривине суда царского печалуются, о поругании невинных! Кары Божьей на меня просят!
– Башка долой надо, – сморщив лоб, сказал Касаевич.
– Я же терплю, царь, не гоню их прочь с глаз моих… Разве самых никчемных… Совокупляю их и реку по обычаю прародителей моих: «Каков мне совет воздаете?»
Иван помолчал, пережидая приступ злобы, поспокойней спросил:
– Каков же совет вы мне воздаете, бояре и воеводы?
– Да надобен ли тебе наш совет? – вопросом на вопрос ответил Шуйский. – Сдается нам, государь, что ты давно уже все сам порешил и не нуждаешься в наших советах.
– Порешил, – резко сказал Иван и как будто что-то оборвал, убил в себе. – Завтра от заутрени выступаем. На Полоцк! С Большим полком пойдет Басманов… со мной и князем Володимером. При нас воеводы Бутурлин и Морозов – со смоленской ратью! – Иван приостановился, нашел глазами Серебряного, жестко сказал ему: – Ты, Серебряный, пойдешь левой рукой[56]. При тебе дружина князя Володимера – с Пронским. Правой рукой пойдет Шуйский. При нем Щенятев. Передовой – тебе, Токмак. Вторым воеводой возьми Оболенского. С тобой татары и черкесы. Но ты им не указ: их Симеон ведет с царевичами. Татарам на приступе не стоять. От Невеля выпущу их в набег.
– Карашо погуляю! – сморщился Касаевич.
– Под тебя, Горенский, сторожевой отдаю!
Горенский на радостях от такой чести подобострастно поклонился Ивану.
– Басманов добро про тебя говорил, – приняв поклон Горенского, мягко сказал ему Иван. – Изведаю сам: Басманов мне не порука! Нерадивости не оставлю… Никому! Слышите, воеводы?! – Глаза его встретились с глазами Челяднина. – А тебе, боярин, – в Москву! Ведать тебе Казенным двором.
3
На пир к князю Владимиру Челяднин приехал, когда уже втрете обнесли пирогами. Князь сам вышел из-за стола к нему навстречу, расцеловал, отвел к своему столу, усадил рядом с собой. За княжеским столом, по левую руку от князя, сидели лишь Пронский да княжеский духовник Патрикий, по правую руку Владимир усадил Челяднина.
Княжеский стол стоял на возвышении. У стола – лавка со спинкой, покрытая мягким ковром. По всей горнице тоже ковры – на стенах, на полу… Горница жарко истоплена, вся в свечах. Множество слуг…
Челяднин не ожидал такой пышности. Глаза его удивленно обежали горницу… Ниже княжеского стола, вдоль стены, стоял другой стол, длинный, под белыми скатертями, уставленный дорогой посудой, – за ним бояре и воеводы: все, кого нынче днем Челяднин видел в Разрядной избе. Не было только Басманова и Токмакова. Басманов, должно быть, и зван не был, Токмакову же нынче припало забот больше всех – передовой полк получил под свое начало, а на таком воеводстве не до пиров: везде и во всем нужно быть впереди.
– Чашу боярину! – повелел князь Владимир. Княжеский кравчий поставил перед Челядниным серебряную чашу, зачерпнул из ендовы, сверкавшей позлащенными выворотами краев, полный черпак вина и наполнил боярскую чашу.
Слуги понесли на стол жаровни, поставили на них блюда с мясом – запахло пряностями, пригаром и терпким ольховым чадом, шедшим от вздутых углей жаровен.
– Князья! Бояре! Воеводы! – тихо, но торжественно сказал князь Владимир. – Нынче мы при великой радости! Славнейший родом, умом, почтеннейший ваш боярин, твердость которого преисполнила нас пущей любовью к нему, снова с нами! И мы изопьем в его честь наши чаши до самого дна, до последней капли, так же, как испил свою горькую чашу наш дорогой подружник!
Владимир встал, поднял чашу.
– Здравье боярину! – почти выкрикнул он и первым осушил свою чашу.
Челяднин только пригубил… Пронский переглянулся с князем Владимиром: он, должно быть, уже успел кое-что порассказать князю о первой встрече с Челядниным и теперь только ждал доказательств своим рассказам.
За боярским столом виночерпий опять наполнил чаши. Тяжело поднялся Шуйский. Он уже был изрядно пьян, и наполненная до краев чаша расплескивалась в его руках.
– По княжьему слову испили мы заздравную чашу… Сию же, бояре и воеводы, осушим за то, чтобы горькая чаша, испитая нашим подружником, не истяготила его горьким похмельем! Прежним хочу видеть тебя, боярин, и за прежнего пью сию чашу!
Челяднин опять лишь пригубил свою чашу и, не став ждать должного по обычаю троекратного величания, встал и невесело начал говорить в ответ:
– Отрадно мне ваше почтенье ко мне, бояре! И честь, которую ты, князь, оказал мне, також в радость и в гордость мне… И всем вам, гляжу я, також в радость сие вольготное гостивство и княжья тчивость[57]… Так пошто же, бояре и воеводы, мрачить и мою, и вашу радость недобрыми поминаньями?! Старое минулось, оно за плечьми, новое перед очами!
– Нет, не минулось старое, добр боярин, – сдавленным голосом проговорил Пронский. – Ужли минулся ты? Ужли минулся князь Горбатый? Воротынский? Ужли минулась Русь, где от искони обретались в чести и благополучии наши предки?
– Укорительны твои слова, князь Пронский, но пошто обращаешь ты их ко мне? Неужто царская опала должна вечно лежать на мне, дабы в тебе не учиняло скорби попрание исконных устоев? Перейми ее на себя и утешься.
– Неблагорассудны вы, бояре, – тихо промолвил Патрикий. – Пыха[58] и усобные зазрения суть губители ваши. От них все напасти…
– О душах бы наших молился, чем обличать-то! – досадливо бросил Пронский.
– О душах ваших аз молюсь непрестанно. И едина мольба моя к Богу: совокупить вас. Есть бо премудрая притча: в густом былии коса вязнет, и вязана в веник лоза не ломится.
– На свете премудростей вельми много, святой отец, – усмехнулся Челяднин, – да знать бы, коей держаться?
– То верно! – буркнул Пронский.
Патрикий скорбно, с сожалением вздохнул и кротко потупил голову. Князь Владимир с неодобрением посмотрел на Пронского, но тот даже глаз не смутил под княжеским взором. Он выжидающе смотрел на Челяднина.
Челяднин стоял как перед судом – жестоким и лицемерным, готовым осудить его за то, за что он сам с большим правом мог судить своих судей. Ни оправдания, ни просьбы, ни даже раскаянья не колеблют жестокой предвзятости такого суда, и он не стал оправдываться, не стал говорить обо всех тех суровых истинах, до которых и сам-то дошел лишь под конец своей жизни, – эти истины здесь никого и ни в чем не могли убедить, ибо каждый здесь верил только себе, себе одному, и, сойди с небес сам Иисус Христос, стань перед ними и начни их вразумлять, они скорее смогли бы вновь распять его, чем поверить ему и согласиться с ним. Он стал обвинять – без зла, но сурово, с гневным достоинством.
– Не спуста молвится, бояре: что в сердце творится – на лице не утаится. Зрю я ваши лица и разумею ваши сердца. Окручинились они и смутились. А все через что? Через что не глядишь мне в глаза ты, Шуйский? А ты, Петр-князь? Не через то ли, что я, боярин Челяднин-Федоров, целован царем и Казенным двором пожалован?!
Замерли руки у воевод: оставили они хренницы, солонки, ножи, ложки, понапружили плечи и шеи, стромко выгнули спины, будто под зад им метнули иголок. За их спинами с подносами и блюдами над головами, как ангелы с поднятыми крыльями, замерли слуги.
– …А буде, иное что смутило ваши души, бояре? Отступником мните меня? И готовы судить? Но судья мне лише Бог и моя совесть, но не вы, бояре! Ибо нет среди вас никого, кто сказал бы, что более, чем я, был гоним и унижен и стоял на своем тверже, чем я!
– Тех уж нет, кто сказал бы тебе и стал вровень с тобой, – тяжело выговорил Пронский.
– И в том вы повинны, бояре! – Челяднин выждал, чтоб каждый прочувствовал его слова: в них было больше, чем обвинение. В них была боль, в них была скорбь – такая боль и скорбь, что даже самых возмущенных и самых несправедливых его порицателей они должны были обернуть против самих себя. – Вы всё лукавили, за чужую спину хоронились… Мнили, что отсидитесь, что обойдет вас беда! Мнили, отведет он душу на самых дерзких и непокорных и уймется…
– Побойся Бога, боярин! – вскинулся Шуйский. – Пошто вину такую на нас возлагаешь?
– Вы сами возложили ее на себя! И ежели у Бога просите кары на него, просите кару и на себя!
– Остановись, боярин! – встревоженно поднялся со своего места Серебряный. – Остановись, Иван Петрович!
Серебряный перешагнул через лавку, оттолкнул стоявшего за его спиной слугу, торопливо прошел через горницу к княжескому столу.
– Не в место такие речи, боярин, – сказал он тихо Челяднину. – В избе сучков много…
– Доноса страшишься, Петр-князь?
– Страшусь!
Челяднин уныло покачал головой, посмотрел на Пронского, на Патрикия, на князя Владимира…
– Нет среди нас доносчиков! – грохнул по столу Шуйский. – Нет! Скажи ему, князь! Незачем нам продавать свою душу дьяволу! Незачем! – гневно потряс он растопыренной пятерней. – Злата и серебра в сундуках наших вдоволь, а то, что мы тщимся иметь, он не отдаст нам и за наши души!
– Ты хмелен, воевода, – сказал осторожно Серебряный. – Стать буяет в тебе… Но послушай: нынче в Разрядной избе царь, при всех нас, слово в слово повторил весь мой гнев, что излил я однажды в думе.
– Эк и срам-то какой, воеводы! – возмущенно потряс руками Бутурлин. – Мы, как овцы в хлеву, поподжали хвосты и не волка страшимся, а друг дружки. Ты, Серебряный, больно нюхлив! Как кобель!
– Поостерегся бы, воевода, таковыми словами кидаться!
– Ты эк, мил князь, не стерегся, коли нас в доносчики поверстал!
– Будет! – снова трахнул с яростью по столу Шуйский. Попадали на пол кубки, послетели с жаровен блюда… Шуйский уперся руками в стол, решительно сказал: – Говори, боярин! Говори все, что есть на душе! Не страшись никакого доноса! Все мы связаны тут единой нитью. Тот, кто первым пойдет доносить, будет токмо последним на плахе.
– Не мне учить вас, бояре, – грустно вымолвил Челяднин, – вы все умны на свой лад… Токмо знайте: смутное и страшное время заходит. Как гроза ополночь. Чем она изойдет – никто не ведает. Один Бог… А та сила, что грозу ту нагонит, уже рвет бразды из наших рук. И не малец уже на престоле, на коего стрый[59] твой, князь Шуйский, поглядывал с неудовольствием, коли тот вертелся у него под ногами в царских покоях. Царь на престоле! Царь, бояре!.. И не от блажи отроческой венчал он себя царем… Посягнул он на столь высокое, что нам с вами туда и взора не кинуть. Отец его, великий князь Василий, в такие годы токмо-токмо из-под руки отцовской вышел, а сей – задумайтесь, бояре! – власть свою уж простер от татар до немцев. Кто еще из князей московских был столь яр и упорен?!
– Одержим он бесовской страстью, – обронил Патрикий.
Серебряный, все еще стоявший возле княжеского стола, так весь и вытянулся от слов Патрикия, будто схваченный судорогой.
– Укроти свою дрожь, воевода, – сказал ему устыжающе Пронский. – У князя слуги глухи.
– Так вот мое слово, бояре и воеводы, – чуть возвысил голос Челяднин. В глазах у него, глубоко под зрачками, затлелся горделивый огонек. – Сию чашу я пью за царя!.. Ибо пусть даже он одержим и бесовской страстью, все едино он нам всем не чета! Ныне, в веке сущем, нет на Руси иного, оприч него, кто так крепко управился б с властью!
– Пить за царя?! – удивился до возмущения Пронский. – Как ты можешь пить за него, когда посажен в темницу Бельский?.. Когда изгнан в сослание Воротынский?.. А сам ты не вдоволь, что ль, лиха хлебнул?!
– Не за того я пью, по воле которого изгнан в сослание Воротынский, не за того, который держит в темнице Бельского… Я пью за того, кто привел в свою волю татар и немцев, кто добыл Казань, Асторохань, Феллин, Дерпт, Нарву и добудет Полоцк!
4
Воеводы стали разъезжаться с пира, не добыв и до пятого кушанья, хотя на всех прежних княжеских пирах, которые он устраивал чуть ли не каждый день – благо, закончился рождественский пост! – досиживали до последнего – до похлебки.
Лишь только обнесли жареными карасями в грибах и стерляжьим студнем с печеным луком, вылез из-за стола и откланялся воевода Морозов. Лицо его лоснилось – не столько от жары и выпитого вина, сколько от стыдливой испарины. Стыдно было воеводе показывать свою трусость… Хоть и пил он вместе с Челядниным за царя, и речей крамольных не говаривал, но лучше быть подальше от греха. Как все обернется – поди узнай! Сам-то он доносить не собирался и в мыслях такого не держал, но за других – где порука? Чужая душа – потемки. Донесли же на Серебряного! А ежели царь прознает про нынешние речи, никому не минется – ни говорунам, ни слухцам. Ему так и подавно защиты не у кого искать. За Шуйского да за Пронского все именитые встанут, вся дума заропщет… Да и царь гневлив и крут, а с разбором: на исконных, на Рюриковичей, лишь замахивается, а головы летят у таких, как он. Нет уж, своя рогожа чужой рожи дороже!
Вслед за Морозовым поднялся Щенятев. Во весь вечер ни слова не вымолвил он, и только один виночерпий замечал его за столом. Щенятев всегда был молчуном, но, когда его обделяли местом, как сегодня – в Разрядной избе, тогда он молчал, как Христос на голгофе. Все знали за ним эту странность, но за труса его никто не знал. Бесстрашие Щенятева было ведомо всем, и всем было в зависть: кому в добрую, кому в худую. Доброй завистью он не тешился, от худой не страдал, ибо и самым злым своим завистникам не давал повода для злословия и насмешек: он не боялся ни смерти в бою, ни царя в миру, ни всех своих завистников и врагов. Оттого-то и царь его не миловал! Нынче и полка ему не поручил – Горенскому отдал, который по всем статьям был ему не в версту.
Удивились воеводы, когда увидели, что Щенятев откланялся князю Владимиру. Удивление быстро сменилось тревогой. Щенятев своим неожиданным уходом вконец переполошил их: раз уж и у Щенятева не хватило духу, значит, зарвались, наворотили такого, о чем и вспомнить будет страшно.
– Ишь, баловес! – засмеялся Шуйский. – Пошел на конюшню с конем говорить. У него всегда так… Душу отводит токмо с конем.
Только смех и объяснение Шуйского никого не успокоили. Воеводы заерзали, завздыхали, стали по одному вылезать из-за стола, кланяться князю… Тот никого не удерживал. Он, видать, и сам был рад их уходу: молча принимал поклоны, молча провожал глазами до двери.
Когда за боярским столом вместе с Шуйским остались лишь Оболенский и Серебряный, Шуйский зачерпнул из ендовы полный черпак вина и, не переливая его в свою чашу, хлобыстнул одним духом, как будто выплеснул за спину. Отдышавшись, лениво зевнул, натуженно выжевал искореженным ртом:
– Разбеглись… Се их Щеня распужал! Он на конюшню, а они под образа! Ну хрен по хрену! Мы Рюриковичи, князь! Мы как персты в кулаке! – Он сжал кулак, повертел его перед своими глазами, показал князю Владимиру – тот ободренно улыбнулся. – Нас нелегко одолеть! А тем овнам словесным он споро хребет сломит!
– Я всегда помню, что вы, Шуйские, меня с матушкой из темницы вызволили, – сказал льстиво князь Владимир. – Матушка ежелет на помин сродников твоих в Свято-Троицкий монастырь вклад делает.
– Отец твой помер в цепях – вот жаль! – вздохнул Шуйский. – Смелой души человек был князь Андрей! Не доверься тогда он Елене… На слово ее…
– Не против престола шел – оттого и доверился, – сказал Челяднин. – Себя оборонить хотел.
– Не против престола? – Шуйский долгим взглядом уперся в Челяднина. – Пошто же сразу к ее ногам не притек? Не доверился Богу и судьбе? Рать поднял?! К новгородцам пошел?!
– Елене он верил, – ответил Челяднин. – Любимцев ее страшился. Телепнев больно ко многому руки простер тогда… А Елена Телепневу благоволила.
– Благоволила?! – скабрезно осклабился Шуйский. – На постелю к себе брала!
– Батюшка мой не искал вреда престолу, то истинно, – сказал свое слово и князь Владимир, но видно было, что сам он так никогда не думал, а только повторил слова Челяднина.
– Эка заладили! – Шуйский тряхнул головой, взял с блюда кусок мяса, запустил в него зубы…
Все молчали: Челяднин – устало, князь Владимир – растерянно, Патрикий – выжидающе, Пронский – угрюмо и тупо, как грозный страж, приставленный к великой тайне. Молчал Серебряный, молчал Оболенский – всем им разбередил душу Шуйский.
В наступившей тишине громко раздавалось его яростное чавканье. Виночерпий плеснул ему в чашу вина. Шуйский запил, утер ладонью замасленные губы, зло обкосил Серебряного и Оболенского.
– Твой сродничек, Серебряный, и твой, Оболенский, все сие устроил! Не вздурись он властью, не собери полки против князя Андрея… Да что – полки?! Не завлеки он лукавством его на Москву, посулив Еленино прощенье, быть бы Старице крепкою вотчиной! Эх! – Шуйский закинул руки за голову, выпятил грудь, блаженно вздохнул. – Сел бы я на коня да и отъехал к иному господарю! Как бывало ранее, при дедах и прадедах: не сдружился с московским князем – отъехал к тверскому… А с тверским не поладил – к ярославскому!
– Оттого-то и пировало на Руси всякое воронье: то печенеги, то половцы, то татары! – холодно заметил Челяднин.
– Сие верно, боярин, – так же холодно согласился Шуйский. – Ну а ныне пируют Темрюки да лапотники! А мы, Рюриковичи, – соль от соли, мы – корни и ветви великого древа, что зовется Русью, смотрим, терпим и ждем топора. Топора! – крикнул он и вдруг сник, будто что-то сломилось в нем – какая-то подпора, на которой все это время держались и его злость, и негодование, и трезвость. Борода его распласталась по кафтану, придавленная поникшей головой, руки упали куда-то вниз, будто вовсе оторвались, даже казалось, что он и сам вывалился из кафтана, оставив на шелковых завязках проймы только одну голову.
– Что же, пора и честь знать, – сказал, поднимаясь из-за стола, Челяднин. – Вам от заутрени – в поход, мне – в путь. Славной победы желаю вам, воеводы, и да убережет вас Бог от шальной беды! В живе и здраве хочу узреть вас всех на Москве. Тебе, князь, великая благодарность и низкий поклон за гостеприимство! – Челяднин низко поклонился князю Владимиру. – За честь, за величанье – також!
– Путь твой – на Ржев, боярин, – сказал Челяднину Владимир. – Не обмини Старицы… Заверни, поклонись матушке. Скажи, Бог дает, в здраве я и в печали о ней. Пусть молится обо мне… и женишке передай мой поклон, и слово любезное, и печаль мою о ней. Дело, скажи, ратное захватило меня. Поуправимся с крепостью – на рысях прискачу. И еще скажи: царской милостью я сполна одарен и с ним вместе на крепость иду. Пусть молятся обо мне!
5
Челяднин подъезжал к Москве по Можайской дороге. Ночь он отночевал в Звенигороде – у городского наместника, а утром чем свет отъехал на Москву.
С радостью и облегчением проводил его со своего подворья звенигородский наместник. Отлегло у него от души: думал, небось, загостится опальный боярин… Трусил наместник, берег свою голову. Знал он добрую старую заповедь: не лезь зернинка меж жернова, и жил по этой заповеди. Да Челяднин и не обиделся на негостеприимство наместника, подумал лишь с горечью, отъезжая: «Застращал царь-батюшка! Уж и гостеприимством боятся провинить!»
Покидая Звенигород, Челяднин прежде заехал в монастырь Савы Сторожевского – поклониться Спасу Нерукотворному…
Знаменит был сторожевский Спас. Написал его лет полтораста назад московский иконописец Андрей Рублев по слову самого Савы Сторожевского, основателя и первого настоятеля монастыря, и пошла с той поры по всей Русской земле молва о добром Спасе звенигородском, который одним своим взглядом приносит людям радость и утешение.
Впервые увидел Челяднин эту икону лет сорок назад, когда сопровождал отправившегося на моления по подмосковным монастырям великого князя Василия, отца нынешнего государя, и с тех пор уже ни разу не преминул Звенигорода, не преклонив головы перед поразившим его образом.
Могучей, не человеческой, но и не божественной добротой оживил глаза Спасу Рублев. Он смотрел с иконостаса пытливо и чутко, но спокойно, не осуждая и не грозя; как будто забыв о греховности рода человеческого, образумить и возродить который он был призван. Пытливость его тоже не была той страшной, всевидящей пытливостью, от которой сникают и потупляются души. Он допытывал мирно и ласково, как допытывают о боли, чтобы унять ее.
Все самое сокровенное тянулось из души на зов его чутких глаз: унималась ненависть, никло зло, исчезали обиды, сомнения, страхи, душа очищалась легко и свободно без долгих молитв и взываний. Глаза Спаса пророчили радость, большую и светлую радость – и в этом, в ином мире, которому он один был и провозвестник, и свидетель. Смятенный дух и сознание оживали пред его доброй и мудрой неколебимостью, и за ней, как за неразрушимой защитой, нарождалась в успокоенной и освобожденной душе собственная сила – сила восторжествовавшего добра.
Этим-то и влек к себе Челяднина рублевский Спас. Он никогда не видел в нем Бога, он видел в нем человека и приходил к нему как к человеку, порой будучи не в силах осенить себя перед ним крестом.
Последний раз он приходил к нему десять лег назад – изгнанником, отверженным… Всю свою злобу, ненависть, всю свою боль, тоску, отчаянье принес тогда он пред его глаза, и они помогли ему выстоять, помогли сохранить надежду и веру в свою правоту.
Теперь он принес к нему свои сомнения, разочарованность, уныние… О многом он хотел поведать Спасу, от многого избавиться с его помощью, во многом утвердиться.
…Все тот же чистый взгляд, уверенный, чуткий, и все та же нерасторжимость силы и добра в его спокойствии, над которым ничто не властвовало в этом мире.
Челяднин стоял замлевший, не чувствуя ни рук, ни ног… Он словно приподнялся над собой, оставив на холодных плитах храма всю тяжесть своей души, скопившуюся в ней за долгие годы изгнания. Сквозь жухлый мрак, лишь чуть разжиженный редкими свечами, на него смотрели глаза, которые теперь еще сильней, чем прежде, казались ему живыми.
За его спиной тихо молился монах, приведший его в храм. Челяднин повернулся к монаху, со страхом сказал:
– Отче, грешен я… Не могу пред ликом его крестом осенить себя.
Неожиданное признание Челяднина словно бы смутило монаха. Он прервал молитву, поднял глаза на икону, долго, неотрывно смотрел на нее.
За алтарем, под крутыми сводами, сырой холстиной висел мрак. Тишина и покой стерегли каждый шорох.
– Разумею тя, сын мой, – неожиданно громко промолвил монах, словно хотел отпугнуть эту прислушивающуюся тишину. – Став послушником, поперву також неволил себя… Грешною мыслию терзался, что – не Бог он… Ликом, истинно, он человек. Грешно крест пред человеком возносить. Но потом уразумел всей душой своей, аки доступно уразуметь пребывающему в мире оном, что он бо и есть истинный Бог, иже на небе и в душах наших.
– Просвети, отче!..
– Пред ликом его, сын мой, душа яко бы вновь нарождается: вся худь и скверна вон исторгаются из нее, остается добро, и свет, и радость велия.
– Истинно так, отче… Дух ободряется, будто к свету приходишь. Доведи, отче, сила какая в нем?
– Сам како мнишь?
– Мысли мои неясны, отче… Мню, мастера искусность тайная.
– Оные образа искусней писаны: колер паче леп, золото чище… Святой Петр, митрополит московский, писал многие иконы святые, видом чудные… Святой Феодор, архиепископ Ростовский, писал також многие иконы чудные… На Москве обретается его письма икона – деисус, у святого Николы на Болвановке. Доводилось тебе ее зреть?
– Доводилось, отче… Чудный образ!
– Вельми искусный, преславный Феофан, родом гречин, расписавший церкви каменны по градам заморским и русским… На Москве им расписана Благовещения святой богородицы, Святого Архангела Михаила да Рождества Богородицы. Стоял ты пред теми росписями, сын мой?
– Стоял, отче… Многажды стоял. В отрочество, в юность и в зрелость.
– Тако ли тя очищал вид их?
– Не так, отче…
Монах вдруг как бы смутился, задумался. Лицо его стало еще суровей и холодней. Глаза засветились тревожными сполохами, словно его напугал ответ Челяднина.
– Греховное глаголем мы, сын мой… Да простится нам ныне и присно!
– Что же греховное, отче? – спросил растерянно Челяднин.
– Всякий образ очищает, сын мой. Мы же искусились противным. Прости нас, Господи, и помилуй!.. Дабы впредь не впасти нам в греховное, сын мой, аз буду лише глаголить. Ты смолкни и внимай.
– Как велишь, отче.
– Внимай, сын мой, да поможет мне Бог изречь истину. Не тайная искусность мастера делает сей образ таковым, сын мой, но богодухновенность. Да, сын мой, богодухновен образ Спасителя, писанный преподобным отцом Радонежским, Рублевым в прозвании. Его десницу, яко и десницу Моисея, составившего нам святое писание, направлял сам Господь. Блаженны чистые сердцем, как писано, им дано лицезрение Бога. Блажен и чист был преподобный отец Ондрей… Все в нем стремилось к Богу и принадлежало Богу. Он жил и творил во имя Господне. Он ничего не придумывал. Придумывает угождающий… Он созерцал горнее и поднялся до сего горнего, кое есть предел всего сущего.
– Чудно сие, отче! Трепетом меня объяла твоя повесть. Разумею теперь незабвенность его имени.
– Бог уберег его от забвения, сын мой. Не озари его Господь своим светом, не написать бы ему сего образа, как и иных, сему подобных. И не возросла бы о нем молвь велия, и не восстал бы он так высоко надо всеми искусными и мудрыми. Ныне в Стоглаве уложено: «Писати иконы с древних переводов, како греческие иконописцы писали и како писал Ондрей Рублев». Обаче, сын мой, живи он о сих[60], не статься бы его великим писаниям. Ныне избранному не возмогша принадлежать лише Богу. Ныне сильные и предержащие власть душу и просуг его под себя имут – нудьмо, иль златом, иль ухищрением дьявольским. Оттого-то и несть на Руси теперь столь великих творителей. Есть угождатели, притворники, сребролюбцы да бедники, нищие духом… Тщатся достать бессмертия, угождая не Богу, а господину. Но не любовь к господину должна подвигать творителя, ибо будет он раб, и не любовь к ближнему, ибо будет он слеп, и не любовь к отечеству, ибо родные кущи затмят в ней веру.
– Как же, отче?.. – растерянно глянул на него Челяднин. – Помилуй Бог! Любовь к отечеству?!
– Истинное отечество – вера, сын мой. Толико ею должен жить творитель, ею питаться… Любовь к славе и злату сделает его слабым, жажда райской обители – бесстрастным, понеже людская бесстрастность и беспорочность единообразна, яко нетекущие воды озера. Феофан был могуч в письме, вознесен надо всеми искусностью рук своих, да не чужд был он славы и злата. Имя свое высоко воздвигал, честь свою держал ревниво, через то не дано ему было горнее, ибо что высоко в человецех, мерзость есть пред Богом.
– Разве просуг – не дар Божий? Како же Господь обрекает его забвению?
– Господь одаривает и зрит – камо дар его смертный простой устремляет? Ко его ли божественным высям, брегя и лелея в душе своей ниспосланную ему благодать, иль на пристяжание земных радостей? Пристяжателей Господь обрекает. И обличающих обрекает. Несправедливы бо суть они. Злых – наказует, ибо зло творителя есть оружье для злых. Добрых – развенчивает, ибо истинное добро в руце Божией. Мнозе призванных, яко писано, мало же избранных.
Монах вдруг смолк, опустил голову, пряча глаза… Омраченность своей души он не хотел выказывать ни Богу, ни человеку.
– Пошто рек мне о сильных, ведая, что я боярин? – тихо спросил Челяднин.
– Не тебе рек, сын мой, – Богу. Ты – боярин, обаче сила твоя не в том. Сила твоя в разумении Бога. К Богу придешь ты…
– Пошто речешь так?
– Вижу тя… Душу твою.
– Имя мое знаешь?
– Не ведаю имени. Имя твое – от людей, душа – от Бога. Имя может быть высоким, душа – низкой.
– Спаси Бог тебя, святой отец!
– Пошто благодарствуешь? Не лестью одариваю… Душу твою узрел пред ликом его. Не сокрыта от глаз его нечистьбы и двудушия. Притворник жалок пред ним, чистый – просветлен.
– Не чист я, отче…
– Истинно, сын мой… Наиблаг токмо един Бог. Помолимся, сын мой, во имя его, да спасет он нас.
Монах принялся усердно молиться. Челяднин тоже прочел молитву… От скопившейся в храме тишины позванивало в ушах – это отвлекало Челяднина. Молитва его получилась нестройной, с пропусками. Он укорил в душе сам себя, сосредоточенно, слово в слово повторил молитву.
Монах словно забыл о нем. Челяднину хотелось попрощаться с ним, но отрывать его второй раз от молитвы он не решился. Тихо отступил, последний раз посмотрел в глаза Спаса – они истово, как благословением, осенили его спокойствием.
6
Время клонилось к полудню. Оттепель расквасила дорогу, и лошади шли тяжело, то и дело сбиваясь на шаг, а Челяднин все торопил, торопил своего возницу.
– Да уж не даю им, борзым, передыху, – оговаривался по-доброму возница.
– Погоняй, погоняй!
– Эка докука! Верст-то десять, не боле…
Возница вез боярина от самых Великих Лук и давно приноровился к его покладистости. Мог и поворчать, и посамовольствовать – все сходило ему с рук. Даже советы решался давать, которые Челяднин, так же как и его ворчание, принимал со спокойным молчанием.
– В деревеньку бы звернуть – поснедать?
– Погоняй! Не помрешь за десять верст.
– А деревенька-то ладная! Видать, дворовая[61]. Наши, великолуцкие, тожа кадась ладными были… Нынеча совсем зануждались. По дву раза на году походы, и все через Луки. Последний хрен без соли доедаем!
Челяднин не слушал возницу; закутавшись в шубы, полулежал на войлочном приспинье саней – напрягшийся, зоркий, нетерпеливый…
По дороге тянулись обозы – в Москву, из Москвы… Возница не пропускал ни одного встречного.
– Эй, московиты! – кричал он задорно. – Почто Москву отодвинули? Еду-еду – не доеду!
– К доброму гостю Москва навстречу катится, а от худого – пятится! – отвечали обозники.
Челяднин вздрагивал от громких выкриков возницы, отрывался от своих мыслей, начинал смотреть на дорогу, на заснеженные поля, гладкие, как натянутый холст… На их вылощенной глади лежал слабый отблеск тускло проглядывающего сквозь облака невысокого солнца. Иногда свет его прорывался сквозь тусклую завесу, освещал далекий окоем, и становилось видно, как с неба, будто с горы, скатываются за его пологий край тяжелые глыбы облаков.
Дышалось легко: оттепельный воздух был жесток, но свеж и как будто слегка хмельноват. Челяднин смаковал каждый вдох. Приятная истома отяжеляла все тело. Не хотелось поднимать даже век, но мысли работали напряженно: думал о царе, о его неожиданной перемене к нему, думал о Курбском, о его отчаянье и страхах перед царем, думал о князе Владимире, о его матери – княгине Ефросинье, с которой свиделся в Старице, заехав туда по просьбе князя. С княгиней он проговорил чуть ли не всю ночь. Раньше ему никогда не доводилось говорить с Ефросиньей, и видел-то он ее мельком всего несколько раз: за мужем, князем Андреем Старицким, жила незаметно, а после смерти его, когда вышла из темницы, вовсе затворилась в Старице, не выезжая даже на богомолье.
Последний раз он видел ее лет пятнадцать назад, на царской свадьбе. Тогда она всех привела в ужас, явившись на свадьбу с распущенными волосами. Все знали, что после гибели мужа Ефросинья дала обет до конца своей жизни быть в волосах[62], и все восприняли это не только как горькую странность ее души, но и как тайный вызов царскому дому, бунт против которого и привел к гибели князя Андрея. Однако никто не думал и не ожидал, что Ефросинья посмеет и в открытую так дерзко повести себя.
Челяднин помнил, как при венчании Ивана на царство – незадолго до его свадьбы – митрополит Макарий отстранил Ефросинью от поднесения ему царской цепи – из-за ее распущенных волос – и как просил потом, на свадьбе, убрать под убрусник волосы и не омрачать царю радости напоминанием о жестоком зле, к которому он не был причастен.
Как тогда ответила Ефросинья митрополиту?! Помнит Челяднин ее страшные слова:
– Церковь святая печалуется о клятвопреступниках! Не потому ли, что сама благословила их злодеяния?!
Омрачился митрополит, так омрачился, что и отвечать на ее злое нарекание не стал, только перекрестил ее молча, словно отпускал ей грех или открещивался от ее кощунственного взбредения.
Дары свадебные подносила – волосы по плечам, в глазах стылая пустота, будто она опрокинула их в себя и выстудила холодом своей души. Кланялась низко-низко – в самые ноги… Иван хмурился по-мальчишески, кротко и утружденно, глядя, как Ефросинья рассыпала по полу свои длинные, пегие от густой проседи волосы. Глаза его были вялы и даже как будто растерянны, но из-под плоских, расширенных зрачков выбивались тусклые искорки, словно в его еще не затвердевшую душу врезались острым кресалом.
О чем думал он тогда? Какие чувства бередили ему душу и в какие узлы завязывали ее? Может быть, как раз тогда и перехватило в нем петлей слабый росток добра? Может быть, как раз тогда, глядя на беснующуюся Ефросинью, понял он, как страшны люди в своем зле и как страшно и беспощадно зло само по себе?
Отныне ему уже не нужно было искать оружия надежней и сильней: он нашел его рядом о собой – в душах тех, кто противостоял ему. Но никто, ни тогда, ни теперь, не задумывался и не задумывается над этим, а ему, Челяднину, – не каркать же белой вороной над каждым ухом, что сами для себя и выпестовали царя – такого, которого были достойны. Да и кого в этом убедишь, даже начни каркать? Каждый считает себя праведником, а его – злодеем. Он и сам так считал – долго и упорно, пока однажды не заглянул попристальней себе в душу и не увидел, что хлещет себя до лютой боли бичом, сплетенным из гнилых обрывков обид и зла, которое только потому и было злом, что стыдилось стать добром. Когда же он расплел этот бич, то и обиды, и зло разом превратились в ничто, не разгневав и не устыдив его совести. А другой бич сплести было не из чего, и он успокоился. Успокоился не потому, что нашел оправдание царскому злу, потому, что признал за ним право отвечать на зло злом. А потом уже, позже, понял, какими тяготами отяготил он себя, задумав так много и размахнувшись так широко. Понял и как одинок, как несчастен он был – отверженный, проклинаемый, каждым своим шагом топчущий свою совесть, каждым своим днем омрачающий свою жизнь, но свято верующий в предначертанность своей судьбы свыше и исполняющий эту предначертанность. И разве же мог он позволить ему, Челяднину, Курбскому или кому-нибудь иному посягнуть на свою судьбу? Разве мог он кому-нибудь дать свободу, если сам не был свободен? Разве мог кого-нибудь пощадить, если не щадил себя?
– Эй, московиты-благорачиты! – заорал возница и опять оторвал Челяднина от его мыслей. – Скоро ль ваша Москва кислыми щами завоняет?
– А как получше нюхнешь, так и будешь хорош! – отвечали ему с встречных возов.
– Вот бестии! – повернул он к Челяднину свою зубастую, довольную харю. – Хочь спрашивай у них про версты не обинуясь! А не обинуясь – несчастье выйдет! В дороге про версты – боже упаси спросить! Непременно беда стрясется. Ну да не тужи, батюшка-боярин, скоро уж… Верст десять!
– Было уж десять!
– Тоды поболе! – плутовски оскалился возница и, отвернувшись, усердно понукнул лошадей.
Челяднин снова сомкнул веки, и опять поползли, поползли мысли… Опять Ефросинья, Курбский, Иван… В Великих Луках он был ласков с ним и как-то не по-царски навязчив, как будто заигрывал или дразнил других своей ласковостью к нему. Но больно уж необычно все было. Весною в Дерпте и словом не омолвил, будто и не замечал вовсе, а тут поклоны стал бить, целовать, душу разжалобил – до слез. Такое проняло благоговение – пошел бы за него в огонь и воду.
«Неужто же кривит душой?» – думает Челяднин и тут же отгоняет от себя эту мысль. Думать так о царе ему почему-то не хочется, стыдно даже, будто он перед кем-то в поруке за него. Отвык он от царя за столько лет, да и Иван переменился, возмужал, научился прятать свои истинные чувства: не так-то просто теперь понять, где в нем искренность, а где лукавство? Но чувствует Челяднин: в Великих Луках Иван был искрен с ним, потому что своей искренностью, своей добротой и ласковостью свою же душу лечил. Донимало его что-то… Видел Челяднин его глаза – из самой души смотрели они. О Курбском спросил будто ненароком, но этим-то и выдал свое смятение. Видать, сильно удручил его разрыв с Курбским.
Курбский тоже в смятении и страхе. Только и слышал от него Челяднин в Дерпте:
– Спасаться надобно! Спасаться, боярин!
– Так уж спасся, – в шутку успокаивал его Челяднин. – Подальше будешь – поцелей. А я вот прямо на зуб ему…
– А ты оставь его, – советовал Курбский. – Оставь, боярин! Неужто не намыкался в опале?!
– Оставлю… Бог призовет – и оставлю.
Из Дерпта Курбский провожал его до первого яма. В одних санях ехали. Угрюм был князь, подавлен: отчаянье, злоба, страх истерзали его, изнурили его терпение, волю… Челяднин понимал, что он приговорил себя, обрек. Обратного пути для него не было: покорность и смирение были для него еще невыносимей, чем отверженность и бесславие, но отверженность и бесславие тоже были невыносимы. Он не был мучеником – ни по натуре, ни по страсти, и страдания не могли утешить его, как утешали они многих. Он не хотел страдать, он хотел бороться, но сознавал свое бессилие и опускал руки.
– Жутко, боярин, быть собакой на сворке! Натравят – грызи! Погладят – руку лизни! Ударят – подожми хвост! Ибо что ты можешь еще?.. Что? Выпросить у Бога долготерпение да вылезти на Ивана Великого и кинуться вниз головой. Где та сила, что встанет и остановит неправедность? Где свобода, что в зачатье нам Богом дарована?
– А нужна ли нам та свобода, князь? На что мы истратим ее? На мелкие страсти, на вольготье и праздность жизни?
– Что же – рабство?
– Не рабство… Служение.
– Чему и кому?
– Тому, кому свобода потребней, чем нам. Кто истратит ее на великое.
– Избраннику Божьему?! Где тот избранник?
– Буде, он и есть…
– Он?! Пошто же не силой ума и величием духа влечет за собой людей, а гнетом, насилием? Нет, боярин, великое и злое, как кошка и собака, купно не живут! Великому я рад служить, злому не желаю!
– А буде, князь, великое беспомощно без зла? Твоя душа, моя душа, еще чья-то – и каждая на свой лад, со своей намеренностью, со своей скверной… Что ж, каждую расслушать, ублажить? А коль ты подл, нерадив, преступен? Коль тебе чужды все его дела? Ты хочешь сытно жрать, копить мошну, блудить – и ничего более!
– Отставит пусть меня. Иного призовет.
– Иного? А коль и тот?.. И так всю жизнь перебирать?
– Пусть страсть свою вольет в души и иным…
– А коль те души дырявы? Иль в них своя пылает страсть?
– Вот-вот, боярин! Не токмо лишь царям дарует Бог величье. Как быть тому, кто одарен, пусть малой, но своею страстью? Как ему быть, коли у него лишь токмо дар, а сила и власть у другого?
«Да, – вдруг остановил себя на этой мысли Челяднин. – Как быть?» Она задела в его памяти еще что-то – совсем недавнее, как будто только-только пережитое. Ни Курбский, ни царь, ни Ефросинья не были причастны к этому. Они враз выскочили из его памяти, и в ней не осталось ничего, кроме томящего напряжения. Он сильней сжал веки и вдруг вздрогнул, снова напугавшись неожиданно громкого голоса: «Блаженны чистые сердцем! Им дано лицезрение Бога!»
Монах! Сторожевский монах! Только сейчас Челяднин почувствовал, как сурово и гневно звучал его голос.
«Да веди он обличал!» – подумал Челяднин, цепенея от этой догадки.
«…Блажен и чист был преподобный отец Ондрей! – ожгло Челяднину душу. Голос монаха опять застиг его врасплох, только теперь он не был так громок – он был тих и шипящ, словно монах сидел с ним рядом и шипел ему в самое ухо. – Все в нем принадлежало Богу… Он созерцал горнее… Но живи он о сих, не статься бы его великим писаниям!»
«Обличал! Обличал! – вонзается в Челяднина мучительная растерянность. – Не меня – иных… Но и меня, ибо я також ищу оправдание злу!»
«…Ныне избранному не возмогша принадлежать лише Богу, – еще настойчивей шепчет монах, словно хочет вытравить из его души последнюю силу, оставив ее беззащитной и растерянной. – Ныне сильные и предержащие власть душу его под себя имут – нудьмо иль ухищрением!..»
Челяднин сильней сжимает веки, словно боится, что проскользнувший сквозь них свет вдруг высветит в его душе что-то еще – неведомое и ему самому. Но мысли лезут, лезут настойчиво, словно взялись обыскать всю его душу, все ее укромные уголки и закоулки.
«Великое и злое купно не живут! Великое беспомощно без зла! А Спас?!»
«Пред ликом его душа яко бы вновь нарождается!.. – Монах тут как тут, у самого уха: – Вся худь и скверна вон исторгаются! Остается добро и свет!»
«Добро и свет! Великое и злое! А ежели Курбский в воду глядит? А Ефросинья?.. Ею тоже движет зло. Зло и месть! А монах? Неужто и он во зле? Во зле – за попрание добра и свободы! А на что свобода? Чтобы творить добро? А ежели зло?.. Противиться великому – не зло ли?.. А ежели нет великого? Ежели я, Челяднин, выдумал в нем великое, чтоб оправдать свое отступничество? И отступничество ли? А ежели предательство? Нет, предатель труслив и подл, я же не трушу, не подличаю! Я отступился от того, в чем разуверился… Не верю, да, не верю… И не хочу стоять, на чем стоял! Не верю – и не хочу! Пошто же примыкаю к иному? Пособлять великому и новому? Великому и новому и злому – разом! Пошто я в нем оправдываю зло? А в Ефросинье – нет? И в Курбском – нет! Буде, потому, что сам отступился от добра? И потому меня так стало влечь к нему? И он почуял се во мне?»
«Тебя он жалует, боярин, не с добра, – доносится до него спокойный, сперва чуть слышный голос Ефросиньи. Но с каждым словом он все слышней, слышней, и вот уже не монах, а Ефросинья сидит с ним рядом и шепчет ему в ухо: – Всегда он был силен чужим умом. Сильвестр его в советах, как в пеленках, нянчил… Адашев думал за него, да Курбский, да Курлятев… Сколько браней Курбский, да Воротынский, да Горбатый выстояли? Казань ему подали, как пирог к столу! А он их как?.. Всех поразослал! Один остался… С бусурманкой да братьями ее стыдобными. А дел-то позатеял – уймищу! От думы – тоже в сторону! Все сам, а голова-то мелка, что лужа из-под копытца».
Сказал он ей тогда не в защиту царя, а чтобы наговор ее злой пресечь:
– Советчиков, верно, много около него было. Да не шел он по их советам. Вперекор все делал. Они его на Крым поворачивали, а он на немца пошел.
– С дурна ума и пошел! Что тем прибавил отечеству? А крымец повадился, как волк в овчарню… Царем прозывает себя, а вотчины своей защитить не может! Не ведаю я, каки они те цари заморские были, с коих он царство себе надоумил, а токо в нем царства, как в бабьем подоле ухарства! Слово одно пустое – царь. Венец на себя надвиг, чтоб ублюдскую худь прикрыть. Богом венчанный!.. Еленин ублюдок он, а не царь! Телепнево семя!
Челяднин и ране слышал такое о царе: поговаривали, перешептывались – еще в малолетство Ивана, когда Елена, став правительницей, вдруг приблизила к себе Телепнева, но наверно никто ничего не знал, и вскоре унялись все поговоры и перешептки. После смерти Елены, а вслед за ней и Телепнева опять прошушукалась эта молвь, но снова лишь догадки и авоси, больше похожие на злословие, которое никогда не стихало в царском дворце.
Челяднин никогда не прислушивался к этим дворцовым пересудам. Краем уха, случалось, схватит что-нибудь, ну а верить – не верил и подавно. Ефросиньиным словам не удивился: от злобы были они, но не ожидал он, что и она в своей злобе дойдет до того, что перестанет чураться даже дурных сплетен. Не такая это была женщина, чтобы подогревать свою злобу пустыми выдумками. В ее душе и без того было достаточно огня – более жгучего и страшного, – чтобы до конца своих дней не остудить злобы к царскому дому.
– Пустой перевет[63], матушка-княгиня! Не тебе его переговаривать, – сказал он ей устыжающе. – Не ослепляйся злобой!
– Я не слепа, боярин. И попусту наветить не стану. В том мне вера моя порукой. Я реку истину, кою мне Бог сподобил узнать. Я поведаю тебе ее, коли ты тщишься узнать, кто престолом нашим владеет и кто должен им владеть?!
– Слышал бы нас государь…
46
Через ямы – на перекладных: от одной ямской станции (яма) до другой.
47
Поместные – дворяне.
48
Бехтерцы – доспех из металлических пластинок, скрепленных кольцами.
49
Алама – воротник, шитый золотыми нитями, жемчугом; пристегивался к кафтану.
50
Витель – витая нить из золота либо серебра.
51
Светцы – зажимы, держатели для лучин.
52
Большой чертеж – карта русских и иноземных, в основном западных, земель.
53
На Успенье – то есть всего несколько месяцев назад: Успенье отмечается 15 (28) августа.
54
Просужих – умелых, талантливых.
55
На вся воя своя – на всех воинов своих.
56
Левой рукой – возглавлять полк левой руки. Войско состояло из Большого полка, полков правой, левой руки, передового и сторожевого.
57
Тчивость – щедрость, великодушие.
58
Пыха – гордость, чванство.
59
Стрый – родственник, дядя по отцу.
60
О сих – в это время.
61
Дворовая – принадлежащая двору; личные владения царя.
62
Быть в волосах – быть в трауре. Мужчины в трауре отпускали длинные волосы, а женщины носили их распущенными.
63
Перевет – сплетня.