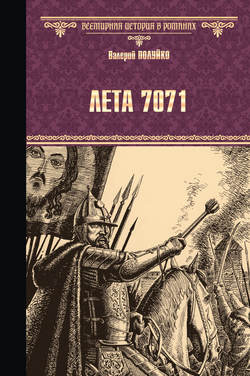Читать книгу Лета 7071 - Валерий Полуйко - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Книга первая. Взятие Полоцка
Глава четвертая
Оглавление1
Когда Шереметев после своего затворничества, якобы отхворав, приехал в Кремль, он, к своему великому ужасу, узнал, что царь ушел в поход. Ему даже зябко стало, хоть и был он в двух шубах, и страшно, и тоскливо: впервые за всю свою жизнь он остался не у дел, впервые не пошел в поход, впервые не снял со стены свой воеводский шестопер.
Первой его мыслью было: кинуться вслед за царем, догнать его, упасть в ноги, сознаться во всем, пусть опалит, садит в застенок – легче ему было это перенести, чем сидеть без дела в Москве вместе с дьяками и писцами.
Всю свою долгую жизнь Шереметев воевал. Не было у него иного занятия, ни в чем больше он не был искусен, ни к чему не склонен… В Боярской думе у него было место, но занимал он его редко: то пребывал в походах, то готовил войско и оставался при нем во времена недолгих перемирий, то наместничал и воеводствовал в порубежных городах. Он презирал всех, кто сидел в Москве, на легких хлебах, боясь и нос высунуть в поле – под татарские стрелы и немецкие пищали. Он и брата своего меньшего, Никиту, тоже уманил из Москвы, чтоб не лез тот со своей горячностью во всякие тайные боярские дела, за которые многие уже поплатились головами. Сидел Никита наместником в Смоленске – на хороших кормах, при большом почете, пять тысяч войска было у него и самая лучшая русская крепость, – только не сиделось ему там. Наезжал он в Москву и наезжал, по случаю и не по случаю, и оставался в ней без причины так подолгу, что царь порой приказывал выставить его вон. Как старший брат, остерегал он Никиту от этих поступков, на которые царь смотрел с большим неудовольствием и мог сурово сыскать за них. Только Никита мало внимал этим предостережениям: месяц-другой потерпит – и в Москву. Нынче неладная зима помешала ему – не стал тащиться по бездорожью, – а случись хорошей зиме и хорошей дороге, непременно уж объявился бы в Москве.
Оставив коня служке, Шереметев решительно направился в думную палату, чтоб доложить там о своем немедленном отъезде. Но пока он шел по дворцовым коридорам и переходам, где после царского отъезда не жгли даже лучин и не ставили стражу, от чего они казались еще мрачней, чем обычно, решительность его ослабела. Здравый смысл брал верх. Первая отчаянная мысль сменилась другой. Она вернула в него прежние опасения и страхи, вытесненные из его души ошарашивающей неожиданностью происшедшего, а давнее недоверие к царю, всегда заставлявшее его быть настороже, вконец образумило его: он спокойно и трезво рассудил, что ехать сейчас к царю с повинной – все равно что лезть голодному волку в пасть. Лучше уж стоять на своем до конца, держаться своей выдумки, которая оправдывала его перед царем и в которую тот, видимо, поверил, потому что не стал даже проверять и доискиваться до истинной причины его затворничества.
Время было не самое раннее, и в думной палате Шереметев застал только Мстиславского и боярина Захарьина-Юрьева.
– Отрадно видеть боярина в добром здравии, – приветливо сказал Мстиславский и даже встал, чтоб встретить его.
– Слава Богу! – ответил Шереметев. – Не по мне сыч кричал.
Посидели, помолчали.
– Темна хвороба сия, – сказал Захарьин не то сочувственно, не то лукаво. – Как распознать – живой иль мертвый?
– Да уж… – буркнул Шереметев.
Снова помолчали.
Захарьин приклонился к Шереметеву, приглушил голос и доверительно сообщил:
– Царь перед походом больно гневен был… Велел живого иль мертвого тащить к нему. Духовник царский, протопоп Андрей, отговорил…
– Да неужто?! – засмеялся Шереметев, но в душе содрогнулся от этого известия. «Выходит, сыч-то кричал! – подумал он с тоской. – Да Богу было угодно, чтоб жил на земле в сей час протопоп Андрей!»
– Так уж и отговорил?
– Отговорил… Тем, что ангелы будто в такого вселяются и тревожить их – грех великий!
Захарьин тихонько, с удовольствием засмеялся. Глаза его хитровато, заговорщицки блеснули…
Шереметев нахмурился, холодно сказал:
– Прикинул я к себе хворь, дабы в думу не ходить. Больно шумно тут стало в последнее время… А я уж свое отшумел.
Шереметев сам подивился своей выдумке, которая неожиданно пришла ему в голову: и отговорку хорошую нашел для себя перед царем, и Захарьина отбрил. У того даже челюсть отвисла от неожиданности: все что угодно ожидал он от Шереметева, только, должно быть, не такого признания.
«Что, съел, царский угодник! – подумал со злорадством Шереметев. – Небось на слове думал меня словить?! Да старый ворон даром не каркнет!»
Шереметев поднялся с лавки, крякнул…
– Новости каки есть?
– Новости есть, – ответил Мстиславский. – Как же не быть?
– Сказывай…
– Первостепенно: братец твой, Никита, епистолию дослал…
– Се что! Он много их шлет. Еще сказывай!
– Князь Андрей Михайлович Курбский, прибыв в Дерпт, отписку дослал о прибытии…
– Что за новость? Раз отбыл, непременно прибудет.
– …а боярин Иван Петрович Челяднин по пути в Москву.
– Эк и новость! – по-прежнему равнодушно сказал Шереметев, но на сей раз покривил душой. Эта новость обрадовала, очень обрадовала, однако виду он не подал: откровенно радоваться возвращению в Москву боярина, которого царь целых десять лет держал в отдалении, было не совсем безопасно. Неизвестно, как встретит его царь на Москве: милостью ли одарит за прежние лиха или еще сильней заопалит? Всем было ведомо, как не благоволил к нему царь. В вечном подозрении держал, ни на год не давал ему покоя, переводил из одного города в другой и даже звания конюшего[18], которым исстари владел род Челядниных, лишил…
– Нешто не новость? – удивился Захарьин. – Не частым гостем был боярин на Москве.
– Да уж порты не протирал по думным лавкам!
Мстиславский, чуя, что они вот-вот сцепятся, подошел к полке, на которой ворохом лежали грамоты и свитки, прицелился глазом, безошибочно вытащил какую-то грамотку, развернул ее.
– Братец-то твой Никита… На сей раз совсем уж пречудную епистолию дослал. Грозится в Литву отъехать, коли государь его в Москву не воротит!
– Спятил Никитка! – ужаснулся Шереметев. – Иному б Медынь иль Таруса раем были, а ему в Смольне не сидится!
– Нраву он переменчивого, – подтравил Шереметева Захарьин. – Как баба на сносях!
– Се истинно! – сокрушенно согласился Шереметев.
2
Расстроенный и сокрушенный вышел из думной палаты Шереметев. Приказный люд – писцы, подьячие, приставы, спешившие по своим делам в думу, сталкиваясь с ним в коридоре, учтиво кланялись и замирали, ожидая, пока он удалится.
Шереметев не замечал их, угрюмо проходил мимо.
На переходе, что вел из думной палаты в царский дворец, горел масляный фонарь. Он нещадно чадил, в нос шибало угаром.
Шереметев постоял в раздумье на переходе и, сам не зная зачем, перешел на царскую сторону. Пошел по дворцу, отрешенный и замыслившийся, растревоженный причудами брата своего. «Не сносить ему головы, – думал он удрученно. – Виданное ли дело – царю такое писать… Отъедет в Литву! Да за такое… Эх, Никита, Никита!»
Шереметев, занятый своими мыслями, не заметил, как по одному из переходов ушел в старый, нежилой дворец, чудом уцелевший в последний пожар и сразу же покинутый царем. К нему год спустя были пристроены новые хоромы, а старые, все еще пахнувшие гарью и палом, с закопченными слюдяными окошками, пустовали. Хранился в них всякий скарб: старая утварь, лавки, столы, рассохшиеся кадки, дырявые, битые котлы, цепи, веревки, крюки, багры; пылились и сгнивали стертые ковры, дотлевали изъеденные молью, старые шубы; разваливались в прах, в щепы некогда роскошные великокняжеские троны, превращались в труху громадные кровати, на которых усердные хозяева этих хором зачинали своих наследников. Сыскать тут можно было даже гробы и могильные кресты, невесть как очутившиеся среди всего этого хлама.
Шереметев обошел всю старую часть дворца, позаглядывал во все углы, попинал старое барахло, которое служило московским государям еще тогда, когда он, Шереметев, был совсем молод. Рассохлись и развалились троны, погнили бархат и парча, поломались посохи, пооблущилось золото на набалдашниках, порыжела кость, померли государи, восседавшие на этих тронах и державшие в своих руках эти посохи, а он, Шереметев, все еще живет, дышит, видит, слышит, мыслит, служит новому государю и терпит от него такое, чего не пришлось терпеть ни от деда его, ни от отца.
В одном углу Шереметев наткнулся на обрывок какого-то старого знамени. Поднял, всмотрелся – узнал знамя, с которым великий князь Василий ходил отбивать у литовцев Смоленск. Шел с ним в том походе и Шереметев – дворовым воеводой. Было это полвека назад. Был он тогда молод, честолюбив, горяч, отчаедушен. Три раза ходил с войском на приступ. С третьего раза взяли город. На радостях даже не брали в плен литовцев. А князь Василий еще и деньгами одарил их, отпуская с миром. Помнит Шереметев то далекое время, помнит тот поход – он был первым большим походом в его жизни. Потом было множество других походов: против поляков, литовцев, татар, черемисов, ливонцев, шведов… Теперь и не счесть уже, во скольких он перебыл за эти пятьдесят лет!
Воспоминания о Смоленске опять вернули его к мыслям о брате. «Эх, Никита, Никита! Я тот город своей кровью добыл, чтоб ты мог в нем сидеть припеваючи! И пошто ты такой норовистый? Пошто на рожон лезешь? Аль великую охоту имеешь быть кинутым на божедомке[19] – без могилы, без креста?»
Шереметев зашвырнул в сердцах обрывок знамени подальше в угол, отряхнул руки. «Буде, еще все и образуется? – подумал он с надеждой. – Неужто государь не разберет, что с жиру он?»
Знает Шереметев, отчего Никита в Москву рвется: чтоб пировать на царских прохладах[20] да с соколами по урочищам мотаться! В Смоленске много не напируешь, соколами не потешишься: там рубеж, там всегда нужно быть начеку. Сиди за стенами и жди! Враг может пойти завтра, может и через год – а ты сиди, жди! Понимал Шереметев, как не по душе Никите такое сидение, и клял уже себя вовсю за то, что уговорил его уехать из Москвы.
…Пройдя узким коридором, забранным по стенам дубовым брусьем, преминув бывшую трапезную покойной княгини Елены, из которой маленький переходный коридорчик с узкими, стертыми ступенями вел в верхнее жилье – в терем, где некогда княгиня обреталась со своими девками, мамками, няньками, Шереметев через ряд обветшавших хозяйственных приделов вышел в черные сени. В высоких сводах зияли пустые проемы окон, сквозь которые к самому полу опускались толстые наклонные столбы света. Каменный пол дышал холодом. Большие двустворчатые ворота, в которые когда-то въезжали возы, доставлявшие в царский дворец съестные припасы и воду, закосились на раздерганных петлях, в щели набился снег – не таял, лежал широким узорчатым пластом, похожим на петушиный гребень. В глубине сеней, там, где рубленый сводчатый восьмерик опирался на мощные выступи белокаменного основания, темнел вход в подвал. Шереметев приблизился к нему, заглянул… Затхлая стужа свела ему ноздри.
Сквозь незаглушенные отдушины в подвал пробивался тусклый свет, отчего казалось, что подземелье наполнено прозрачной сизой плесенью. Чуть выделялись светом гребни ступеней. На одной из них в расплывчатом, сером пятне света Шереметев заметил какой-то шевелящийся комок – не то собака, не то человек…
– Эй! – крикнул он вниз. – Кто там?
Голос его бухнулся, как камень в глубокий колодец, медленно затих внизу. Ему показалось, что комок зашевелился и как будто пискнул. «Псина», – подумал он, но всмотрелся повнимательней: комок шевелился…
– Спаси Господи! – перекрестился Шереметев и ступил на черные, расползшиеся под его ногой гнилые ступени. Спустившись пониже, снова всмотрелся.
– Ба-а! – выдохнул Шереметев, встретившись с большими черными глазами, в упор смотревшими на него. – Царевич?! Федор Ианыч! Ты ли се, мальчона?
Круглые, немигающие глаза Федора с ужасом смотрели на Шереметева.
– Остынешь здеся, Федор Ианыч! Пошто уховался в погреб? Няньки, поди, с ног сбились… А ты – подумать токо!
– Не забижай меня, – тихо сказал Федор. – Тятька прознает – голову тебе отрубит.
– Ишь, чему тебя обучили?! – подивился Шереметев. – Видать, няньки твои, суки борзые? Под подолами кобелей водят, а тебя, сиротинку, и доглядеть некому. – А про себя подумал: «Мачеха твоя и того пуще… Гиена лютая!»
– Идем-ка отсюда, Федор Ианыч!
Шереметев взял царевича за руку, тот послушно пополз за ним наверх. В сенях Шереметев оглядел его, поправил на нем соболью мурмолку, потрепал за нос:
– Куды – к нянькам?.. Аль на башню полезем?
– На башню, – тихо, несмело ответил Федор.
Шереметев толкнул ногой створку ворот – она с треском и визгом отворилась немного… Дальше ее не пустил сугроб.
– Выходи, царевич! Поперед тебя не могу!
– А в башне страшко?
– Не страшко, царевич! Там стража…
Шереметев взял царевича на руки и пошел прямо по снегу, забредая в него по колено, потом выбрался на дорожку, протоптанную к Успенскому собору, обминул собор, дошел до Кремлевской стены и опять побрел по снегу вдоль стены, до самой башни.
Под башней, рядом с притыном[21], был наметен большущий сугроб. В сугробе торчал бердыш, на нем висела сабля в потрескавшихся, побитых деревянных ножнах, кожаный сыромятный пояс, на снегу валялись меховые варежки.
– Разбойник, – недобро проворчал Шереметев, опуская Федора на землю. – Вишь, царевич, как слуги твои службу блюдут! Нет на посту окаянного!
От сугроба за башню вели следы. Шереметев, ступая след в след, заминул за башню.
– Ах, разбойник! – закричал он. – Нет тебе иного места нужду справлять?! Чрево свое рассупонил!.. Этак весь Кремль з..! Надевай порты, не то дындло свое отстудишь – бабы горевать будут.
Он выволок стрельца из-за башни, поставил перед собой – тот стоял ни живой ни мертвый.
– Чей таков?
– Прибор головы Авдея Сукова…
– Улежно брашнит вас Авдейка Суков! Голова на служе, а брюхо натуже! Подпояшься, Сидорова коза! И гляди мне! – погрозил Шереметев ему кулаком. – Дозоры вверху бодры?
– Сидять… – лепетнул стрелец.
Шереметев с царевичем вошли в башню. На широких ступенях, уходящих крутым изгибом вверх, была настелена солома, в нишах стояли бочки с песком, со смолой, на стенах висели багры, крюки, тяжелые колотуши на пеньковых верзилах[22], в одну из бойниц была просунута небольшая пищаль, охваченная по казне кожаным пояском, чтоб не отсыревал порох в зелейнике, остальные бойницы были закрыты деревянными щитами.
Лестница, все сильней изгибаясь и суживаясь, ползла вверх. Шереметев с трудом забрался на верхний дах, втащив за собой и царевича. На даху двое дозорных с жаром метали кости. Увидев воеводу, они в ужасе сунулись лбами в холодный пол и замерли.
– Разбойники! – напустился на них Шереметев. – Костарством шалуете, а к городу подступили татары!
Стрельцы не шевелились, не поднимали голов – лежали как мертвые.
– Померли? – тихо, жалобно спросил царевич.
– Таких и бойлом не убьешь! Носы в щели позаткнули и молятся куриному Богу! Подымайсь!
Дозорные мигом вскочили, виновато насупили лица.
– Сейчас быстро вниз, – приказал Шереметев, – и во дворец, скажите: царевич на стрельнице, Москву оглядывает!
Дозорные умчались.
– Кабы был ты погоже, а я помоложе, забрались бы мы с тобой, Федор Ианыч, на самый верх, – сказал ласково Шереметев и кивнул на стремянку, прилаженную к задней стене башни.
Лестница вела наверх, туда, где на толстых дубовых стропилах под островерхим навесом висел большой набатный колокол. Это был новгородский вечевой колокол, привезенный на Москву еще великим князем Иоанном Васильевичем. С тех пор не сзывал он уже непокорных Москве новгородцев на их буйные вече. Теперь он сзывал москвичей – в Кремль, за его спасительные стены, когда в степи за Москвой-рекой появлялась татарская конница.
Шереметев отворил небольшую железную дверцу, яростно проскрежетавшую проржавевшими петлями, ступил на облом – узкий настил, положенный поверх выдающихся из стены толстых бревен.
– Ну, поди сюда! – Шереметев повернулся к Федору, протянул руку. Тот робко подступил шага на два и вдруг заплакал, боясь подойти ближе.
– Э-хе-хе! – вздохнул Шереметев. – Робок ты больно… Ну, оставь слезы, оставь… Поглянь! – Шереметев потянул Федора к себе. – Вишь, Москва! Государем станешь – твоя вотчина будет!
Федор хныкал в полу Шереметевой шубы и не хотел смотреть на свою будущую вотчину. Мурмолка свалилась с него, обнажив большую круглую голову с редкими белесыми волосиками, похожими на пух оперяющегося птенца. Шереметев поднял мурмолку, посильней нахлобучил ее ему на голову. Федор стал затихать. Шереметев уже не трогал его, молча смотрел вдаль, на Заречье… Там, за Серпуховскими воротами, начиналась старая Ордынская дорога, по которой когда-то московские князья ездили в Золотую Орду за ярлыками на княжение. Теперь по этой дороге подкрадывается к Москве другая орда – Крымская. Сколько раз уж встречал и отгонял ее Шереметев?! Крымский хан на воротах своего дворца особый кол установил, на который собирался вздеть голову Шереметева, если бы тот живой или мертвый попал ему в руки.
Где-то там, в той стороне, была и Тула, близ которой последний раз сошелся Шереметев с ханом. Великий бой дал ему Шереметев, хоть и было у него войска раз в пять меньше, чем у хана.
Раненый конь придавил тогда Шереметева, и растерялись русские полки без воеводы, – только тогда и справил хан победу, да и то неполную: Алексей Басманов с остатком войска стал в Судбищенских оврагах, и не выбил его хан оттуда, пока и царь с Оки с главным войском не подоспел.
3
На торгу в мясных рядах переполох. Народу скопилось уймище, галдеж, давка… Всех распирает азарт, любопытство, ретивые лезут куда повыше, чтоб не прозевать ничего, не прослушать…
Мясники, в нагольных кожухах, подпоясанные бычьими жилами, разъяренные, с секачами в руках, отгоняют наседающую на них толпу, кричат, матерятся…
На крюках, куда в обычай подвешивают полти, висят дохлые собаки; кое-где под ними застывшие лужи крови – вешали и живых.
Мясники затворили лавки, повесили на мясные лари замки. Торг не ведут. Ругаются с толпой, огрызаются на подзадорки. Рышка Козырь, родной брат Махони Козыря, по прозвищу Боров, самый сильный и самый здоровенный среди мясников, захватил двухсаженное стропило и жмет им в толпу. Передние вопят: Рышка жмет страшно, сила у него буйволовая, глаза от натуги вскровенели, морда вспучилась, побагровела, шея – как дубовый комель…
– Осади! – хрипит он.
Задние напирают, передние вопят… Рышка жмет, держит толпу. Кому полегче, тот глумливо орет:
– Псятинки – на закуску!
– Секани-ка ляжечку!.. С шерсткой!
– Рышка!.. Боров пузастый! Пуп распупится!
– Хрен вам в нюх! – хрипит Рышка.
Остальные мясники побрали дреколье, тыкают им, махают, а один по-иному смекнул – водой из отстойной ямы. Бухнул в нее пешней, пробил лед и поливает по головам.
От такого купания толпа подала назад. Рышке стало полегче.
– Ге, лупандеры! Токо бы и пялили зеньки! – орет он.
– А чего нам – поглядим!
– Ловчено с вами сыграли!
– Не ловчей, чем с вами! – огрызается Рышка.
– Сорок дён смехоты!
– Слышь, Рышка?.. Кабыть тебе ишо на пуп соли сыпнули!
Рышка злится, сопит. Которые с ним лицом к лицу, те молчат, не растравляют его – боятся. Знают: разойдется Рышка, всем мало места будет. Не раз видывали, как Рышка быка за хвост на землю валит. Но те, что подальше от его кулаков, подзуживают:
– Небось и на постели тебе кобеля сунули?
– Слышь, Рышка?.. А, Рышка?!
– Ну, чаво? – нехотя отвечает Рышка, ожидая подвоха.
– А никак ведьма вам кобелей нацепляла?
– Эге ж, ведьма… Така, как ты!
– Да у мене и хвоста-то нет!
– Спереди у тебя хвост!
Толпа гогочет, колышется, сзади уже не напирают, но народу прибывает и прибывает.
– Ужо не спущу я ноне плотницким, – грозится Рышка. – Будут они у мене тесаны!.. Эй, слышьте, плотницкие?! Есть вы тута?! Задира ваша вам даром не сыдет!
– Не сыдет! – подгукнули Рышке и другие мясники.
Мясницких на Москве боялись все. Занятие у них было такое, что без силы и ловкости не управиться, – вот и подбирались там мужички дебелые и ядреные. Задираться с ними – себя не жалеть! Даже кузнецы, тоже не без силы, и те не решались ввязываться в драки с мясницкими. Если выходили на кулачный бой мясницкие, все отступали. Двумя, а то и тремя улицами ходили на них – и все равно не одолевали. Однажды на потеху царю сошлись они с кадашевскими да бронницкими слободчанами, полдня бились, истерзали слободчан, избили их в кровь, изломали им кости, но и сами три дня крамарен не отмыкали и торга не вели. Рышкин отец помер от того боя: стар был, не выдюжил. А слободчане целую неделю таскали на погост покойников. Царь от такой потехи в гнев пришел и запретил с той поры кулачные бои.
Истосковались московиты по кулачной потехе. Покуда царь был в Москве – терпели, не хотели плетей получать. А как ушел он в поход – почуяли свободу, и загулял в них задор. На третий день по отъезду царя дворовые чеканщики споили пушкарей, стоявших на Варварской стрельнице Китай-города, и выпалили из пушки тухлыми яйцами по Варварке. Окольничий Темкин, оставленный в Москве с сотней черкесов для держания порядка, тех пушкарей поставил на правеж да жалованье им усек на два алтына, а чеканщики ходили по торгу и бахвалились, что выпалят еще и по Ильинке – с Ильинской стрельницы. Пушкари этой стрельницы не подпускали теперь к себе никого: боялись, чтоб и им не угодить под плети.
По субботе завелись меж собой на торгу гончарники: перебили все свои горшки, кувшины, миски… Пять возов черепков вывезли с гончарных рядов. Весь месячный наработок перетрощили в запале. А в воскресенье, перемирившись в кабаке, потащили на кулачки бондарей – за то, что будто те осенью торговали гнилыми кадками. Сошлись опять прямо на торгу, у собора, уж и кожухи поскидали, да попы развели, не дали возле храма Божьего буйству грешному разразиться. Пошли они на Москву-реку, да, покуда шли, позабыли, из-за чего сыр-бор загрелся. Повернули опять в кабак.
Окольничий Темкин ездил по торгу с черкесами и подсмеивался и над бондарями, и над гончарниками: хотелось ему стравить их, чтоб потешиться в царское отсутствие кулачным боем. Не стравил – вернулся в Кремль злой. Два дня не появлялся на торгу.
Нынче, только выехал из Никольских ворот, увидел толпу в мясных рядах и помчался с черкесами во весь опор.
Сидящие на крышах увидели скачущих черкесов, закричали, замахали руками… Да куда тут бежать!
Черкесы вломились в толпу, подняли коней на дыбы: засвистели нагайки, завопили люди, захрапели испуганные лошади…
Темкин орудовал саблей – хлестал плашмя по головам, по спинам… Какой-то мужичина подвернулся под лезвие – полоснулась сермяжная ферязина до самого тела, мужик выгнулся, взвыл, глянул волчьим взглядом на окольничего и пустил в него какое-то бранное проклятие. Темкин не расслышал, но погрозил мужику саблей. Мужик, скорчась, исчез за спинами.
Вскоре ни одного человека не осталось в мясных рядах. Даже сбитые и подавленные старались поскорей заползти за какой-нибудь ларь… И в соседних рядах не осталось ни души – разбежались со страху. Только на крышах еще сидели людишки, боясь спускаться, чтоб не попасть черкесам под руку.
Попрятались и мясники. Один Рышка Козырь стоял с поломанным стропилом в руках среди перевернутых ларей, развороченных настилов и навесов. Валялись шапки, рукавицы, сумки, корзины, какие-то крюки, топоры, хомуты…
Рышка прихохатывал от удовольствия, гордо выпячивая свое большущее пузо. Темкин грозно надвинулся на него конем.
– Эй, обрин! Пошто учинил бучу?
– Бучу не учиняют, болярин, буча сама учиняется.
Темкину, видно, понравилось, что Рышка назвал его боярином: он усмехнулся, с любопытством спросил:
– А еще чего скажешь?
– А боль ничаво. Зря-то баить не свыклай.
– Ан врешь! Пасть-то широка, и зуб редок.
– Пасть, чтоб попасть, болярин! А зуб редок – так, бают, кобыла лягнула.
– Ну а псов пошто на крюки поцеплял? Блаженным на диво иль кому во вред?
– Через псов, болярин, у нас с плотницкими крутая выйдет! То они нам кобелей нацепляли. Эй, братя! – крикнул он попрятавшимся мясникам. – Выходь ужо!..
Мясники по одному стали вылазить из своих схованок. Но к Рышке не приближались, стояли поодаль – боялись Темкина.
– Мясницкие! – угрозливо крикнул Темкин. – В приказ похотели?!
– Не по нашему злу, болярин, – загалдели мясники. – Кабы нас не замали… Плотницкие – анафемы!
– Уж и вы не ангелы!
– До шкоды мы не падки, болярин, – твердо сказал Рышка. – Ежели где и што… так не по-зряшному. За честь свою стоим.
– Честь ваша – лузга гречишная!
– У кого што, болярин, – спокойно, с достоинством проговорил Рышка. – И мурав за честь свою стоит. Ужо мы сыщем с них, с плотницких, – сказал и покачал в руке стропило.
– Но-но! – пригрозил Темкин, хотя и знал, что никакие угрозы не подействуют на мясницких и они сделают так, как надумали. – Дьяки сыщут…
– То нам не вправ, балярин. Дьяки – пером, а мы – гужом.
– Но-но! – еще строже осек Рышку Темкин. – Гляди ты мне!
– Так бается, болярин, – невозмутимо ответил Рышка.
– Бедовый, гляжу, ты! – подивился Темкин, но больше нападать на Рышку не стал. Стеганул своего каракового и поскакал вдоль торга.
Черкесы с гиком пустились за ним.
4
У Покровского раската[23], в кабаке, который на Москве зовут «Под пушками», людно с самого раннего утра. Подьячие, писцы, дрягили с Мытного двора, пекари, привезшие чуть свет на торг свои хлебы, стрельцы, ярыжки толкутся у раската неотступно.
Вдовая кабатчица Фетинья держит кабак в порядке, в прибыли. Хоть и не больно просторно у нее, зато тепло и чисто. Столы и лавки всегда скребаны, полы и стены мыты с полынью, чтоб клопы и блохи не плодились, на стенах фряжские листы[24] с разными диковинными птицами и зверями. Сама Фетинья всегда нарядная, в дорогом кокошнике с бисерным окладом, ласковая, уступчивая – может и в долг налить.
Фетинья еще молода, по-вдовьи томна, соблазнительна и красоты поразительной. Мужики вокруг нее – как мартовские коты!
– Фетинья, поди, три года немужня… – заводят они с ней хитрый разговор.
– И чиво?..
– Ды как – чиво? Телка и та хвост дерет!
– Телку быки замают.
– Тебя нежели – телки?..
– Буде, и телки! – Фетинья засмеется, закраснеется, но глаз не потупит, обожжет приставоху горячим взглядом, так что у того горло судорогой перехватит.
Нынче у Фетиньи Сава[25] плотник с артелью гуляет. Фетинья свежего меду достала из погребца-медуши, уважила Саве.
Буен Сава в гульбе – первый на Москве задира и зачинщик всех дурачеств, но и плотник искусный. На весь край знаменит. С Постником Бармой собор Покрова на рву ставил да и царский дворец в Александровой слободе рубил, за что ему царь пятьдесят рублей пожаловал сверх корма и приговорного жалованья.
Сава невелик, костляв, замухрыст… Голос у него сипл – от верховых ветров, продувших его насквозь на куполах соборов и церквей, глаза ленивы, но веселы. Сава безбород, голова курчава и рыжа, как пожухлая осенняя трава.
– Песню бы загуляли, братя, – сипит Сава, прикладываясь к березовому корцу, куда Фетинья услужливо плеснула медовухи. – Нутру измоторошно!
Из угла один из артельщиков тонким бабьим голосом затягивает:
Эх, ды застучали сякиры-топоры…
Голос его дрожит, слабеет, вот-вот обсечется, но тут дружно, с тяжелым выдохом вступают остальные артельщики:
Эх, ды застучали ва темном бару…
Вышедший по нужде на улицу пьяный артельщик стоит под стенкой, упершись в нее лбом, и плачет.
Из кабака доносится угрюмое:
Эх, пашто падсякают пад корню,
Пашто клонют младую главу…
Рядом с кабаком на двух колках, врытых в землю, стоит большая черная доска под двускатным навесом, исписанная густыми белилами. Возле доски другой пьяный артельщик держит за бороду щупленького подьячего, сует ему под нос копейную деньгу и настырно требует:
– Чти, строка, чего на доске писано? Чти – копейную получишь!
Подьячий осторожно высвобождает из лап мужика свою бороду, берет у него деньгу, внимательно ее осматривает.
– Резаная[26], – говорит он обидчиво и возвращает монету артельщику.
– Чти, анафема! – вскидывается артельщик и снова пытается ухватить подьячего за бороду. – Чти, вя то!..
– Ну, давай, давай, – соглашается подьячий и берет монету. – Ишь, ерепен какой! До митрополичьего указу он охочий! Ну, внимай… А деньга все же резаная.
– Ды я табе яшо корец меду выставлю, – хрипит ублажаючи артельщик.
– Ну, внимай! – Подьячий начинает читать писанный полууставом митрополичий указ: – Не велено священническому и иноческому чину по священным правилам и соборному уложению в корчмы входить, упиваться, празднословить, браниться…
– Вон чиво?! – дивится артельщик.
– …и каки священники, диаконы и монахи учнут по корчмам ходить, упиваться, по дворам и улицам скитаться пьяны, сквернословить и биться, таких бесчинников хватать и заповедь на них царскую брать – по земскому обычаю, как с простых людей, дражников, берется, и отсылать чернцов в монастыри к архимандритам и игуменам, и те их смиряют по монастырскому чину…
– Эва!.. – икнул мужик. – По таку строгость чернцы начисто перемрут. Людяче ж, поди, в них нутро, а?
Подьячий не ответил, продолжил чтение:
– А попов и диаконов слати к поповым старостам, каки являют их святителям, и святители правят их по священным правилам. На каковом чернце заповеди не можно доправить, то взять заповедь на том, кто его поил. Не велено також, – повысил голос подьячий, – чтоб православные христиане от мала и до велика именем божиим во лжу клялись, на кривь креста целовали, непристойными словами бранились, отцом и матерью скверными речами друг друга попрекали. Бород чтоб не брили и не стригли, усов не подстригали, к волхвам, чародеям и звездочетам не ходили.
– Ох, лыгаешь, самочей, – прищурился одним глазом мужик. – Разе могет митрополит так указать? Како ж люди промеж себя говорить-то будут?
– Побожиться тебе, Фома-невер?!
– Побожись!
– Вот те крест! – истово перекрестился подьячий.
Артельщик горько сопнул, растянул губы и заплакал. Слезы рясно побежали по его растрепанной бороде. Он размазал их по щекам, по носу, трясущимися руками достал из череска[27] еще одну серебряную монету, протянул ее подьячему.
– Бери последнюю… Все одно теперя… Померла Расея! – взмахнув руками, крикнул артельщиц и, шатаясь, пошел в кабак.
В кабаке Сава опаивал артельную братию. Перепадало и ярыжкам – им Сава тоже подносил. Ярыжки сидели у порога: дальше их не пускали, чтоб пол не следили и не воровали. Ярыжки сосали из разбитых, повыщербленных горшков и мисок хмельную медовуху – Фетинья не давала им ни корцов, ни ковшей, – блаженно щурились на Саву, кивали ему головами, как кони на водопое, и готовы были молиться на него.
В кабаке было испарно. От горящих лучин шел крутой смоляной запах. Сава сидел без кафтана, в одной миткалевой набойной подпояске, красный, хмельной, но гордый и важный. Ярыжки лебезили перед ним, подольщались. Сава делал вид, что не замечает их, но время от времени сурово приказывал Фетинье:
– Поднеси-кось злыдным!
– Савушка, царько наш радемый! – со слезами бормотали ярыжки и становились перед ним на колени.
Артельщик, которому подьячий читал митрополичий указ, войдя в кабак, затянул с порога, как дьякон в церкви:
– Померла Расея! Христиане, Расея наша померла. – Он захлебнулся слезами, уронил голову на грудь, замотал ею в отчаянье.
– Фетинья, – сказал лениво Сава. – Взвару[28] Фролке, пущай горю свою ублажит. Да не в корце… Горю корцом не ублажишь. Подай ему скопкарь. Садись, Фрола, поминай Расею!
Фетинья принесла скопкарь со взваром, ставя на стол, коснулась плечом Савы… Сава сопнул, захватил ее за пояс одной рукой, другой ловко подернул подол.
– Не лапь, – спокойно отвела его руку Фетинья. – Не по тебе лас.
– А уж не по мине?
– А не по тебе…
– Не пригож аль претен?
– Квол, – хохотнула Фетинья.
– Эх, дура баба! – оживился Сава. – Хилое дерево завсегда в сук растет! Кабыть допустила до себе, я б тебя быстро умаял!
– Кабы сам не умаялся!
– Эх, баба! – пуще заеборзился Сава. – Ни в укор, ни в перекор – реку пред честным народом: коли не умаешься, рублю тебе избу новую! А попросишься – мед и пиво нам даром будут.
– Экой бахвал! – засмеялась Фетинья. – На посуле, что на стуле: посидишь и встанешь.
– Пред честным народом реку! – ударил себя в грудь Сава. – Рублю избу! Пятистенку!
– И крест поцелуешь? – подхитрилась Фетинья.
Сава вытащил из-под рубахи нательный крестик.
– Пред Богом и пред честным народом – целую крест!
– Гляди ж, крест целовал, – потупившись, тихо сказала Фетинья.
Артельщики захохотали, загалдели, понесли похабщину. Ярыжки у порога скабрезно похихикивали, пялили глаза на Фетинью.
Сава цыкнул на артельщиков, ярыжкам пригрозил:
– Угомоньтесь, братя! Не мутите бабий стыд. Не по похоти она, но чтоб нашу мужью породу под позор подвести. Так на том ей не встоять! Не быть мине Савой!
5
Марья лежала на шелковых подушках – голая, разметнувшаяся, изнемогшая от беременности… Черные, воспаленные глаза зло метались в глазницах. С нетерпением ждала Марья, когда мамки оботрут ее влажными рушниками. Она уже не ходила в баню – была на сносях.
В спальне стоял розовый полумрак. Сквозь слюдяные окошки пробивался розовый свет, похожий на дым от кадильниц. Свет висел легким пологом, не касаясь ни стен, ни пола, ни потолка, отчего спальня казалась похожей на глубокий темный колодец.
Закусив губу, Марья изнывала от нетерпения. Мамки неслышно, как тени, двигались по спальне, плескались водой, хлопали мокрыми рушниками, перешептывались…
– Алена!.. – плаксиво и зло вскрикнула Марья. – Приведи старуху.
Алена, худенькая, смиренная девка, послушно юркнула за дверь. Она была любимой служанкой Марьи. Только ее одну звала Марья по имени, у остальных и имен не знала, не терпела никого и скрепя сердце допускала к себе.
Алена ввела в спальню здоровенную усатую старуху, похожую на стражника кремлевских въездных ворот.
Марья, увидев ее, съежилась, подобрала под себя ноги, с отвращением и страхом спросила:
– Ты кто?
– Та я, кто тебе нужен, матушка, – грубым мужским голосом ответила старуха, сняла телогрею и решительно направилась к Марьиной постели.
– Не зови меня матушкой, – зло приказала Марья.
– Завсегда так величают у нас цариц, – невозмутимо пробасила старуха.
– Так зовут у вас старух, – процедила сквозь зубы Марья. – Зови меня государыней!
– Как тебе угодно, радость моя. Буду величать государыней.
– И знай!.. – Марья прищурилась, стиснула зубы. – Прежнюю свою повитуху я плетьми высекла и вон выгнала!
– Нерадива была кумушка моя? – спокойно спросила старуха.
– Колдунья!
– Ох, сатанье дело… – перекрестилась старуха.
Закрестились, зашептались мамки. Алена выронила из рук медный таз – он звякнул об пол, резко и пугающе, как истошный вскрик. Марья в ужасе завизжала:
– Пошли вон! Змеи! И ты, Алена… Нет, ты останься! Я боюсь сей ведьмы!
Мамки ушли. Где-то в глубине дворца затихли их осторожные шаги, замерли приглушенные голоса. Алена стала у Марьиного изголовья, принялась собирать и сплетать ее волосы.
– Пошто яростишься, государыня? – стараясь приглушить свой грубый голос, ласково проговорила старуха и приклонилась к Марье. – Плодная же ты… А ярость плод гнетет. У ярых плодниц худая рожа[29]… и дети хилы рождаются.
– Накаркай… Язык вырву!
– Баю, что извеку ведомо.
– Что еще тебе ведомо?
– Вельми много, государыня. Век мой долог…
– Волховством плод в утробе сгубить можно?
– Можно, государыня. Наговорным зельем – до второй и до третьей луны. А после третьей луны Господь Бог свое око кладет на младенца: ничем уж тады не сгубить, не вытравить его. Ежели токмо грех тяжкий взять на душу…
– И ты колдунья! Вижу, колдунья! – задрожала Марья, вырвала у Алены свои волосы, крепко прижала зачем-то их к груди. – Или ведьма! Вон какая страшная!
– Бог не дал мне родиться такой пригожей, как ты, радость моя, государыня! Ты пригожа, как царица небесная! А у меня душа теплая и ласковая. Не страшись меня. У колдуний зубы черевинные[30] в небо вросшие… А у меня их вовсе нет.
Старуха раззявила перед Марьей свой большой, дурно пахнущий рот, показала голые белые десны. Марья брезгливо сморщилась, но все же заглянула в старухин рот.
– А ворожить умеешь?
– Ворожить умею, – не колеблясь созналась старуха. – Бог не простит мне на том свете, не отмолить мне сего греха.
– Как ворожишь?
– На бисере, на толокне, на черном шелке… По руке и по зубам. Могу на старой подкове… на воде, под Ивана Купала. Еще могу на рыбьем пузыре и курячьей косточке.
– А от дурного глаза отводить можешь?
– От дурного глаза – не могу.
Марья пристально посмотрела на старуху – в ее взгляде мелькнуло недоверие, но она подавила его в себе. Измученно откинулась на подушки, прикрыла рукой глаза.
Невидимой, чуткой подслушницей затаилась в спальне тишина. Тени по углам казались похожими на черных монахинь, сидящих на высоких стульях, так что головы их упирались в потолок, а ноги уходили куда-то под пол. В окошках все меньше и меньше оставалось света. Вечерело. На соборной звоннице Кремля ударял колокол – к вечерне.
Марья положила руку себе на живот, повернула голову к старухе:
– Скоро?
Старуха наклонилась над Марьей и тоже положила ей руки на живот. Марья вдруг вскрикнула, ударила старуху по рукам, что-то злое пробормотала на своем родном языке.
– Что с тобой, радость моя, государыня?
– Ты холодна, как змея!
Старуха сильней захватила Марью руками, строго сказала:
– Потерпи, радость моя. Добрые руки завсегда холодны, а недобрые – горячи и цепки.
Она приложилась ухом к Марьиному животу, затаилась, послушала что-то, одной ей ведомое, общупала Марью, снова приложила ухо, послушала, твердо сказала:
– Скоро, государыня.
– Когда?..
– Как Бог даст.
– Распознать можешь – кого рожу?
– Ежели первые три луны тяжко брюхатила – малец будет, а легко – девка. Да ежели йжу всякую лакомо ела – також на мальца выйдет.
– Ступай!
Старуха ушла. Алена плотно притворила за ней дверь, зажгла свечи. В спальне стало светло, уютно. Темными, многоцветными переливами засветились на стенах ковры, зарделись золотые пиалы на трапезном столике, белым пятном проступило овальное булатное зеркало.
Рядом с Марьиной постелью на деревянных вешальницах висели ее царские одежды – тяжелые, шитые золотом и жемчугом; на невысокой подставке на алом бархате лежал ее царский венец, отделанный сканью и драгоценными камнями. Чуть подальше, под стенкой, на сундуках, лежали ее девичьи наряды, привезенные из Кабарды. Она больше не надевала их: Иван не любил и не терпел этого ее наряда, который напоминал ему о прежней Марьиной вере. Марья хранила свои девичьи наряды в сундуках, чтоб не раздражать Ивана и их общего духовника – протопопа Андрея, который грозил ей небесной карой за облачение в ее басурманские одежды. Но иногда, когда грусть и тоска начинали нестерпимо донимать ее, когда все, что окружало ее теперь, становилось ненавистным ей, она приказывала Алене доставать из сундуков свои девичьи наряды. Алена раскладывала поверх сундуков разноцветные шальвары, халаты из персидского алтабаса, золотые нагрудники, тапочки, унизанные самаркандским баласом, с алмазными подвесками, сафьяновые ичетки[31], пояса, браслеты…
Вселялась тогда в Марью давняя радость девичества, от которой уже навсегда отделили ее царский венец и нелегкая доля московской царицы, но которая еще оживляла в ней теплотой светлых воспоминаний ее прежнюю доброту и ласковость. Преображалась Марья, успокаивалась, утешенная давнишними радостями своего еще не забытого девичества. Она как будто забывала на некоторое время о своей царственности, становилась веселой и проказливой, как девчонка: не мытарила мамок, не помыкала Аленой, дарила им подарки, кормила изюмом, играла с ними тайно в кости, выучившись этой игре у самого царя.
Только со временем все реже и реже приказывала Марья доставать свои девичьи наряды: ожесточала ее однообразная, затворническая жизнь, истомляли дворцовые палаты, темные опочивальни… Одиночество угрюмой сиделкой коротало с ней долгие дни и ночи, и все меньше и меньше радости приносили Марье ее воспоминания, и все равнодушней взирала она на свои девичьи наряды – они превращались для нее в простое тряпье, ненужное и никчемное, которое уже давно стоило бы выбросить, да почему-то не хватало духу.
Вот и нынче – с самого утра велела Алене раскрыть сундуки, а не повернулась, не глянула… Целый день лютовала, над мамками измывалась, хлестала их по щекам да выкрикивала проклятья на своем непонятном языке.
Алене жалко Марью, но она боится ее – не решается ни заговорить с ней, ни занять чем-нибудь… Да и страшно Алене быть одной с Марьей. Страшат ее жгучие Марьины глаза, страшит ее жгучий шепот… Алена крестится украдкой на образ Богородицы, сверкающий золотым окладом из святого угла… Взор Богородицы кроток, потуплен – она как будто не хочет видеть Алениных страданий, и от этого еще страшней становится Алене.
– Ежели помру, небось обрадуешься? – жестко выговаривает Марья.
– Бог с тобой, государыня!.. Пошто мне такой грех? Люба ты мне. Прикажи, смерть за тебя приму.
– Мамки уж непременно обрадуются…
– И мамкам ты люба… Кротки они, государыня моя.
– Ежели помру, государь в первую же ночь тебя под себя потянет!
– Господи Исусе!.. – повалилась на колени Алена. – Государыня!.. Христом Богом заклинаю! Пошто страшное такое на меня накликаешь? Чиста я пред Богом, пред тобой, пред всем светом!
– Оттого и потянет, что чиста! Ты пригожа… А государь – мужик!
Алена стояла на коленях – бледная, с черными губами… За ее спиной затаилась Богородица: у нее Алена уже не решалась искать заступничества.
Свечи оплыли, но горели ярко. В спальне стало еще жарче: к ночи во дворце топили посильней. С улицы в стену хлестал ветер; иссеченные на множество ячеек слюдяные оконницы тихо погудывали от его крепких ударов, скрипели и стукали ставни… С вечера их затворяли, но нынче, видать, забыли, и теперь они будут бухать в стену, пока не разозлят Марью и она не вышлет Алену в темень, в мороз захлопывать их.
– Ты привела мне того человека? – вдруг строго спросила Марья.
– Привела, государыня. С полудня дожидается.
– Укрой меня и приведи его.
Алена укрыла Марью шелковым покрывалом, ушла в маленькую боковую дверь. Марья нетерпеливо покусывала край покрывала, всматривалась в темноту за дверью.
Алена ввела невысокого смугловатого человека в светлом мухояровом кафтане, перехваченном по талии черкесским ремешком; черная, с рыжиной, борода старательно умащена и учесана, на макушке вышитая шелком тафья. Глаза хитрые, быстрые. Увидев Алену на свету, нахохлился, как петух, вцепился в нее похотливым взглядом, даже Марье забыл поклониться.
– Айбек, – с притворной ласковостью промолвила Марья. – Буде, ты увидишь меня и поклонишься?
– Прости, государыня! – низко и подобострастно поклонился вошедший. – Вели казнить! С темноты в свет – в глазах провал.
– Айбек, братья мои тебя жалуют?
– Да хранит их аллах, государыня!
– Забудь аллаха, Айбек, не то висеть тебе на вертеле, как барану. Христианин ты, Айбек, тебя русский поп крестил.
– Крестил, государыня… И крест на мне.
– Запомни, Айбек, нет у тебя иного Бога, кроме Исуса Христа. И слушай меня… Подступи ближе.
Марья приглушила голос, почти шепотом стала говорить:
– Айбек, ты нашей крови, хоть и похож ликом на московита. Оттого я тебя и позвала. Исполнишь, что повелю, – получишь ее! – Марья кивнула на Алену, не отводя испытывающих глаз от Айбека; увидела, как шевельнулись у него ноздри, презрительно усмехнулась. – Пойдешь в город, на посад, станешь чернь на бунт подбивать. Подговаривай меня убить… Кремль спалить… А царем – иного крикнуть… Боярина Горбатого! Чернь к его подворью веди… Пусть кличут его царем. А ты слушай и смотри… Самых злобных замечай! А боярину в ноги кланяйтесь, зовите царем… Затаился, старый шакал! Да дрогнет в нем злоба, выйдет он к черни. А выйдет – беги тайно в Кремль, к Темкину, бери черкесов…
Марья закусила губу, сузила глаза, темные пятна на лбу и на щеках сильней проступили сквозь ее бледноту. Она трусливо и злобно прошептала:
– Царь мне спасибо скажет!
– А ежели чернь в Кремль попрет?
– Решетки на воротах опущены – не пройдут.
– На стены полезут.
– На стены не влезут. Стрельцы – на что?! И ты – хитро заманивай их на боярина, к нему веди… Самый ненавистный наш враг! Царь его и во сне поминает.
6
Над Москвой морозный ясный рассвет.
За Яузой из-за далеких белых холмов поднимается оловянное солнце.
На Москве-реке прорубщики пробивают затянувшиеся за ночь проруби: клубы пара вырываются из ледовых прорех, густым ворсом инея покрывают бороды, усы, шапки…
– Добря, братя! – перегукиваются прорубщики.
– Добря!
– Жгистый морозень!
На Ильинке, в церкви святой Татьяны, престольный звон. Старухи, молодки, боярыни с челядными девками и мамками, купчихи, дворянки стекаются на Ильинку со всех концов Москвы, чтоб поклониться своей тезоимениннице Татьяне.
Бабий праздник: бабы разряжены, нарумянены, чопорны… Именинницы раздают нищим гостинцы, деньги.
Посадская детвора гурьбой гоняется за боярскими санями, на шеях у них висят сумки, куда они складывают доставшиеся им подарки. Боярыни щедры: бросают детворе пряники, калачи, яблоки… Нищим боярыни раздают одежду. Галдеж стоит возле боярских саней: нищенки рвут друг у дружки барские обноски, ссорятся, дерутся… Боярыни унимают их, да где там! Они и на боярынь наскакивают, хватают за полы, за рукава – вот-вот постаскивают с боярынь и то, что надето на них.
На паперти зыкастый пономарь продает четки, нательные крестики, маленькие наперстные иконцы и складни с ликом святой Татьяны.
– Матери и щери![32] – зычно, с привздохом, выстрадывает он. – Иже не минете святой прудажи, ино минут вас беды и напасти!
У пономаря рыжая с прочернью борода, рваные ноздри, – видать, за какой-то давнишний разбой, – поверх доброй камлотной рясы старый, замызганный зипунишко, на ногах бурые еще от летней пыли каржаки. Левой рукой пономарь скребется в бороде, в правой – связка крестиков, иконок, складней. Он сует их под нос каждому, кто приближается к нему, настырничает, угрозливо бубнит:
– Полденьги четки, полденьги крест. Матери и щери!
По другую сторону паперти – другой продавец, торгующий свежевыпеченными калачами и курбышками[33]. Он кричит, перекрикивая и забивая пономаря:
– Калачи, курбышки! Малыши, да хороши! Помяните Татьяну не спьяну, а хлебом насущным!
Над всем этим гомоном висит тяжелый перегуд колоколов. По куполам скачут резвые солнечные зайчики – оранжево-золотистые, слепящие… Над угрюмым, черным Кремлем целое зарево: горит золото на Архангельском, на Успенском, на Благовещенском… Кремлевские стены и стрельницы упорошены свежим снегом – черное с белым делает их еще суровей. Кремль кажется мертвым, пустым, заброшенным. Ничто не выдает его затаенности, только черные зраки пушек зорко и настороженно следят из узких бойниц за оживающим городом.
От Бронной слободы потянуло дымом – кузнецы вздули горны. От басманников дохнуло крутым горчичным запахом свежевыпеченных дрожжевых хлебов.
Пахло прогорклой прелью сырых березовых дров, снегом, зимой… Ветер смешивал запахи, разносил по городу.
На торгу текали топоры. Чуть свет начали они свой перестук – не часто, не громко, словно таились. Сава-плотник с артелью ставил Фетинье новую избу.
Торг оживал: открывались крамарни, лавки, заезжие купцы расторочивали возы, зачинали торговое дело.
Люду прибывало. Всяк, кто оказывался на торгу, перво-наперво шел поглазеть: что за дело учинилось, отчего вдруг застучало на торгу топорье? Преминуть, не узреть – не в обычае русского человека. Все обойдет, все обсмотрит, на ус намотает – купить не купит, а любопытство свое ублажит.
Дотошные перешушукивались, ехидно прицокивали языками, гадали: отчего это Сава, сам Сава, да еще зимой, избу взялся рубить? Аль нет ему иной работы – посложней да подороже? Царские хоромы рубил да божьи храмы, теперь Печатный двор на Никольской ставит, а тут с простой избой порвется, которую любой топорник, без Савиного снорову, за пять ден поставит.
Заядлые насмешники затравливают Саву, тянут его на разговор:
– Эй, Сава, уж не Фетинье ли новую избу под кабак ладишь?
Сава молчит, дуется, да только шила в мешке не утаишь.
– Такой бабе и чавой-т иное сладить не грех!
– Гляди, Сава, женкой станет, всю жизнь у ее поститься будешь! Красуни привередливы!
– Ды ему на что иначе? – выкрикнул кто-то весело и глумливо. – Ен не перекорил ее своей мужьей силой!
Не вытерпел Сава, оставил тесло. Понял, что не отмолчаться, не удержать тайны – все равно обо всем дознаются и разнесут по Москве его позор да еще приплетут невесть что, чего и не было вовсе. Он потаращил глаза на толпу, будто не она дивилась на него, а он на нее. Сколько рож, и каждой, поди ж ты, потешно и дивно – и все только оттого, что он, Сава, сидит на бревне и тюкает по нему топором. Саве и самому стало весело.
– А что, правослане?! Коль задницу покажу, хохотать аль креститься учнете?
– У тебя задницы-то! – засмеялись в толпе. – У нашего попа морда больше!
…Сквозь толпу продирался Рышка Козырь. Расталкивал, распихивал, матерился, кое-кому и по загривку съездил! Продравшись наконец наперед и увидев Саву, громко и вызывающе сказал:
– Эй, Сава! Се я, Рышка Козырь! Небось знашь такова?
– Чём не знать?!
– Пришел я потроха с тебя повымать да на те крюки, куды ты кобелей цеплял, поцепить.
– Диво варило пиво! – выставился Сава на Рышку. – Слепой увидал, безногий с ковшом побежал, безрукий сливал, ты пил, да не растолковал!
– Аль отпираться станешь? Так я живо тебя в память введу!
Рышка подступил к Саве, показал ему свои здоровенные кулаки.
– Ох и еборзист ты, Козырь! – Сава вскинул на плечо топор, сплюнул через губу, засмеялся: – Пошто отпираться? Не в нашей породе ховаться в чужом огороде! Коли пришел на кулачки звать, так зови. Здыбамся мы с вами! А буде, ты один засобрался супротив нас встать? Так то нам не в честь!
– Ух ты, не в честь?! – удивился Рышка. – У собаки чести – клок шерсти.
– А кобелю и того не взвелю!
В толпе засмеялись, загукали:
– Ай да Сава! Ну и хват!
– Уходь, Рышка! Заговорит тебя Сава – умом тронешься!
– А ну! – гыкнул в толпу Рышка. – Погомоньте ишо, быдлаки кривопузые!
Рышку боялись: толпа позатихла, только кто-то, самый отчаянный, еще крикнул:
– У самого-т утроба по земле волочится! Копной набит, в кожу зашит!
Рышка выскалил глаза, напыжился, неуклюже, по-бычьи, двинулся на передних.
– Тикай, людя! Боров взъярился!
Шарахнулись кто куда.
– Видал?! – совсем уже без злости, ублаженный и потешенный, сказал Рышка Саве. – Все мене боятся! Потеперь вам в честь?..
– Супротив тебя единого – никак не в честь! Верно баю, братя? – оборотился Сава к своим артельщикам.
– Верно, – прогудели артельщики. – И верх наш, и срам наш.
– Ставим сотню супротив вашей сотни, – сказал Сава.
– Эге ж!.. – осклабился Рышка, поприкинул что-то в уме, прищурился на Саву, кинул шапку наземь. – Горазд!
Кинул шапку и Сава.
– Эх жа и потешимся! – просипел он и толкнул Рышку в бок. – В неделю[34], на Кучкове.
Рышка добродушно присоветовал:
– Проть мене не становись. Угроблю!
7
По Москве, быстрей, чем самая добрая или самая худая весть, разлетелся слух о предстоящем кулачном бое между мясницкими и плотницкими.
Плотницкие были самыми заядлыми на посаде. Вечно они завязывали драки и потасовки, буянили спьяну, сквернили и досаждали соседних уличан. За это их недолюбливали на Москве и потому тайно злорадствовали, что наконец-то плотницких проучат, выбьют из них спесь и дурь.
На торгу ворчали, что воскресной торговли не будет: все уйдут смотреть бой. Иногородние купцы, наоборот, были довольны: они хоть и теряли воскресную торговлю, зато могли своими глазами увидеть знаменитый московский здыб. По всей Руси славились московские кулачные бои. Нигде больше не могли так яро, упорно и красиво биться, как на Москве. Тверичи начинали с кулаков, а заканчивали дрекольем, новгородцы доставали кистени, псковичи всегда хитрили – то прятали в рукавицы свинец, то ладили на грудь и живот защиту. Лишь в Москве бились начестно, без кистеней и без свинца в рукавицах, бились до конца, покуда какая-нибудь сторона не отступит или не сляжет начисто на землю.
На Москве ждали этого боя, как праздника: давно не тешились московиты таким зрелищем.
Всю неделю канителились мужики на ремеслах. Как после похмелья, не охотилось им и не ладилось ничего у них. Басманники даже хлеб с недопеком пекли – перекислый и невкусный, кидали его собакам, но басманников не корили. Мясницким и вовсе не до убоя и не до торговли было. Проходу им не давали: одни подзадоривали, другие с советами да поучениями лезли, а иные просто валандались следом от нечего делать, наматывая на ус сплетни и новости.
Мясницкие были сдержанны, не бахвалились, не грозились. Один только Рышка не мог унять в себе гонора, но и ему под конец надоела трепотня, унялся и он. Зато плотницкие похвалялись на каждом углу, что уложат наземь неодолимых мясницких.
Сава всю неделю кутил в кабаке у Фетиньи и хвастал, что против Рышки сам станет. Хвастать Саве, как с горы катиться, – знали это и артельщики, и все плотницкие, но хвастовство Савино подхлестывало их, раззадоривало, рвали они во хмелю рубахи и грозились разнести чуть ли не всю Москву.
На Ильинском крестце[35], у Покровского собора, где в обычай собирались безместные попы, как бы вперекор похвальбе плотницких, поп Авдий, сводный Рышкин брат, вещал таким же, как и сам, безместным попам:
– Будет вборзе благоденство, святые отцы! Да изыдет язык мой из гортани моея, аще не сбудется, яко реку вам! Будут отходные, будут и накладные!
– Дал бы Бог! – крестятся отощавшие, давно скитающиеся без заработка попы.
– Будет, реку аз! – утешал их Авдий. – Рышка сам дюжину упростает. Буести в ем, святые отцы, яко в аспиде! Понесут на погост покойничков – будет вам и ядь, и питие, и камлот на ризы.
– Дал бы Ьог!
Даже выселские из Заяузья и посадские из Занеглименья утихомирились и перестали кричать на торгу, что царь бросил Москву татарам. В предвкушении таких страстей они забыли обо всех своих страхах и радовались со всеми вместе царскому отсутствию.
Взбудоражилась Москва. В душе каждого московита заметалась разгульная смута – дерзкая, настырная… Захотелось им подержать волю, похорохориться, попротивиться! Царский запрет только раззадоривал и сильней распалял страсти. Всех проняло ликование, и не столько от предстоящего боя, сколько оттого, что идут наперекор царю.
Темкин знал об этом наваждении, охватившем городской люд. Доносили ему послухи обо всем: о разорном деле и грабежах, о разгуле посадских, о страстях на торгу и криках на площадях…
Трудно удержать город в узде с сотней черкесов. Понимал это Темкин, потому и не вмешивался, выжидал. Да ему и самому до оторопи хотелось посмотреть на бой. Горела в нем кровь истинного московита, опрометчивого и завзятого, одной рукой молящегося Богу, а другой заигрывающего с чертом. Не мог он, даже под страхом царской опалы, отказать себе в таком удовольствии. Ведь может статься, что больше не случится на Москве кулачной здыбки: царь не простит порухи своего указа и правежом, а то и плахой отучит от буйной игры.
Всю неделю не выезжал Темкин из Кремля. Сидел в думной палате, разгоряченный, изнывающий от нетерпения, жадно прислушивался к разговорам подьячих и писцов, похвалявшихся друг перед другом разными новостями, Бог весть где подхваченными ими.
Мстиславский с укором поглядывал на окольничего, нет-нет да и затрагивал его:
– Неспокойно на Москве… Гляди, окольничий, сыщет с нас царь за всю смуту.
– Семь бед – один ответ, – хитро посмеивался Темкин.
– Управил бы смутьянов…
– Всю Москву не управишь, боярин… Перебесятся – усмирятся.
8
Занудилась Москва за неделю. Еле-еле дожила до субботы. В субботу к вечерне пошли одни бабы. Мужики не решились предстать перед Богом, собираясь на греховное дело.
На Мясницкой рано погасли лучины, опали дымы над избами… Тихо, выморочно на Мясницкой, только сторож у рогаток поскрипывает промерзлым снегом.
У плотницких на улице тоже тихо. Перебесились за неделю, переерепенились. Не с легкой думой залегли на полати. Не спится многим… Скребется в душу тревога, как собака в сени с мороза. Только отступать поздно. Побитых ожалостят, а струсивших ославят, по гроб пальцем тыкать будут и подсмеиваться. Так уж поведено на Руси!
Студено. Ветер всю ночь перекатывает с места на место сугробы, полощется белыми холстинами крыш, кадит в небо, в лунную стынь, снежным дымом. До самого утра, как застигнутый ненастьем путник, хранит город тревожную угрюмость.
Утро взбадривает город. В крутых изломах низких туч еще клубится темнота, а по Сретенке уже тянется люд. Идут на Кучково поле. Кто побогаче – тот верхом или в санях: ходить пешком богатым неприлично. Перед пешим никто и шапки не снимет, не поклонится…
Промчались боярские сани. Чуть погодя – другие.
– Стерегись! Подомну!
Хлястнули по кожухам жильные батоги – вжались головы в плечи. Кому досталось – оторопело ругнулся, кому не досталось – сочувственно поддакнул пострадавшим, прошелся по боярским косточкам…
– Ишь, богатины пеньтюшивые! Тоже прут… Подавай и им теху!
– Эх, кабы хоть раз в рожею богатинную схлендать!
– Гляди, чего схотел! А засекут?!
– Пушшай!
– А пушшай, так схлендай! И за нас тожа! Свечку скопом поставим.
На Кучкове, по всему урочищу, – люд: конные, санные, пешие… Толкутся, пыхтят в заиндевелые вороты, подсигивают – мороз дерок, прозябнет. По урочищу, и крутя, и вдоль, метет поземка, вдирается под нестеганые ферязины да зипунишки. Худо тем, у кого ни шубы, ни кожуха. Но не уходят, тиснутся в гущу, мнут ногами разрыхленный снег.
Сугробы вокруг растолкли, а посреди урочища снег не тронут, целина.
Поп Авдий, торжественный, как на литургии, взывает к окоченевшей толпе:
– Миряне! Не стойте, яко древа в лесу сатанинском! Сыдите с мест своих облюбленных и прошествуйте семо и овамо[36] вослед мя, яко же шествуете вослед Господа нашего!
Авдий, подхватив руками ризу, широко, как на ходулях, пошел по глубокому снегу. Вслед за ним, безмолвно и угрюмо, двинулась толпа. Измученные морозом люди послушно шли за попом, охотно шли – ожидание изнурило их так, что они готовы были и боком катиться по этому полю.
Пройдя из конца в конец, Авдий остановил толпу, воздел руки к небу, как апостол, и возгласил:
– Чада мои возлюбленные! С Божьей помогой оборотимся вспять!
Снег на урочище взмесился, поумялся, но все равно его было много.
Авдий сокрушенно вздыхал:
– Худо, братися…
Сходились мясницкие. Чуть поодаль от них гурбились плотницкие. Их собралось уже с полусотню. Сава был среди них – верховодил.
От Рождественки через урочище легкой рысью шла тройка. Следом за ней трое верховых.
В толпе узнали буланую тройку боярина Хворостинина – никто больше не держал на Москве буланых, – узнали и троих его сыновей. Всегда и всюду неотступно, как стража, сопровождали они своего именитого отца. Всей Москве пригляделись Хворостинины этим своим обычаем. С первого взгляда узнавали их.
– Гляди, Хворостинин!.. С боярчуками!
Толпа задвигалась, удивленно зашумела.
– Никак сам?!
– А то!.. Вон, в санях, в вильчуре[37].
Было чему удивляться: почитай, год, а то и все два не видывали на Москве Хворостининых. Уж и забывать о них стали. Старый боярин хворал, каждый день смерти ждал. Сыновей неотступно около себя держал, боясь помереть не на их глазах. В Чудов монастырь вклад сделал на помин своей души, грамоту духовную составил – совсем к смерти приготовился, а услышав от сыновей про кулачный бой, велел везти себя на Кучково.
– В последний раз перед смертью хочу поглядеть, – сказал он сыновьям. – На том свете такого не увижу.
Буланая тройка развернулась… Кони, отвыкшие от узды, норовились, не хотели стоять. Младший из братьев, Петр, спешился, стал успокаивать лошадей, ласково похлопывая их по ощерившимся мордам.
Поп Авдий подошел к саням, широко, щедро перекрестил боярина:
– Божьей тобе благодати, боярин! Яко честь велию приимут черные и незнатные се твое обретание здесь!
– Как молодцы? – тихо и вяло спросил Хворостинин, но глаза его прояснились, будто высветились изнутри, по бледным щекам скользнул легкий румянец.
– Молодцы, боярин, яко жеребцы! Вожжу под хвост – и на прыть!
– Пущай начинают…
– Ежели собрались с духом – учнут, боярин!
– Поторопи…
– В таковом деле поспеха – не утеха, боярин.
– Боюсь, помру, – тихо вымолвил Хворостинин.
– Аз буду молить Бога, боярин, не призывать тя в сей лепый час!
Окольничий Темкин, стоявший в толпе переодетым в одежду стрельца, чтоб не быть узнанным, видел, как подкатили сани Хворостинина, и в душе беззлобно ругнул боярина: «Ишь, старый потешник!.. Уже двумя ногами в могиле, а туда же!» Ему захотелось подойти к больному боярину, сказать ему что-нибудь доброе, хорошее – он вдруг почувствовал невольную близость к нему, рожденную их общей страстью, которая, как заговор, соединяла их сейчас, – но сдержался: не хотел выдавать себя. На него и так уже подозрительно поглядывали, особенно стрельцы, которых, конечно, удивляло, что он держится особняком, отдельно от них. Знали бы они, что это не загордившийся их собрат, а сам окольничий Темкин – духу их не было бы на Кучкове.
Темкин поглубже натянул шапку, полез в передние ряды.
На поле вышли бойцы. Сотня с одной стороны, сотня – с другой. Поскидали шубы, кожухи, кафтаны…
Толпа напряженно молчала. Ждала. Впереди всех стоял поп Авдий, широко расставив ноги и уперев руки в бока. Неподалеку стояли и другие безместные попы, сгрудившись небольшой кучкой, – мертвенно-бледные от холода, со смерзшимися бородами, неподвижные, напряженные… Даже пар от дыхания не вился над ними – затаенно, почти не дыша, ждали они начала боя.
Бойцы стали двумя рядами – в сажени друг от друга, натянули рукавицы.
Сава стал против Рышки. На всю Москву хвалился, теперь перед всей Москвой и исполнял свою похвальбу.
– Зря ты, Сава, – опять по-доброму сказал ему Рышка. – Угроблю я тебя.
– А ты меня не стращай! – угрюмо съязвил Сава. – Небось брюхо не толокном набито – пробью!
– Ну, Сава, – уже по-настоящему пригрозил Рышка, – теперя держись! Эй, братя, – крикнул он своим, – взяли их!
Кто-то негромко сказал:
– Господи, поможи…
Ряды сошлись. В напряженной тишине глухо раздались первые удары и первые стоны.
Рышка прицелился Саве в грудь, изловчился и изо всей силы выстрелил кулаком. Даже зубы клацнули у него. Сава вертко откинулся в сторону, вжался головой в плечи – Рышка только обдал его своим жарким дыханием и со всего маху, тяжело, как подрубленное дерево, рухнул на снег.
– Ух ты, боже мой, – испуганно перекрестился Авдий, увидев, как завалился Рышка.
Попы за спиной Авдия дружно глотнули морозного воздуху. Из толпы отчаянно выкрикнули:
– Рышку завалили!
– Вставай, братушка! – дрожащим голосом прокричал Авдий.
Рышка поднялся, растерянный, беспомощный, с залепленным снегом лицом… Сава подскочил к нему, быстро саданул в грудь – раз, другой… Рышка протирал глаза. Сава еще раз ударил его. Рышка даже не пошатнулся, только поискал Саву рукой, как слепой, и сплюнул набившийся в рот снег.
В толпе захохотали. Кто-то по-деловому присоветовал Саве:
– В дышло его!
Сава снова подскочил к Рышке, но тот уже протер глаза. Сава наткнулся на его кулак, как на стену: взметнул головой и осел. Рышка перешагнул через него, пошел искать достойного себе.
На снегу уже валялось несколько человек. Скорчившись от боли, они отплевывались кровью и как-то совсем не по-человечески, глухо стонали. У одного горлом шла кровь. Он все отползал, отползал от бьющихся, отрыгивая на снег загустевшие красные комки, но отступавшие под напором своих противников плотницкие смяли его, затоптали…
А на другом краю туго приходилось мясницким. Фролка Ечев уложил уже троих, и теперь с ним завязались сразу двое, но и они не могли ничего поделать с ним: дюж был Фролка – самый сильный среди плотницких. За силу только и держал его в своей артели Сава. Топором Фролка мало что мог, но где требовалось поддержать или поднести, тут он стоял за пятерых.
Рышка пробрался к Фролке, ехидно крикнул:
– Ай, молодец ты, Фрола!.. Да проть овец!
Наседавшие на Фролку мясницкие отступили, оставили против него Рышку. Рышка изготовился, вытрещился для пущей острастки, глумливо спросил:
– Не боязно, Фрола?
– Дык с чаво?.. – равнодушно пробасил Фролка. – Бей первой. Не свалишь – я вдарю.
– Горазд, – крякнул Рышка.
Фролка прочней поуставил ноги, напружился.
– Не, – раздумал Рышка. – Бей первой ты.
– Схитрить хошь? – усомнился Фролка.
– Злости нет на тебя покуда…
– У мине також нет, а вдарю… Стань-кось сподручней и не дыхай, не то дух сшиблю.
Остальные бойцы, и плотницкие, и мясницкие, еще немного помахали кулаками и прекратили бой. Все стали смотреть на Фролку и Рышку.
Фролка ударил первым – чуть-чуть неуклюже, но тяжело, всем телом, будто споткнулся обо что-то и со всего маху полетел на Рышку.
– О-о! – с восторгом и ужасом выдохнула толпа.
Поп Авдий зажмурился, втянул голову в плечи – будто не Рышку, а его саданул своим громадным кулачищем Фролка.
Кто-то из попов за спиной Авдия запричитал:
– Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас…
Рышка устоял, только лицо его сперва потемнело и стало влажным, будто кто-то плеснул в него водой, а потом вдруг зашлось такой бледнотой, что даже Фролка испугался.
– Жавой ты, а? – спросил он растерянно и тревожно, с боязцой заглядывая Рышке в глаза.
– Эге ж… – продохнул Рышка и беспомощно болтнул руками.
– Тады – твой черед!
– Погодь чуток, – пробурчал угрюмо Рышка, болезненно вдыхая и выдыхая крутой морозный воздух. Глаза его расширились, в уголках губ проступила густая слюна.
– Не спущай ему, Рышка! – завопили из толпы.
– Уложи кривомордого!
Рышка подступил к Фролке. Фролка улыбался.
– Ишо зявится! – не унимались в толпе. – Суй ему в дышло!
Рышка ударил Фролку под ребра, в мягкое… Хекнул Фролка – с надрывом, до хрипоты, будто и горло у него вывернулось, – отлетел сажени на две, поскользнулся, повалился в снег.
Толпа зарычала, как громадная свора собак. Рышка довольно покрутил кулаком. Он думал, что Фролка не поднимется…
Но Фролка поднялся. Отряхиваясь от снега и поохивая, он подошел к Рышке.
– Разе ты Боров? Ты – бугай, – сказал он сквозь зубы, но вовсе не от злобы, а от боли. – Всю нутрю расплющил.
– От второго боя помрешь, – надменно протянул Рышка.
– Второй-то – за мной… Гляди, сам не устоишь.
– Спробуйся, спробуйся… Твой черед.
Мясницкие, плотницкие, только что дубасившие один одного, теперь стояли вперемежку вокруг Рышки и Фролки и подбадривали каждый своего. Приковылял и отклыгавший Сава. Он сипел еще сильней, но все равно старался перекричать всех:
– Не спущай яму, Фрола! И за мене наподдай! И за мене!
Фролка услышал Савин сип, обернулся к нему, виновато улыбнулся.
– Ражий бугай, – как бы оправдываясь, пробасил он, щуря на Рышку свои маленькие глазки и медля с ударом. Думал: вступятся, разведут их, но плотницкие оголтело заорали, замахали руками, и отчаянней всех Сава:
– Не спущай яму, Фрола! Сади какомога![38]
Мясницким тоже не хотелось видеть Рышку побитым или отступившим, и они гвалтовали не менее плотницких:
– Норовей, норовей, Рышка!
– Круши ему костю!
– Пущай заранее на поминки сзывает!
– Круши! Знал чтоб, проть кого ставать!
– Не мори, Фролка, – нетерпеливо сказал Рышка. – Народ, вишь, еборзится. Давай в свой черед. А жли нет мочи, сымай перщатые[39] с рук.
– Ну пошто?.. – не очень бойко встал за себя Фролка и, если б Сава снова не крикнул ему, может, и снял бы рукавицы.
– Сади, Фрола! – сипел тот чуть ли не в самое ухо ему. – Сади, родимай! Кончай яво! Медок Фетинья сытит!
Рышка устоял и от второго удара, только сильней выпучил глаза и шире раскрыл рот, мучительно силясь сделать вдох.
И мясницкие, и плотницкие замерли. Замерла и толпа. Все напряженно ждали – что будет дальше? Выдержит ли Фролка второй Рышкин удар или свалится, не устоит, отступится?
Снова улетел Фролка в снег – еще дальше, чем после первого удара, но снова поднялся и, скорчившись, подковылял к Рышке.
– Помираю, – сказал он глухо, утробно. Маленькие его глазки еще глубже запали под лоб, по щекам катились слезы.
– Фрола! Фрола! – бесновался Сава, хватая еле стоящего на ногах Фролку за руку и подтаскивая его поближе к Рышке. – Не спущай яму! Не спущай ни пошто! Фрола, родимай!.. Вся артеля на тебя глядит! Поглянь, родимай, вся Москва глядит! Ободрись, ободрись, Фрола… Не спущай яму, Борову мяснитому!
– Помираю, Сава, – взмолился Фролка. – Нутря вся расшиблена.
– Ободрись, ободрись, Фрола! Твой бой!
Фролка уступил Саве. Не мог он ему противиться, чтоб не заимел Сава на него обиды или зла и не прогнал из артели.
Собрался Фролка с духом, подступил к Рышке, размахнулся, ударил. Но не было уже в его ударе прежней силы – только откачнулся Рышка, отступил на шаг и спокойно сказал:
– Не встать тебе боле, Фролка. Чуешь, не встать.
Фролку везли на санях через всю Москву. Как положили его в сани со скрюченными на груди руками, поджатыми ногами и запрокинутой головой, так и застыл он на морозе.
Плотницкие и артельщики понуро брели следом за санями. Еле передвигая ноги, угрюмый и озлобленный, брел Сава. Не совесть донимала его, а злость и досада – злость и досада, что не устоял Фролка против Рышки, что теперь на все лады будут поносить его, Саву, и больше всех, даже больше Рышки, винить в смерти Фролки.
Из дворов выбегали дети, бабы, выковыливали старухи – слух уже разнесся по городу, и теперь всяк спешил удостовериться в услышанном. Шли вслед за санями, причитали, охали, заглядывали в окаменевшее Фролкино лицо, будто хотели что-то высмотреть под его мертвенной бледнотой.
– Выла собака надысь – к земле головой…
– Вот уж истинно: воет к земле – быть покойнику.
Сава с трудом переносил это любопытствующее сострадание. Не опасайся он нажить дурную славу и ненависть к себе, напустился бы он на всех этих причетчиков с матом и бранью, разогнал бы их по дворам да пустил коней рысью, чтоб не собирать возле саней никого. Ни артельщики, ни плотницкие не затрагивали Саву – шли чуть поодаль от него, молчали. Только поп Авдий настырно шагал рядом с Савой и время от времени скорбно, но твердо повторял:
– Отпою, яко убиенного на поле брани.
…Рышка поставил в церкви Святого Фрола на Мясницкой алтынную свечу за упокой убиенного им раба божьего Фрола и отправился с повинной в Разбойный приказ.
18
Конюший – боярский чин; среди прочих чинов – кравчих, ловчих, постельничих, оружничих – считался высшим.
19
Божедомка – место погребения казненных, самоубийц и вообще умерших без церковного приготовления, которых по церковным законам не разрешалось хоронить на кладбище.
20
Прохлада – отдых с развлечениями, веселое времяпрепровождение.
21
Притын – место, где ставится стражник.
22
Верзила – длинная веревка.
23
Раскат – специальная насыпь, сруб, заполненный землей, где устанавливались пушки.
24
Фряжские листы – иноземные гравюры.
25
Сава – в написании имени сохранена орфография XVI века.
26
Резаная – незаконно уменьшенная в весе монета.
27
Чересок – кожаный пояс, в котором носили деньги.
28
Взвар – напиток из пива, вина и меда, сваренный с пряностями.
29
Худая рожа – тяжелые роды.
30
Черевинные – коренные, кутние.
31
Ичетки – вышитые башмаки на мягкой подошве, без каблуков.
32
Щери – дщери, то есть дочери.
33
Курбышка – небольшие хлебцы.
34
Неделя – воскресенье.
35
Крестец – перекресток.
36
Семо и овамо – туда и обратно.
37
Вильчура – волчья шуба навыворот.
38
Какомога – изо всех сил.
39
Перщатые – перчатки, которые в Древней Руси назывались рукавицы перщатые.