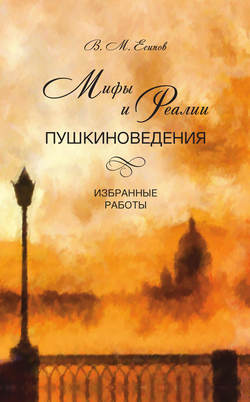Читать книгу Мифы и реалии пушкиноведения. Избранные работы - Виктор Есипов, В. М. Есипов, В. М. Есипов (Вогман) - Страница 3
Миф об «утаенной любви»
«Скажите мне, чей образ нежный…»
2
ОглавлениеВ основе версии о М. Н. Волконской как предмете «утаенной любви» Пушкина лежит сомнительно истолкованная строка из черновика посвящения «Полтавы»: «Сибири хладная пустыня», найденная и расшифрованная самим Щеголевым. Он увидел в ней первоначальную редакцию стиха, вошедшего в окончательный пушкинский текст в следующем виде: «Твоя печальная пустыня…».
Заменяя «печальную пустыню» Сибирью, он получал местонахождение М. Н. Волконской в 1828 году, во время написания посвящения. Однако такая замена совершенно неправомерна. Гершензон, а затем Тынянов убедительно показали, что эта черновая строка в сочетании с другой, впереди стоящей, обретает совсем не тот смысл, какой придавал ей Щеголев.
В черновике написано:
Что без тебя......... свет
Сибири хладная пустыня (V, 324),
то есть мир для поэта без этой женщины, к которой он обращается в посвящении, подобен Сибирской пустыне, Сибирь здесь – метафора12. Без этого основного аргумента все остальные доводы Щеголева, как заметил еще Гершензон, «падают сами собой»13.
Щеголев также придавал этому аргументу особое значение: «Все наши наблюдения приводят нас к заключению, что мучительным и таинственным предметом любви Пушкина на юге в 1820-м и следующих годах была М. Н. Волконская, но при всей их доказательности должно признать, что они все же нуждаются в фактическом подкреплении, которое возвело бы предположения и догадки на степень достоверного утверждения. Мы можем указать такое подкрепление (курсив наш. – В. Е.)»14, – заключал он с торжеством, переходя к анализу черновиков посвящения «Полтавы».
Однако позднейший текстологический анализ упомянутых черновых вариантов, произведенный Н. В. Измайловым, «подтвердил правильность понимания текста Гершензоном и показал, что стих “Сибири хладная пустыня” не может служить прямым аргументом для гипотезы Щеголева»15. То есть, используя выражение самого Щеголева, его «предположения и догадки» все же не достигают «степени достоверного утверждения».
В упомянутой нами работе Щеголев провозглашал, что «в пушкиноведении изучение чернового рукописного текста становится вопросом метода, и в сущности ни одно исследование, биографическое и критическое, не может быть оправдано, если оно оставило без внимания соответствующие теме черновики»16.
Однако сам он оказался не вполне последовательным в осуществлении провозглашенного им принципа, так как основывался лишь на изучении черновиков «Посвящения» и оставил без всякого внимания черновики самой поэмы, которые ему также, разумеется, были хорошо известны. А ведь черновики поэмы, по-видимому, вполне «соответствуют теме» исследования, когда решается вопрос о том, кому эта поэма посвящена.
Если бы она действительно была посвящена М. Н. Волконской, то черновая рукопись поэмы содержала бы дополнительные подтверждения этому: графические изображения ее лица, фигуры или какие-либо иные знаки, свидетельствующие о том, что поэт в процессе работы над поэмой вспоминал свою давнюю знакомую, думал о ней, повторял ее имя. Ничего этого в рукописи нет. Там действительно находим мы женские профили и анаграммы женского имени, но относятся они к Анне Алексеевне Олениной.
Как известно, летом 1828 года Пушкин был настолько серьезно увлечен ею, что даже делал ей предложение, отвергнутое, впрочем, семьей Олениных. Рассматривая этот период жизни и творчества поэта, Т. Г. Цявловская сделала в свое время знаменательный вывод: «…мы не можем не указать, что, как бы ни были сложны и порой тяжелы для Пушкина отношения его к Олениной, она была центральным образом его лирики 1828 года и что она вдохновила поэта на создание одного из самых больших циклов любовных стихотворении за всю его жизнь»17.
После признания столь важной роли Олениной в творческой биографии поэта представляется удивительным тот факт, что поэма «Полтава», также в 1828 году создававшаяся, до сих пор с ее именем никак не связывалась. А ведь именно отношения с Анной Олениной занимали мысли Пушкина в период работы над поэмой, о чем свидетельствуют его записи и рисунки в черновиках «Полтавы». Несмотря на то что почти все они уже публиковались в пушкиноведческой литературе, приведем их здесь (они находятся в тетради № 2371):
1) запись на л. 11/2, предположительно относящаяся к маю 1828 года (начало работы над поэмой):
[Olenina]
Pouchkine
[Annette];
2) запись на л. 481 по черновику первой песни, оконченной 3 октября 1828 года:
Olenine [Annette Pouch]
Olenine [АР]
[АР];
3) запись на л. 572 на полях третьей песни, писавшейся 9–16 октября 1828 года:
Aninelo
А.О.
А.О.
Aninelo
А.О.
Aninelo
Aninelo18;
4) на л. 471 два известных пушкинистам профильных портрета А. А. Олениной;
5) на л. 461 слева под профильным изображением усатого украинца нами обнаружены не очень отчетливые буквы «АР», начертание которых сходно с теми, что находятся на л. 481.
Т. Г. Цявловской записи в тетради № 2371 откомментированы следующим образом: «Черновые рукописи Пушкина выдают неуспокоившиеся мечтания его. Вновь появляются в рукописи заветные сочетания имен: ”Olenine“, ”Olenine“, ”Annette Pouch“, ”Annette“, ”АР“, ”АР“. Все, кроме фамилии Олениной, зачеркнуто. И еще через несколько страниц пишет поэт ”Aninelo“, ”A.O.” и вновь, и вновь повторяет эти начертания, тут же и дальше»19.
В этих записях и рисунках чрезвычайно важны даты, раскрывающие динамику творческого процесса и связь его с размышлениями об Олениной:
1) на л. 11/2 – приблизительно 9 мая;
2) на л. 461, 471, 481 – не позднее 3 октября;
3) на л. 572 – с 9 по 16 октября.
27 октября 1828 г. в Малинниках было написано «Посвящение».
«Уехав из Петербурга, поэт увезет с собой и воспоминание о той, которая вдохновляла его и чей образ был для него путеводной звездой в трудные и напряженные месяцы весны и лета уходящего года. Чувство к Олениной впитало живые радости и тревоги, надежды и разочарования, одухотворило холодный и мрачный облик парадной столицы Российской империи с ее контрастами пышности и бедности, “стройным видом” и “духом неволи”»20, – утверждает современный исследователь в очерке об Олениной, разумеется, по существующей традиции никак не связывая это свое заключение с поэмой «Полтава»…
Так обстоит дело с фактологической точки зрения. А если обратиться к тексту самого «Посвящения»?
Отдельные его строки содержат совершенно явную образно-смысловую, а местами и лексическую перекличку с циклом стихотворений, обращенных к Олениной. Так, одним из центральных смысловых мотивов его является следующий: женщина, отвергнувшая в прошлом любовь поэта, всегда с безусловным одобрением относилась к его творчеству:
Узнай, по крайней мере, звуки,
Бывало милые тебе…
Этот же мотив содержится в обращенном к Олениной стихотворении «Увы! Язык любви болтливый…», по соседству с черновиком которого находится среди черновых набросков первой песни «Полтавы» первая из приведенных нами выше записей ее имени в тетради № 2371:
Тебя страшит любви признанье,
Письмо любви ты разорвешь,
Но стихотворное посланье
С улыбкой нежною прочтешь.
Другим примером может служить слово «нежность» и образуемые от него эпитеты. Ведь «Посвящение» содержало в черновой рукописи признание: «J love this sweet name (Я люблю это нежное имя)». Характерно, что и в стихах, обращенных к Олениной, весьма часто встречаются «нежности»: «И сколько неги и мечты!..» («Ее глаза»); «С улыбкой нежною прочтешь…» («Увы! Язык любви болтливый…»); «Опечалься: взор свой нежный…» («Предчувствие»); «Я вас любил так искренно, так нежно…» («Я вас любил, любовь еще, быть может…»). Известно, кроме того, что при выборе имени для героини поэмы Пушкин останавливал свое внимание и на имени Анна.
Третий пример переклички: в «Посвящении» поэт наделяет свою избранницу «душою скромной». А в стихах к Олениной, например, в стихотворении «Ее глаза», он видит в ней «детскую простоту», «скромную грацию», сравнивает с «ангелом Рафаэля», в стихотворении же «Предчувствие» называет ангелом: «мой ангел», «ангел кроткий, безмятежный». Но ведь эти стихи создавались параллельно с работой над поэмой!
Однако самый яркий пример соотнесенности, внутренней связи посвящения «Полтавы» со стихами «оленинского цикла» дает сопоставление с указанными стихами того места «Посвящения», где поэт заклинает свою избранницу помнить о том, какое место занимает она в его душе:
И думай, что во дни разлуки,
В моей изменчивой судьбе,
Твоя печальная пустыня,
Последний звук твоих речей
Одно сокровище, святыня,
Одна любовь души моей.
То же заклинание, то же откровеннейшее признание находим мы в стихотворении «Предчувствие»:
Ангел кроткий, безмятежный,
Тихо молви мне: прости;
Опечалься: взор свой нежный
Подыми иль опусти;
И твое воспоминанье
Заменит душе моей
Силу, гордость, упованье
И отвагу юных дней.
Анна Ахматова в неоконченной работе о повести «Уединенный домик на Васильевском» охарактеризовала это стихотворение как крик о помощи:
«Что может быть пронзительней и страшнее этих воплей воистину как-то гибнущего человека, который взывает о спасении, взывает к чистоте и невинности». Полагая, что «Пушкин – Павел», «Оленина – Вера», Ахматова предположила, что для Пушкина «Оленина – Вера была надеждой на спасение, очищение, прощение» в том глубочайшем духовном кризисе, который поэт переживал, по ее мнению, в 1828 году21.
Теми же мотивами, только звучащими в более спокойной тональности, пронизано и посвящение «Полтавы». Ниже выделены совершенно явные лексические совпадения между двумя текстами:
Такие совпадения находим и в других стихах:
Исчерпывающее объяснение выявленной нами внутренней связи между приведенными выше пушкинскими текстами заключается в признании того факта, что в основе всех этих поэтических явлений лежит один и тот же эмоциональный возбудитель – любовь Пушкина к Олениной летом 1828 года.
Необходимо остановиться также на стихе «Посвящения»:
Твоя печальная пустыня…
Помимо тех соображений, которые были высказаны критиками версии Щеголева и подтверждены позже (см. выше), заметим, что «печальная пустыня» совсем не обязательно должна уподобляться Сибири. В пушкинское время пустынной могла называться любая малолюдная местность и даже деревенская жизнь. Так, в «Дубровском» Владимир находит письма матери к отцу, в которых она описывает мужу «свою пустынную жизнь» в Кистеневке; деревня названа «пустынным уголком» и в одноименном стихотворении. Так что «печальной пустыней» вполне могло быть осеннее Приютино, имение Олениных под Петербургом: «Барский дом стоял здесь над самой рекой и прудом, окаймленными дремучими лесами»22. Н. И. Гнедич, близко знакомый с Пушкиным, воспевая Приютино и его окрестности в проникновенных стихах, посвященных хозяйке имения Е. М. Олениной, писал:
Уединение для сердца не пустыня:
Мечтами населит оно и дикий бор;
И в дебрях сводит с ним фантазия-богиня
Свиданья тайные и тайный разговор.
Пустыня не предел для мысли окрыленной:
Здесь я невидимый все вижу над землей…23
Стихи эти наверняка были известны Пушкину. Характерно и то, что общий тон дневниковых записей Олениной, относящихся ко времени пребывания в Приютино, минорный. Например, 7 июля 1828 года она записывает: «…мне было очень грустно…», а 19 сентября того же года выносит в качестве эпиграфа:
«Что Анета, что с тобой?» – все один ответ:
«Я грущу, но слез уж нет», —
а чуть далее записывает следующую фразу: «Но грустный оставим разговор»24.
Так что у Пушкина имелись основания, вспоминая об Олениной осенью 1828 года, написать: «Твоя печальная пустыня». Другой стих «Посвящения»: «Последний звук твоих речей», – подразумевал, возможно, прощание с Олениной в Приюти-не 5 сентября 1828 года, описанное в ее дневнике. Вот что она записала: «Прощаясь, Пушкин сказал, что он должен уехать в свое имение, если, впрочем, у него хватит духу, – прибавил он с чувством»25. Вяземский в письме к своему другу 18 сентября 1828 года писал: «Ты говоришь, что бесприютен: разве уж тебя не пускают в Приютино?»26 Действительно, общение с Олениными к этому времени прервалось. Но Приютино, «смиренная обитель» (Гнедич), прибежище людей искусства, многие из которых были близки Пушкину, не могло не вызывать у него благодарных воспоминаний. Поэтому строки «Посвящения»:
Твоя печальная пустыня,
Последний звук твоих речей
Одно сокровище, святыня,
Одна любовь души моей, —
гораздо уместнее отнести к Олениной и Приютину, нежели к Волконской и Сибири, как это сделал Щеголев, потому что трудно представить себе, чтобы место ссылки, «мрачные подземелья» рудников, «каторжные норы», где задыхались осужденные участники восстания 1825 года, Пушкин в экстазе любовного упоения назвал святыней своей души! И кроме того, «печальная пустыня», «последний звук … речей» и грамматически, и в смысловом плане подразумевают в авторском тексте единство времени и места: «последний звук» произнесен был именно в этой «пустыне», поэтому они и объединены автором в «одно сокровище», «одну любовь».
И все-таки нам могут возразить, что «Посвящение» нельзя относить к Олениной по той причине, что в черновой редакции 6-го стиха любовь поэта характеризовалась им самим как «утаенная», а об увлечении Пушкина Олениной знали многие. Щеголев, как известно, придавал большое значение этому варианту стиха. Он даже использовал его в заглавии своей известной статьи, где утверждал, что «Полтава» посвящена той же женщине, к которой поэт обращался в поэме «Бахчисарайский фонтан».
Но, во-первых, в окончательном тексте стихов определения «утаенная» все-таки нет, значит, Пушкин по каким-то причинам отказался от него, может быть, из-за того, что оно было не совсем точным.
А во-вторых, нет никаких указаний на то, что «утаенная любовь» в черновиках «Посвящения» как-то связана с той любовью, которую поэт вспоминает в эпилоге «Бахчисарайского фонтана», элегии «Погасло дневное светило…» и других произведениях тех лет. Та давняя, юношеская любовь характеризовалась им как «безумная», «безотрадная», – определение «утаенная» там ни разу не встречается; и наоборот, здесь не находится места тем эпитетам.
Кроме того, серьезного, решительного объяснения между Пушкиным и предметом его увлечения, по-видимому, так и не произошло. Сама Оленина не относилась к ухаживаниям Пушкина серьезно, избегала его откровений, так как боялась, чтобы он «не соврал чего в сентиментальном роде…»27. Стихи же, обращенные к ней, могли восприниматься ею всего лишь как мадригалы, привычные для молодой и красивой светской девушки, фрейлины императорского двора…
Итак, в окончательном тексте «Посвящения» вместо «как утаенная любовь» мы имеем: «как некогда его любовь». Правда, и эта редакция, это «некогда» свидетельствует как будто бы о том, что речь идет о любви, отдаленной во времени, о чувстве, оставшемся в прошлом. Но таким, по мысли Пушкина, и должно было представляться Олениной его отношение к ней к моменту выхода поэмы из печати. Ведь «Посвящение» писалось в конце октября 1828 года, когда поэма была закончена и стоял вопрос об ее издании. При этом Пушкин не мог не отдавать себе отчета в том, что поэма выйдет в свет и, следовательно, будет прочитана Олениной не раньше весны (а может быть, и лета) следующего года, то есть почти через год после кульминационного периода их отношений летом 1828 года. Для людей в возрасте 20 и 29 лет один год – довольно большой срок, вполне допускающий употребление наречия «некогда». Кроме того, этим «некогда» Пушкин в октябре 1828-го как бы подводил окончательную черту под пережитым им чувством.
Вообще, по-видимому, нет нужды чрезмерно нагружать дополнительным смыслом эти стихи «Посвящения»:
Иль посвящение поэта,
Как некогда его любовь,
Перед тобою без ответа
Пройдет, непризнанное вновь?
Здесь «вновь», вероятно, следует понимать так, что посвящение может пройти перед избранницей поэта «непризнанным», как и его любовь, а совсем не в том смысле, будто раньше уже был какой-то поэтический текст Пушкина, «непризнанный», то есть не понятый этой женщиной (толкование Тынянова)28. А «непризнанное» означает в этом случае не оцененное в полной мере – и вовсе не равнозначно «непонятому», то есть не принятому ею на свой счет (если бы было так, то все последующие обращения поэта в «Посвящении» повисали бы в воздухе: «Узнай, по крайней мере, звуки…», «И думай, что во дни разлуки…»). По толкованию же Тынянова получается, что автор говорит примерно следующее: «Если ты не принимаешь моего посвящения на свой счет, не понимаешь, что оно обращено к тебе, думай, по крайней мере, что все связанное с памятью о тебе («твоя пустыня», «звук твоих речей») является святыней моей души». Очевидно, что такое толкование пушкинских строк противоречит элементарной логике. На самом деле у поэта не было сомнений, что избранница поймет его, что поэма посвящена ей, он просил ее о другом: «признать», оценить глубину и серьезность пережитого им чувства:
Поймешь ли ты душою скромной
Стремленье сердца моего…
Вообще пора признать, что идущая от Щеголева тенденция связывать посвящение «Полтавы» с «утаенной любовью» ничем не обоснована. В пушкинскую эпоху было принято предварять публикацию новой поэмы (или другого стихотворного сочинения крупной формы) посвящением в стихах. Это нам хорошо известно и на примере пушкинского творчества. Вспомним его посвящения к «Руслану и Людмиле», «Кавказскому пленнику», «Бахчисарайскому фонтану» (в форме вступления, исключенного впоследствии из окончательного текста), наконец к «Евгению Онегину». Посвящая «Полтаву», Пушкин, разумеется, не мог указать, кого он имеет в виду, так как стихи посвящения имели слишком личный характер. Тем не менее поэт подразумевал при этом вполне конкретное лицо с именем и фамилией, как и в случаях с «Кавказским пленником», «Бахчисарайским фонтаном», «Евгением Онегиным». Однако из-за отсутствия имени адресата на посвящении «Полтавы» вокруг него усилиями нескольких поколений пушкинистов был создан ореол особой таинственности. Представим себе на миг в этой связи, какие страсти разгорелись бы в пушкиноведении, если бы, например, на вступлении к «Бахчисарайскому фонтану» не было обозначено имя Н. Н. Раевского-младшего! Свидетелями каких изысканий, споров и гипотез мы могли бы стать! Именно такую ситуацию имеем мы с посвящением «Полтавы».
В «Посвящении» автор обращается к той, кому он посвятил «Полтаву», с просьбой:
Узнай, по крайней мере, звуки,
Бывало милые тебе… —
то есть пойми, что поэма посвящается тебе.
Одна из современниц поэта эту просьбу выполнила: она «узнала», поняла, что поэма «Полтава» посвящена ей. Этой женщиной, по свидетельству известного библиофила пушкинского времени Сергея Дмитриевича Полторацкого, была его двоюродная сестра А. А. Оленина. В перечень обращенных к ней стихов Пушкина, составленный в 1849 году Полторацким, первым пунктом он включил посвящение «Полтавы». Перечень этот был одобрен самой Олениной. Те же сведения Полторацкий повторил затем в рукописном библиографическом труде «Мой словарь русских писательниц»29.
Можно ли доверять С. Д. Полторацкому? Он был знаком с Пушкиным, встречался с ним. Как и другой известный библиофил пушкинского времени, друг Пушкина С. А. Соболевский, он «с юных лет и до последнего вздоха в меру своих сил и в рамках библиофилии и библиографии боролся за правдивую публикацию и точное комментирование того, что создал Пушкин», ему было присуще «упорное стремление доискаться до всего и подобрать все, прежде чем опубликовать…»30.
А можно ли доверять мнению Олениной? Оно, безусловно, заслуживает нашего внимания.
Во-первых, насколько нам известно, больше никто из современниц поэта не относил «Посвящение» на свой счет. Скажем, М. Н. Волконская в воспоминаниях, написанных спустя много лет после смерти Пушкина, указала ведь на некоторые пушкинские тексты, которые считала связанными с нею, но «Полтаву» вообще не упомянула.
Во-вторых, нельзя не учитывать, что А. А. Оленина была хорошо образована литературно и весьма заинтересованно относилась к творчеству Пушкина. По воспоминаниям О. Н. Оом, под некоторыми пушкинскими стихами, находившимися в ее альбоме, она делала поясняющие пометки, например, отметила, что в стихотворении «Ее глаза» второй стих «Твоя Рос-сети егоза» был впоследствии заменен другим: «Придворных витязей гроза»31. И уж надо думать, что текст «Посвящения» был внимательнейшим образом перечитан ею.
Кроме того, в поэме достаточно четко намечена сюжетная линия с биографическим подтекстом: неразделенная любовь к Марии безымянного казака, сподвижника Кочубея:
Вечерней, утренней порой,
На берегу реки родной,
В тени украинских черешен,
Бывало, он Марию ждал,
И ожиданием страдал,
И краткой встречей был утешен.
Он без надежд ее любил…
Последний стих – это то же горестное признание, что прозвучало позднее открыто (как авторское) в стихотворении «Я вас любил, любовь еще, быть может…»32, вписанном в альбом Олениной: «Я вас любил безмолвно, безнадежно…». Этот стих мог укреплять уверенность Олениной в том, что «Посвящение» обращено к ней.
Щеголев, имея в виду М. Н. Волконскую, задавался вопросом, «не собственную ли свою историю рассказывает в этих стихах Пушкин»33? Замечание очень верное, только подразумевать здесь, по-видимому, следует «историю» любви к Олениной летом 1828 года. Стихи, в которых биографический оттенок проступал слишком явно, Пушкин исключил из окончательной редакции. Вот они:
Убитый ею, к ней одной
Стремил он страстные желанья,
И горький ропот, и мечтанья
Души кипящей и больной…
Еще хоть раз ее увидеть
Безумной жаждой он горел;
Ни презирать, ни ненавидеть
Ее не мог и не хотел… (V, 330–331).
Но все же многими пушкинистами, например В. В. Куниным, не принято всерьез свидетельство С. Д. Полторацкого относительно посвящения «Полтавы», хотя и признается, что поэма «действительно писалась в кульминационный момент разрыва с Олениной» и что «черновики поэмы хранят прямые подтверждения этому: профили Анны Алексеевны и ее инициалы34.
Это тем более удивительно, что версия о посвящении поэмы М. Н. Волконской не имеет никаких подтверждений. Одно только слово «Сибирь», обнаруженное некогда Щеголевым в черновых набросках «Посвящения», продолжает гипнотизировать сторонников этой красивой пушкиноведческой легенды.
12
Также в стихотворении «Увы! Язык любви болтливый…», обращенном к А. А. Олениной (черновик которого находится, кстати, среди черновых набросков первой песни «Полтавы»), метафорой, характеризующей положение поэта, является «жизненная пустыня»:
Благословен же будь отныне
Судьбою вверенный мне дар.
Доселе в жизненной пустыне,
Во мне питая сердца жар…
Подобный же образ Пушкин через несколько месяцев собирался использовать и в посвящении «Полтавы».
13
Гершензон М. В ответ П. Е. Щеголеву. С. 4.
14
Щеголев П. Е. Пушкин. Очерки. СПб., 1912. С. 164.
15
Пушкин. Итоги и проблемы изучения. М.; Л., 1966. С. 570.
16
Щеголев П. Е. Пушкин. Очерки. С. 165.
17
Цявловская Т. Г. Дневник А. А. Олениной // Пушкин. Исследования и материалы. Т. II. М.; Л., 1958. С. 292.
18
Рукою Пушкина. Л., 1935. С. 314–317.
19
Цявловская Т. Г. Дневник А. А. Олениной. С. 273.
20
Петербургские встречи Пушкина. Л., 1987. С. 239.
21
Ахматова А. О Пушкине. Л., 1977. С. 220–221.
22
Устимович П. М. (см.: «Русская старина». Т. LXVII. Август. 1890. С. 392).
23
Гнедич Н. Стихотворения. Поэмы. М., 1984. С. 91–95. Курсив наш.
24
А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 67, 72.
25
А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 74.
26
Переписка А. С. Пушкина: В 2 т. Т. 1. С. 267.
27
А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 67.
28
Тынянов Ю. Н. Безыменная любовь. С. 228–229.
29
Крамер В. В. С. Д. Полторацкий в борьбе за наследие Пушкина // Временник Пушкинской комиссии 1967–1968 гг. С. 60.
30
Кунин В. В. Библиофилы пушкинской поры. М., 1979. С. 288–302.
31
А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 400.
32
Стихотворение это после обстоятельного анализа известных фактов Т. Г. Цявловская все же отнесла к Олениной. См.: Цявловская Т. Г. Дневник А. А. Олениной.
33
Щеголев П. Е. Пушкин. Очерки. С. 180.
34
Друзья Пушкина. Т. 2. М., 1984. С. 398.