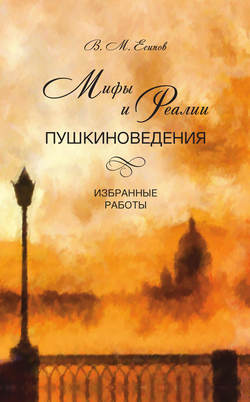Читать книгу Мифы и реалии пушкиноведения. Избранные работы - Виктор Есипов, В. М. Есипов, В. М. Есипов (Вогман) - Страница 7
Миф об «утаенной любви»
«Печаль моя полна тобою…»
1
ОглавлениеВ 9-м выпуске «Московского пушкиниста» И. С. Сидоров, обозначая так называемую новую пушкинистику, охарактеризовал ее следующими «ключевыми словами»: «небрежность, поспешность и склонность к сенсационности»58.
Справедливости ради следовало бы заметить, что и старая пушкинистика (имеются в виду советские десятилетия) страдала нередко не менее серьезными недостатками: бездоказательностью, тенденциозностью, стремлением представить Пушкина хитроумным лицемером, любыми способами старающимся скрыть истинный смысл своих творений от современников (но не от советских исследователей, каковыми он, этот истинный смысл, был наконец обнаружен и объяснен читающей публике!).
Указанные недостатки пушкинистики прошлых лет невольно приходят на ум при знакомстве с публикацией В. И. Доброхотова «На холмах Грузии лежит ночная мгла» в том же выпуске «Московского пушкиниста».
Сначала приведем стихотворение, по праву считающееся шедевром пушкинской лирики:
На холмах Грузии лежит ночная мгла;
Шумит Арагва предо мною.
Мне грустно и легко; печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою.
Тобой, одной тобой… Унынья моего
Ничто не мучит, не тревожит,
И сердце вновь горит и любит – оттого,
Что не любить оно не может.
Автор публикации в соответствии с существовавшей в советском пушкиноведении тенденцией безоговорочно относит приведенное стихотворение к М. Н. Волконской, считавшейся в русле той же тенденции предметом «утаенной любви» Пушкина. Вместе с тем из ее переписки с В. Ф. Вяземской известно (и автор этого не скрывает), что обе весьма осведомленные современницы Пушкина относили это стихотворение к невесте поэта Н. Н. Гончаровой.
Доброхотов объясняет такое несоответствие тем, что Пушкин, якобы постоянно и безнадежно влюбленный в М. Н. Волконскую и якобы признающийся в том в стихотворении «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», сватался в это время к Н. Н. Гончаровой и, дабы избежать невыгодных для себя толков, а также обиды со стороны невесты (нелюбимой, надо полагать, по мнению Доброхотова), делал вид, что стихотворение обращено именно к ней. То есть, выражаясь короче, Доброхотов объясняет отмеченное несоответствие лицемерием Пушкина.
Однако несмотря на категоричность тона автора публикации, его все же не устраивает в стихотворении то, что «адресат обезличен» и «стихи не содержат намеков, которые могли бы обидеть Н. Н. Гончарову, чьей руки Пушкин добивался с мая 1829»59.
Поэтому Доброхотов обращается к тексту первоначальной черновой редакции пушкинского стихотворения, реконструированной в свое время С. М. Бонди и содержавшей, в отличие от окончательного текста стихотворения, не две, а четыре строфы.
В соответствии со своими собственными представлениями о художественных достоинствах тех или иных фрагментов пушкинского текста (разумеется, несколько отличающимися от пушкинских) Доброхотов произвольно меняет редакции ряда стихов, предложенные Бонди, располагает строфы в другой, отличающейся от черновика Пушкина последовательности, добавляет к имеющимся в черновике четырем строфам еще одну (находящуюся на предыдущей странице пушкинской тетради и лишь предположительно относящуюся к реконструированному Бонди тексту) и компонует, таким образом, некое стихотворение в пять строф, которое можно, по его мнению, с большим основанием отнести к М. Н. Волконской.
Результатом своего оригинального эксперимента автор остался весьма доволен, о чем можно судить по его собственному бесхитростному признанию: «Вопреки несовершенству редакторских конъектур, стихотворение смотрится как внутренне стройное, единое произведение, отличающееся от ранее известных вариантов целым рядом картин, сложных душевных движений и сердечных переживаний. Интересно оно и тем, что полнее отражает изначальный замысел Пушкина»60 (курсив наш. – В. Е.).
Как можно отреагировать на это откровение? Комментарии здесь, как говорится, излишни.
Что же касается безоговорочной уверенности в том, что именно М. Н. Волконская явилась «истинной вдохновительницей шедевра», то вместо какого-либо обоснования этой уверенности Доброхотов ссылается на статью Т. Г. Цявловской 1966 года в альманахе «Прометей» и известную работу П. Е. Щеголева «Утаенная любовь Пушкина» в одноименном издании 1997 года.
По этой причине полемика с автором указанной публикации теряет смысл, и нам приходится обратиться к названным первоисточникам.
58
Сидоров И. С. Классический комментарий с классическими ошибками, или Новые ошибки новых комментаторов? // Московский пушкинист. Вып. 9. 2001. С. 32.
59
Доброхотов В. И. «На холмах Грузии лежит ночная мгла» // Московский пушкинист. Вып. 9. С. 159.
60
Там же. С. 164.