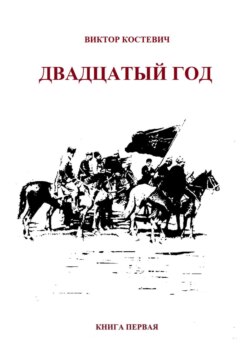Читать книгу Двадцатый год. Книга первая - Виктор Костевич - Страница 9
Часть I. ХЕРИНАЦЕУС И ФЕНДРИК
7. Интервью
Вильно, Свентоерская, 4
24 февраля 1920 года
Оглавление– Вы в самом деле не верите в дьявола? – удивленно спросил небольшой человек со впалыми и бледными щеками. – Быть может, в Антихриста тоже не верите? Вы христианин?
– Разумеется, – пробормотал редактор, седовласый и почтенный доктор. – Но… Мы живем в двадцатом веке. Видите ли…
– Вижу, – тряхнул человечек темной, чуть рыжеватой, аккуратно подстриженной бородкой. – Я вижу многое. Мы только что выбрались из России. И видели такое…
Спутник говорившего, несколько более внушительный, хотя и безбородый, утвердительно и сумрачно кивнул. В беседу с русскими гостями включился товарищ редактора.
– Мы нисколько не сомневаемся в трагичности происходящего на вашей родине, – заговорил он быстро, – и в той угрозе, что несет большевизм цивилизации. Но все же полагаю, вы выразились фигурально?
Маленький мужчина посмотрел на польских собеседников с почти нескрываемой жалостью. Товарищ редактора своею повадкой напомнил ему полячков Достоевского – совершенно не тот героический тип, что взлелеял небольшой мужчина в своей истерзанной большевистским безумием душе.
– Фигурально выражаются другие, – произнес он холодно. – Если я и выражался фигурально, то в иных обстоятельствах. Теперь нам русским не до фигур. Вы поляки, наслаждаясь обретенною свободой, пребываете в эйфории. Тогда как мы в России, утратив даже видимость свободы, о былом прекраснодушии забыли. Когда становится нечем дышать, когда ваше достоинство каждодневно попирается, а физическое существование под угрозой…
– Но признайте, это слишком сильно, – покачал головою редактор, – называть десятки, быть может сотни тысяч соотечественников сынами дьявола. Даже если они погрязли в злодействах, даже если пошли за Лениным и Троцким, даже если…
К бледным щекам небольшого мужчины внезапно прихлынула кровь.
– Вам известно, что такое китайское мясо?
Поляки – в кабинете их было трое, редактор, его товарищ и третий, стоявший у окна, высокий, подтянутый, тщательно выбритый, русоволосый – молча дали понять, что о китайском мясе еще не слышали. Оба русских зловеще переглянулись. Маленький мужчина провел ладонью по бороде.
– В Петрограде бабы на базаре торгуют мясом неизвестного происхождения. В условиях организованного большевиками голода и… массовых расстрелов. Когда давно уже съедено всё. Вы понимаете?
– Не совсем, – признался редактор, покосившись на стоявшего у окна русоволосого. Тот, судя по кривой усмешке, догадался.
– Съедено всё, – прищурил глаза русский гость. – Если не съедено, разграблено китайскими и латышскими продовольственными бандами. Всё, подчистую. Тысячи русских людей голодают, убиты за неповиновение, сожжены в своих домах. И вдруг… появляются пирожки. С мясом. В то самое время, когда чекисты, в их числе китайцы, расстреливают… Невинных… Тысячами.
Стоявший у окна посмотрел на бородатого мужчину с некоторым… не то что презрением, но не вполне уважительно. Спутник бородатого ответил тяжким взглядом исподлобья.
Зловещую паузу прервал товарищ редактора.
– То есть китайским мясом называют… – начал он. И сразу же испуганно замолк.
Молчание нарушил стоявший у окна. Ему положительно недоставало такта. Недостаточно почтенный возраст? Житейская неопытность?
– Германцы сожрали бельгийских детей еще в четырнадцатом. Французы теперь подъедают немецких. Особенно стараются колониальные войска. Кстати, позавчера они растлили последнюю рейнско-мозельскую девственницу.
Спутник маленького человека резко встал.
– Милостивый государь, что вы намерены сказать?
Редактор обеспокоился.
– Дмитрий Владимирович… Господин Высоцкий…
– Я могу уйти, – равнодушно предложил русоволосый, названный Высоцким. – Беседа с эмигрантами в мои сегодняшние планы не входила.
От последних, безучастно произнесенных слов у русского, названного Дмитрием Владимировичем, перекосилось породистое лицо. Редактор с товарищем синхронно опустили глаза, сожалея, что пригласили сюда Высоцкого. Думали переубедить осточертевшего им варшавского скептика, дать ему услышать живой русский голос, только что оттуда – и чей…
– Это излишне, – тихо проговорил маленький мужчина, устремив глаза куда-то вдаль. – В свободной стране каждый волен высказывать собственное мнение. Мы не на большевицкой территории, господа. Если бы господин Высоцкий побывал в России…
– Я русский офицер. Пятый Сибирский корпус.
– Дмитрий Сергеевич имел в виду советскую Россию, – снисходительно пояснил спутник маленького мужчины, Дмитрий Владимирович.
* * *
В Вильно маленький мужчина приехал из Минска. С женою и верным многолетним другом.
Им не хотелось признаваться, но Минском они были сражены наповал. Потрясены, раздавлены. Горшая изнанка русской натуры вновь явила смертоносный и самоубийственный, бесчеловечный и губительный оскал. Искуситель проник и сюда, приготовляя окончательное свое пришествие.
В Бобруйске будущее казалось очевидным. Перебравшись через польско-большевицкий фронт, они, глазам не веря, смотрели на витрины магазинов, настоящих, подлинных, истинных магазинов, в которых можно было – покупать. Их потрясало и радовало всё – белые булки, колбасы, шоколад, чулки, надежная уверенная власть, твердой рукой умиротворенное население – после хамского кошмара зиновьевского Петрограда, непрестанных унижений, ежечасного липкого страха и невозможности повлиять на происходящее – невыносимой в первую очередь для него, ранее всех всё прозревшего и единственного, кто знал, что надо делать. Не ради белых булок бежал он из Петрограда.
Выправить бумаги для чтения лекций (sic) бойцам и командирам (sic) красной армии (sic) удалось сравнительно легко. Хамская власть, отвергнутая честными людьми России, цеплялась за любую видимость своего с ними сотрудничества, раздувая малейший фактик их лояльности. Превозносила несчастного, оступившегося Блока, обезумевшего от жажды оваций Шаляпина, всеми позабытую Ермолову, бездарного Брюсова – не говоря о негодяях вроде Горького. Каких таких лекций для красноармейцев дети Люцифера ожидали от него? О революционной борьбе ранних христиан с антинародным рабовладельческим режимом? О товарище Спартаке? Ах, да о декабристах. Душителям свободы отчего-то любы декабристы, вышедшие ради свободы на площадь. Идиоты, кровавые китайские болваны, умственные извращенцы. Однако большевицкий идиотизм сыграл ему и Зинаиде Николаевне на руку. Сатана еще раз просчитался. С ним и Зинаидой Николаевной у Сатаны не получалось ничего.
Но сначала были четыре дня в поезде. С мешочниками, красноармейцами, мужиками и прочим сбродом. Потом корчма еврея Янкеля, ловко освобождавшего бегущих от имущества в уплату за гнуснейшее жилье. Затем путь с контрабандистами через снежную пустыню под Жлобином. И наконец – первый пост, первые люди, первая людская речь из-под шапок с квадратным верхом. «Кто вы есть? Вер зайд ир?» – «Беженцы, руссише флюхтлинге». «Сконд? Вохер?» – «Аус Петроград». «Доконд? Вохин?» – «До Варшавы, нах Лондон, нах Парис». Милые мальчики из Großherzogtum Posen16, немецкая культура, славянская душевность. Последняя надежда утратившей человеческий облик земли, прозванной бесноватыми РСФСР.
А потом – минский позор. Не его позор, но их – минчан. Минской, так сказать, интеллигенции. Провинциальной, тупой, ограниченной. Шовинистической, злобной, не готовой поступиться ничем. Способной ложно понятым патриотизмом окончательно сгубить Россию, Европу, христианство, культуру.
Неспособные на благодарность, ничего не понимающие – и это сейчас, когда, треща по швам, на глазах исчезали фронты.
Красные орды вломились в Одессу. Советы допущены во Владивосток. Степи за Манычем устланы казачьими трупами. Испарилась Северо-Западная, так и не дошедшая до Петрограда армия. В Прикаспии уничтожена Уральская. Пал Архангельск. В два месяца, какие-то два месяца, на пяти, на шести направлениях, разделенных тысячами верст, рухнуло практически всё, что сопротивлялось дьяволу на протяжении двух лет. Тоже дело человеческих рук? Но нет, не слышат, предпочитая остаться глухими.
И так всегда. Он раз за разом указывал на дьявола – а люди над ним потешались. Когда же предреченное сбывалось, о нем никто не вспоминал. Но ведь он, именно он, не Борис, не Александр Федорович, не другие революционеры, прозрел Антихриста в Ульянове, коренастеньком субъекте с мефистофельской бородкой, прозрел еще в апреле, едва тот появился в Петрограде. И увы, оказался прав.
И перед войною был прав. Он говорил им, кричал, убеждал, но они – черносотенцы, националисты, либералы – не пожелали поступиться ничем. Ввязались в преступную, бессмысленную войну. С культурным народом Европы, многократно превосходящим русский в материальном и духовном плане. Забыв Христа, твердили об отечестве, вражеской агрессии, угрозе германизма. Словно после нападения Вильгельма на Россию нельзя было договориться, поступиться малым – чтобы спасти большое.
Годами он им указывал на опасность. Теперь он укажет им путь ко спасению. Собственно, уже указал его, в Минске. Но не был услышан, опять. Невероятно, но местная интеллигенция, освобожденная поляками от большевизма, их, поляков, своих освободителей, ненавидела. Всеми фибрами провинциальных душонок. Жаловалась, что ее – смешно сказать – лишили языка. (Спору нет, низшие польские чиновники действительно вели себя бестактно, не делая различий между русскими и евреями, но ведь и русские проявляли чудовищную неблагодарность по отношении к спасителям.) И почему бы русским, после десятилетий русификации Царства Польского, самим не выучиться по-польски? Вопрос исторической справедливости, воздаяния, искупления. Лично он готов. Особенно сегодня, когда Польша является единственной страной, ведущей войну с ленинистами.
Он честно пытался исправить положение. Объяснить, просветить, выступить с публичными лекциями – не для красноармейцев, а для образованного минского общества. И что же? Полные залы слушателей, представители польских властей, полицейские кордоны на улицах – а наутро слухи о его предательском полонофильстве и всеобщее осуждение – за что? Дошло до того, что местная библиотека имени Пушкина отказалась дать место для лекции о Мицкевиче. «Не удивляйтесь, – объяснял приятнейший генерал Желиговский, – нам, полякам, в этом городе не с кем поговорить, вы первый разумный русский, встреченный мною в последние годы». С Желиговским сошлись на том, что новое русское правительство следует сформировать в Варшаве – такое, какое Польша захочет увидеть у власти по свержении большевиков.
Поезда в Варшаву из Минска не ходили. Поэтому он, Зинаида Николаевна и Дмитрий Владимирович отправились в Вильно, годом ранее отбитое у советов. Снег в Вильне не вполне еще сошел, улицы тонули в грязи, гостиница была прескверной, но основное – офицеры, полицейские – внушало твердую уверенность. Почти не попадались на глаза оборванцы и евреи, помнившие здесь о подобающем им месте. Но евреи что-то замышляли, им тоже не нравилось его полонофильство. Следовало быть начеку.
* * *
– В настоящее время Польша – единственный заслон цивилизации от большевизма, – неторопливо, словно размышляя, формулировал маленький мужчина. Редактор и коллега делали заметки. – Все разговоры о смягчении режима в Совдепии имеют целью лишь одно – облегчить инфильтрацию большевизма в Европу. Гибельное заблуждение считать, что большевизм есть революция. Большевизм – это реакция, уничтожение культуры и новое порабощение человека. Он являет собою гораздо более жестокую форму царского деспотизма. Орудие Ленина и Троцкого – обман непросвещенных неграмотных масс. Польский солдат, идущий в Россию, должен знать: он идет не завоевывать, но освобождать. Русский народ на русской земле встретит его с распростертыми объятиями.
Замолчав, мужчина подлил себе воды. Высоцкий вновь не удержался от замечания.
– Признаться, я не заметил распростертых объятий. Ни в Минске, ни в Бобруйске, ни в Витебске. Возможно, потому, что не ношу военной формы.
– Возможно, – со злостью буркнул спутник бородатого, Дмитрий Владимирович.
Редактор бросил на Высоцкого укоризненный взгляд. Маленький мужчина подумал о своем: снова Минск, сатанинский русский Минск.
– Господин Мережковский, – обратился к мужчине коллега редактора. – В чем, по-вашему, заключалась главная ошибка предводителей белых армий?
– В их контрреволюционности, – убежденно ответил писатель. – В их стремлении возродить бывшее государство, с которым русские массы распростились навсегда. А также в их отношении к новым государственным образованиям. Юденич не желал признать независимости Финляндии. Деникин не высказался определенно по польскому вопросу.
– Несмотря на польское происхождение, – посетовал седовласый редактор на поведение сына польской матери.
Высоцкий счел необходимым уточнить.
– Польскую независимость Антон Иванович под сомнение не ставил.
– Но определенно не высказался, – повторил товарищ редактора вслед за русским автором. – Какую границу ваш Деникин был готов нам гарантировать?
– Видите ли, господин Крукович, – улыбнулся Высоцкий одними глазами, – если требовать границу семьсот семьдесят второго года, то вам ее не гарантирует никто. С тем же основанием можно предложить на русский трон королевича Владислава. Жаль, у господина Пилсудского нет сына.
– Господин Высоцкий! – не выдержал редактор.
– Прошу прощения, господин Сумóрок. Будучи историком, я позволяю себе порой исторические параллели. Не спорю, данная была неуместна.
Немного придя в себя, редактор продолжил беседу с русскими.
– Господа, позвольте спросить. Каково ваше отношение к Польше?
Ответить вызвался спутник писателя. Сам писатель уже устал.
– Мы с господином Мережковским стоим на почве безусловных прав Польши на границы 1772 года. Такое решение является единственно справедливым, и только после признания данных прав могут выстраиваться русско-польские отношения. Это исходный пункт.
Высоцкий, ошарашенный щедростью русской души, краем глаза взглянул на редактора. Тот, признаться, тоже выглядел изумленным, равно как и его коллега, однако изумленным приятно. Тем не менее господин Суморок спросил, во избежание будущих территориальных недоразумений:
– По польскую сторону должны остаться… – Он представил себе географическую карту. – Минск, Витебск, Гомель, Могилев, Луцк, Ровно, Житомир, Винница, Черкассы?
– Именно так, – безразлично ответил господин Мережковский. – Умань, Бердичев, Бобруйск, Мозырь, Барановичи, Пинск. Мы с господином Философовым выступаем за полный отказ от царских захватов. В нем путь к моральному очищению русского народа и возрождению порабощенной большевизмом России.
– Именно так, – повторил вслед за другом господин Философов. – Пока что нам трудно судить о деталях, но необходимость совместной борьбы с большевизмом неизбежно сделает отношения Польши и возрожденной России дружественными.
– Стало быть, вы за дружбу? – поинтересовался от окна Высоцкий.
Господин Философов улыбнулся.
– Вы сомневались?
* * *
Выпив чаю, оба русских откланялись. Следом собрался и Высоцкий. Вечерним поездом он отбывал в Варшаву с репортажем для газеты. Легко догадаться – не самой правой и не самой пропилсудовской. Прощаясь, редактор не удержался от шпильки.
– Господин Высоцкий, позвольте вопрос. Почему вы не в армии? Вы опытный офицер. Я правильно запомнил: пятый Сибирский корпус?
Ответ варшавянина прозвучал довольно странно.
– Дело в том, господа, что я штабс-капитан.
– И что? – не понял коллега редактора.
Улыбнувшись полячку Достоевского, ни в одной армии не служившему, Высоцкий пояснил:
– В нашем польском войске такого звания нет. Капитана мне, понятно, не присвоят. Добровольно же возвращаться в поручики – увольте.
Полячок Достоевского непонятно для чего заметил:
– Вы, я слышал, сражались с красными на Дону.
– На Кубани. К сожалению. Признаюсь честно, последние пять лет люто ненавижу войну. Тем более – с бывшими товарищами и подчиненными. Довольно гадостно бить по своим из пулемета.
– По своим? – спросили виленские журналисты.
– По своим, – ответил, надевая пальто, варшавский.
Когда он вышел, коллега редактора дал волю накопившемуся гневу.
– Напрасно я его привел. Вы уж простите, пан Юлиуш. Сомнительный тип. Такому место в штрафном подразделении.
Господин Суморок развел руками.
– Увы, вы правы, пан Ксаверий. Наш, с позволения сказать, соотечественник показал себя не лучшим образом. Сегодня мне больше понравились русские.
– Мне тоже, – согласился пан Ксаверий. – Особенно господин Мережковский. Не знаю, какой он писатель, но человек исключительно приятный.
– О да, – согласился редактор. – Если бы Россия состояла из Мережковских… Представляете, вместо медвежьей России Суворовых, Кутузовых, Пушкиных, Гоголей – Россия Дмитрия Мережковского?
– С трудом, – признался пан Ксаверий. – Но такую Россию я бы, возможно, признал. Интервью дадим в завтрашний номер?
– Разумеется. Как вы думаете, господин Высоцкий в курсе, что мы сотрудничаем со вторым отделом?
– Похоже, нет. Уж больно он наглый.
16
Великого герцогства Познанского (нем.).