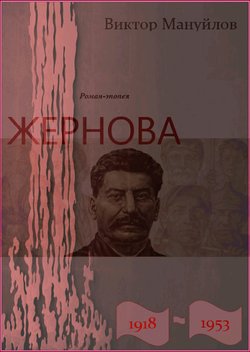Читать книгу Жернова. 1918–1953. Книга шестая. Большая чистка - Виктор Мануйлов - Страница 6
Часть 20
Глава 6
ОглавлениеБухарин проснулся в тревоге: то ли он проспал поезд, то ли поезда не будет вовсе. Он сел, сунул ноги в тапочки, накинул на плечи теплый бухарский халат, подаренный какой-то среднеазиатской делегацией, побрел к столу. Все это – почти не открывая глаз, на ощупь, по памяти. Усевшись за стол, но не включая света, нашарил папиросы и спички, закурил и долго смотрел на чистый лист бумаги, смутно белеющий на темной глади стола, который положил перед собой вечером, так и не написав на нем ни слова. Николай Иванович мучительно старался вспомнить, о чем думал вечером. Ведь он о чем-то же думал. Что-то в тех мыслях было о себе самом и о Сталине. Вспоминалось трудно. Все мысли о себе и Сталине были передуманы не единожды, казались фальшивыми, – по-видимому, давило на сознание отложенное вчера решение ЦК партии по его, Бухарина, персональному делу – до выяснения деталей.
Николай Иванович стал вспоминать минувшие заседания ЦК день за днем, пытаясь отыскать в деталях нечто такое, что позволило бы ему понять, где и в чем он совершил ошибку. Но сосредоточиться мешали глаза Сталина, излучающие зловещий желтый свет из каждого угла погруженного во тьму кабинета. Именно таким светом они вспыхнули, когда он, Бухарин, заявил, что НКВД ведет дело к подрыву партийных основ, к разрушению партии, что он не верит в обвинения в контрреволюционности, предъявляемые старым партийцам, соратникам Ленина.
Он, Бухарин, тогда очень разволновался. Он забыл осторожность и данные себе обещания ни при каких обстоятельствах не выходить из себя, не пороть горячку и не противоречить Сталину, потому что у Сталина дьявольская память, а его, Бухарина, память всегда подводит своего хозяина в нужную минуту. Но его вывели из себя откровенно издевательские характеристики, которые Ежов давал Рыкову, Розенгольцу, Чернову, Ягоде. Да и самому Бухарину тоже. Может быть, если бы имя Бухарина не было произнесено… Но оно было произнесено наравне с другими – и Николай Иванович не выдержал, взорвался.
Это надо же дойти до такой низости, чтобы вот так, на Пленуме ЦК, ничуть не стесняясь, не краснея и не бледнея, заявлять такую… такую мерзость! Попробовал бы этот Ежов, этот тупица, выскочка, сталинский прихвостень, произнести нечто подобное в двадцатом году! О-о! Его бы тут же поставили к стенке. Но он глумился над ним, Бухариным, и пол под его ногами не провалился, потолок на его голову не обрушился, члены ЦК и Политбюро с кулаками на него не набросились, а набросились – и чуть ли ни с кулаками же – именно на Бухарина, выступившего против огульных обвинений со стороны Ежова. Почему? Что произошло? Что все они знают такого, чего не знает Бухарин? Опять он что-то проглядел, упустил, в чем-то не разобрался? Что же тогда получается? Все разобрались, а он – нет? Ведь табачные глаза Сталина вспыхивают таким сугубо желтым светом именно тогда, когда собеседник не понимает, о чем идет речь. Выходит, что он, Бухарин, не понимал. Он и сейчас, увы, не понимает. Ведь оппозиция практически уничтожена, Троцкий изгнан из страны, Зиновьев с Каменевым мертвы, он, Бухарин, давно уже не оппозиция Сталину, а истребление партийных кадров, начавшееся в прошлом году, продолжается в ужасающих масштабах. Причем, лучших, наиболее революционных кадров.
Случись завтра революция в Германии, кто пойдет на тамошние баррикады? Где логика, в чем диалектика исторического развития?
Вдруг желтый свет, излучаемый глазами Сталина, замерцал, потек, охватывая потолок и стеллажи с книгами. Николай Иванович, до этого никогда не впадавший в мистику, зажмурил глаза и со страхом подумал: «Я схожу с ума». Через несколько секунд он открыл глаза – свет не исчез, он стал еще ярче и имел явно материальную основу: свет пробивался в невидимые лазейки сквозь плотные шторы, он шевелился на потолке, скользил по книжным полкам, усиливаясь и разрастаясь, так что казалось: вот-вот он прожжет шторы – так ярко они светились – и яростным вихрем ворвется в кабинет…
Но свет так же внезапно померк, зато послышалось нарастающее скуление автомобильного мотора. Оно вошло в мозг, сверлило его изнутри, разрывая сосуды, выдавливая закипающую кровь через уши и глаза.
Николай Иванович сжался на стуле. Сердце билось в ребра тяжелыми толчками; отчетливо слышалось, как оно натужно всхлипывает и содрогается от непосильного напряжения: вот-вот не выдержит и разорвется. Хотелось приложить руку к груди, успокоить свое сердце, защитить, но он сидел и не шевелился, завороженный и парализованный скулением автомобильного мотора.
Скуление достигло предела, однако не оборвалось на этом пределе, а стало опадать и затихло, проплыв мимо.
Установилась могильная тишина, которую можно, при желании, потрогать руками.
Так, наверное, еще ничего не понимая, чувствует себя человек, пробудившийся от летаргического сна, которого похоронили, приняв за мертвого: давящая, удушливая тишина, среди которой постепенно вызревает вселенский ужас. Он вот-вот перейдет в агонию безумия, стоит лишь пошевелить рукой и потрогать гробовые доски этой тишины.
Николай Иванович с силой сжал голову руками, выдавливая из себя копящийся в мозгу чужой ужас – ужас человека, проснувшегося в гробу, – долго сидел неподвижно, этим ужасом обессиленный.
«Надо что-то делать, – звучало в его голове все громче и настойчивее. Нельзя поддаваться ке… Нельзя поддаваться обстоятельствам-вам-вам-вам-вам-вам… Марксист и большевик-ленинец не имеет права-ва-ва-ва-ва-ва, не должен-жен-жен-жен-жен-жен…» Но что именно не должен марксист и большевик-ленинец, если иметь в виду конкретные обстоятельства – в голову не приходило. А если просто человек? Он, Николай Бухарин, есть просто человек! С некоторых пор. Он хочет жить. Он еще молод, в нем столько сил. Он привык бороться. Он готов бороться. Вот только в нужный момент почему-то все чаще забываются нужные слова и факты, способные защитить, оправдать, отклонить облыжные обвинения…
Убеждения не действовали. Они точно проваливались в черную дыру, зияющую на одной из книжных полок, и глохли в ней дробящимися звуками. Николай Иванович знал, что дыра эта образовалась оттого, что он взял с полки четыре тома Ленина. Книги лежали перед ним на столе, высясь темным бугорком. Книги можно даже пощупать – это не доски гроба. Но книги на столе не убеждали: дыра существовала помимо них, помимо воли и логики.
Из дыры как-то сами собой стали вытекать вопросы: «Бороться, но с кем? И надо ли бороться? А если прав Троцкий, убеждая в одной из своих книг, что дело не в Сталине, а в некой исторической закономерности? Выходит, что будь на месте Сталина сам Троцкий или же Николай Бухарин, все шло бы точно так же, как оно идет? Удивительная штука – историческая закономерность. Но почему она так жестока? Почему она заставляет одних революционеров уничтожать других? Какая в этом логика, не говоря уже о диалектике? А если все-таки не закономерность, а злая воля Сталина?»
Время шло. Напольные часы отбили пять раз. Почти тотчас же снова возникло скуление автомобильного мотора. Оно все усиливалось, давило на уши, но ужаса на сей раз не вызывало. Николай Иванович смотрел на потолок, ожидая светового пятна, пятно так и не появилось: видать, свет фар теперь скользил по стенам противоположных домов.
Скуление затихло.
Где-то в том же направлении испуганно просочилась сквозь тьму тонкая струйка милицейского свистка. И все. И все осталось, как было. Сон больного воображения – и ничего больше. Но вдруг представилось: завтра поскуливание мотора замрет возле его дома. И что? Что дальше? Его не станет, а будущие коммунисты, потомки, живущие в коммунистическом завтра, так и не узнают, что думал в последние дни своей свободы профессиональный революционер Николай Иванович Бухарин. Он обязан написать все, что думает сегодня, сейчас, чтобы потомки… Но что написать? Беда в том, что он ничего не думает, он не способен думать: его мозг парализован ужасом проснувшегося в гробу человека.
Вселенским ужасом.
Утром Николай Иванович, уже одетый, разбудил жену. Она испуганно смотрела на него, осунувшегося, обросшего серой щетиной, с лихорадочно горящими глазами, темными мешками под ними.
– Аня, вот тут, – он сунул ей в руки листки бумаги, исписанные плотным почерком. – Тут я написал… нечто вроде завещания… – говорил он прерывающимся шепотом. – Надо смотреть правде в глаза: не исключено, что я не вернусь домой с сегодняшнего заседания Пленума. Я уверен на… на девяносто процентов, что этого не произойдет, но десять процентов остаются… Возьми и выучи наизусть. Потом, когда-нибудь, если останешься жива… Короче говоря, я хочу, чтобы потомки знали правду. Ты понимаешь?
– Да. Но ради бога, Коля…
– Молчи-молчи-молчи! И пожалуйста, без паники: ты – жена Бухарина. Да. Ты не должна дать повода… Они тут все перероют, заберут все бумажки… У тебя прекрасная память… Я надеюсь… Я прошу тебя, умоляю…
– Ко-оля! – выдохнула женщина. – Коля, я боюсь.
– Не бойся. Все будет хорошо. Я верю, что все будет хорошо. Не может быть, чтобы революция была напрасной. Это противоречит… Впрочем… Я не прощаюсь. Жди меня к ужину.
Наклонился, торопливо поцеловал в лоб, пошел. У двери обернулся, настойчиво повторил:
– Выучи наизусть и сожги.